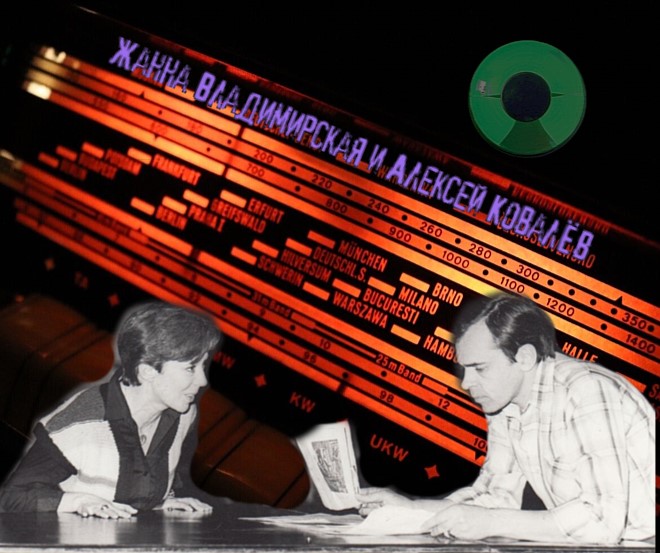Зоркость к вещам тупика
14 июля 2022 г.
*
Близко к сердцу принимаю предполагаемые обвинения в эскапизме. И продолжаю
по мере сил разбираться в этом возможном своём недостатке. И всё же что-то удерживает
меня от прямого участия в полемике по поводу врождённого (или воспитанного)
имперского сознания россиян. Убеждён, что обе стороны в споре до некоторой степени
правы, но не могу по совести полностью присоединиться ни к одной из них. Прошу также
принять к сведению, что в державном шовинизме не нахожу ничего привлекательного, и
те, кто его исповедует мне отвратительны.
Но я замечаю, что спорящие либо сознательно пренебрегают обстоятельством,
которое кажется мне важным в любые времена, либо упускают его из виду. И меня не
оставляет надежда, что будучи принятым во внимание, это обстоятельство может пролить
дополнительный свет на предмет полемики и, возможно, избавив её от удручающих
крайностей, способствовать взаимопониманию, к которому время от времени призывают
обе враждующие стороны.
Ещё раз подчеркну, что следующие соображения не призваны поддержать ту или
иную сторону в вышеупомянутом споре. Это просто отдельная тема. Если хотите – третий
взгляд на проблему, послужившую его предметом.
Речь идёт о судьбе искусства вообще и, в частности, об эстетической
восприимчивости.
«Не смейте об искусстве! – слышу я гневный окрик. – Сегодня можно говорить
только об обстреле Винницы»!
Говорить или останавливать обстрелы? К несчастью своему, я почти ничего не
могу сделать, чтобы остановить кровопролитие. То, что мне доступно, делаю, но и об этом
говорить не считаю полезным.
Что я счёл бы для себя совсем позорным – не принимать во внимание хоть и
удручающих, но преимуществ своего положения, которое оставляет возможность, помимо
причитаний, думать не только о сегодняшней Виннице, но о вчерашней и завтрашней.
Не в лучшем положении находятся и все остальные, кто не живёт в Украине, не
принимает непосредственного участия в боевых действиях и сопутствующей им
организационной или политической активности. И вряд ли мы поможем ситуации, если,
чувствуя себя пока бессильными остановить прямого агрессора и виновника трагедии,
обрушим свой уничтожающий гнев на удобный объект, не только не имеющий отношения
к событиям, но давно отсутствующий на этом свете. Это не только несправедливо, но ещё
и неразумно, потому что снимает часть необходимого давления с настоящего
преступника.
Но такой сдвиг мишени не кажется мне случайным. Об этом и пойдёт речь.
*
Если мы замечаем в одном из Рождественских стихотворений Бродского слово «ихний» –
«Морозное небо над ихним привалом
с привычкой большого склоняться над малым
сверкало звездою – и некуда деться
ей было отныне от взгляда младенца…».
– и оно останавливает наше внимание, вызывая потребность обсудить
стилистическую неразборчивость автора, это значит, что мы ждали от стихотворения не
того, что оно способно в нас совершить, что мы подходим к нему в специфическом
контексте понятных, как нам кажется, привычных представлений, клише: бродский,
рождество, христианство, нобелевский лауреат, стихи, грамотная речь… (А ведь там
можно наткнуться ещё и на «хужей», «окромя»). То есть, уже заряженными тем, что
никакого отношения не имеет к самому стихотворению. И оно проходит мимо нас. Мы его
«не слышим».
Так происходит очень часто. Не потому, что мы «не умеем воспринимать»
искусство, а потому что забываем, зачем оно нам, чего можно от него ждать. И тогда мы
берём то, что нам уже известно, что и так под рукой, что ничего не прибавляет ни миру,
ни нам самим. Иногда нам может даже что-то понравиться (Красиво! Хитро! Необычно!)
или пробудить некий сентимент по принципу сходства, узнавания (Да, да, точно как у
меня!), а то и вызвать немедленное отторжение (О! Это гнусные имперские замашки!). Но
тогда мы остаёмся в пределах всё той же тавтологии, без движения, без развития, не
рождающей ничего нового.
Чтобы услышать стих целиком, вдохнуть его предгрозовой озонный воздух, нужно
внутренне открыться, распахнуться – тогда услышишь то, чего никак не ожидал, не мог
ожидать, не знал о существовании такого – и не узнал бы без этой встречи. И тут уж будет
не до «ихних»… Что происходит дальше – зависит от тебя самого, от уровня твоего
самосознания, от твоего желания проникнуть в тайны бытия, стать полноценным
участником его бытийства.
Один из комментаторов (Artur Fred) в споре о пресловутом украинском
стихотворении уловил в нём «цирковую иронию». Это намного ближе к
непосредственному восприятию стиха. И мне кажется, на этой особенности творчества
имеет смысл задержаться.
Непрерывное испытывание, ощупывание языковых недр может побудить поэта к
перевоплощению, когда он пробует говорить от лица персонажа, который
мало напоминает его самого, а иногда являет собой его полную противоположность.
Кроме того, любому настоящему художнику свойственно обострённое чувство
Игры. Большинству из нас оно припоминается лишь по казакам-разбойникам, а в поэте
может пробудить инстинкт актёра, берущегося искренне и увлечённо изобразить
отрицательного персонажа. Не стоит упускать из виду, что эта область творчества носит
демонический характер и может в самозабвении лишить автора гармонического
равновесия. В конце концов Хойзинга утверждал, что в классическом своём варианте даже
война носила игровой характер.
Иногда автор объявляет, чьё обличие он решил примерить, иногда полагается на
интуицию читателя..
«Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья...». («Письма римскому другу»).
«Река бежит у ног моих, зараза.
Я говорю ей мысленно: бежи...». («Подражая Некрасову»).
«Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс
я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток — прошу отставки»! («Письмо генералу Z»).
« ...И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса. («Письма династии
Минь»).
«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь… Как спутались все пряди…
Как все случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму…
Удобней так?.. Я сам с собой в разладе.
Прости… Мне это все не по уму.
Спи… если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему —
тут всё преграда. Только на преграде». («Горбунов и Горчаков»).
И в том и в другом случае нам не приходит в голову приписывать эти реплики
самому автору, хотя в целом, даже в этих персонажах можно уловить некоторые его
приметы, незримо участвующие в эксперименте.
Собственно, всё «Представление» посвящено этому феномену перевоплощений и
состоит из мгновенных эпизодов с участием самых разных персонажей. В том числе, в
финале – это образ матери незаметно перетекающий в голос самого поэта:
«...От любви бывают дети.
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала?
Это — кошка, это — мышка.
Это — лагерь, это — вышка.
Это — время тихой сапой
убивает маму с папой».
Я догадываюсь, что именно этот посыл непреднамеренно ввергнул поэта в острую
политическую полемику. Приписываемая ему в этой полемике имперская
шовинистическая идеология никак не соответствует ни поэтической, ни человеческой его индивидуальности, насколько о них можно судить по всему корпусу его стихов и прямой
публицистике. А появление этого стихотворения в особо острый исторический момент и
некоторое его внутренее несовершенство оказались досадным случайным совпадением.
Вероятно, этот фрагмент в биографии поэта заслуживает осуждения. И всё же, это,
скорее, эстетический проступок, нежели политический. Об этом свидетельствует и
дальнейшая судьба стихотворения, изъятого автором из собрания своих стихов.
Готовность некоторых крайних критиков отказаться из-за этой случайности от
всего наследия поэта говорит о том, что творчество его не было вполне воспринято и
осознанно ими и прежде. Иначе зачеркнуть его было бы не так просто, и пришлось бы
более внимательно поискать причин этого недоразумения.
На вопрос, почему, в отличие от других похожих перевоплощений, не вызывавших
сомнений в отчуждённости лирического героя от личности автора, здесь совершился
такой срыв – может быть несколько ответов.
Возможно, это стихотворение получилось эстетически несовершенным из-за того,
что окончательного перевоплощения не произошло. Например, в нем есть несколько
внутренне противоречивых строк, в которых выражены чувства некоего третьего лица,
позиция которого ближе, собственно, авторской. И они плохо стыкуются с общим
направлением эмоции, лишая её необходимого гармонического единства.
«Как говорил картавый...» – это не из словаря патриота.
А следующие строки могут родиться только у кого-то, кто вообще со стороны
наблюдает за рождением стиха и даже как бы заранее критически оценивает его.
«Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане»...
Или вот эти строки, свидетельствующие об осознании некоей вины, которое
отменяет весь порыв к ламентации.
«Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой»...
Да и упоминание о Пушкине и его противопоставление Шевченко тоже никак не
соответствует скудному интеллектуальному дискурсу персонажа-обвинителя.
Таким образом, лирический герой стихотворения двоится, и оно не поднимается до
художественной стройности. Очень может быть, что именно это ощущение неудачи или
поспешности – на которые ему намекали его друзья-поэты – и заставило Бродского
запретить его публикацию. Что в пылу полемики было воспринято, как следствие
угрызений политической совести автора.
Исходный же замысел, как мне кажется, довольно точно уловил другой
комментатор (И. Булатовский):
«В этом стихотворении Бродского нет «страстных имперских чувств», есть страсть
и личная обида, которая одновременно и обида на себя. Всё это не делает эти стихи умнее
(хотя слабее тоже не делает), но избавляет их от «идеологии». Они написаны из слабой
позиции, из позиции «брани». В них нет «спора славян между собою», а самоненависть
есть... И обида здесь как раз на то, что украинцы выходят из этой зоны самоненависти
(наконец) и не с кем ее теперь по-настоящему, «по-братски» разделить».
К этому необходимо только добавить, что высказана эта страсть и обида не самим
Бродским, а выбранным им персонажем – средним гражданином «возлюбленного
отечества». И таким образом, проблема межнациональнх отношений выходит из узких
рамок имперского сознания и приобретает более глубокий психологический смысл. Иначе
говоря, это попытка художественного раскрытия рабской психологии, способной только
на зависть и сознающей свою слабость и бессилие. Развёрнутая литературная пародия.
Когда Жванецкий или Ильченко с Карцевым выдавали свои страстные монологи от
лица обывателя, никто не принимал их за политическую позицию актёров. Но это –
другой жанр. Подобного ёрничества от крупного лирического поэта мы не ждём, и
начинаем видеть в стихе то, чего там нет.
Трудно объяснить, почему о столь сильных эмоциях патриотического характера –
если бы они у поэта действительно были – он не заявил от своего лица и своим яыком. О
вторжении в Афганистан он именно так и высказывался. И уж совсем маловероятно, что
он решил укрыться за обликом постороннего лица со специфической лексикой, чтобы всётаки их выразить. Это противоречило бы свойственной его индивидуальности прямоте.
Случай с «Клеветникам России» Пушкина в качестве сравнения, по-моему,
неуместен. Он сложнее и горше. Но именно потому, что никакой попытки подставить
постороннего лирического героя у АС нет, а само стихотворение в художественном
отношении лишено каких бы то ни было противоречий.
И тем не менее, даже здесь, возможно, явила себя всё та же страсть художника к
исследованию психологических глубин. Потому что по природе своей личности поэт не
мог исповедовать агрессивного националистического патриотизма, но творческий гений
мог подтолкнуть его к эксперименту перевоплощения в яростного патриота. Я оставляю в
стороне версию мимолётного верноподданничества, хотя, как нам известно, от этого
морока не удерживались и другие достойные художники. Но может быть и это не столько
моральная слабость, сколько потребность испытать все переживания, вплоть до рабского
унижения перед властью. Демоническая сторона искусства заставляет иногда играть с
огнём.
При всей неприглядности подобных промахов, не стоит забывать, что
экспериментировали они всё же в области стихов, а не поступков. И если служили делу
зла, то не своими руками, а руками его вершителей, которые охотно и неразборчиво
пользовались оплошностью художника, никак не сопоставимой с нравственными
изъянами толпы. Он ведь и сам всё про себя знает и судит себя самым высоким судом:
«Толпа... в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При
открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете,
подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе... Презирать – braver – суд людей не
трудно; презирать суд собственный невозможно». (Пушкин в письме Вяземскому).
Ведь поэт прямо говорит о собственном суде. Эта последняя строчка как-то
ускользает от внимания критиков.
Они совершали ошибки. Множество их собратьев по перу таких ошибок не
совершали. Но и стихи их не поднимаются до уровня высокой поэзии. Таков опасный путь
художника.
Возможно, такая же эстетическая глухота заставляет углядеть мотив эгоистической
обиды и презрительного собственничества в стихотворении «Дорогая, я вышел...»
В этом случае вся поэтическая прелесть ландшафта, времени и расстояния
проходит мимо внимания читателя.
Зачем обиженный и раздражённый автор начинает обращение со слова «Дорогая» и
с описания вечернего пейзажа и одинокой прогулки на другом конце света? И к этому же
пейзажу возвращается в конце стихотворения?
Речь идёт о глубокой печали. О безжалостном времени, отнимающем у человека
самые драгоценные переживания:
«С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
ещё одна жизнь. И я эту долю прожил...».
А драгоценным это прошлое было до такой степени, что говорить о нём прямым
лирическим языком (как сравнительно недавно, когда связь в памяти ещё не прервалась)
уже нельзя, нескромно. Лучше обозначить его упрощёнными деталями с примесью
насмешки. В конце концов, оба знают о чём идёт речь, и это остаётся за скобками.
«...Ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела».
Четверть века – не шутка. Однако, вопреки утверждению, что «ничего с тобой
больше не связано», и что «я эту долю прожил»...
«Время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своём бесправии...».
И уж совсем непонятная для сердитого ревнивца – последняя строка. А последняя
строка в стихотворении не бывает случайной:
«Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива».
Есть ли смысл выбирать из стихотворения подходящие для критического
негодования слова и пренебрегать целым?
А целое создаёт пронзительный образ потерянной любви.
* * *
Возвращаясь к началу, хочу ещё раз напомнить, что цель моя – не оспорить мнение
остро критикующих эти два стихотворения, а всего лишь расширить контекст беседы.
Автор статьи, послужившей поводом к ожесточёной полемике, не без оснований
утверждает, что «Спрос с того, кто задал себе высочайшую планку, последовательно
позиционировал себя над и вне страны-империи и погоста и неоднократно заявлял, «ты
сам себе высший суд» – иной».
Но разве с того, кто берётся этот иной спрос вершить, он не должен быть ещё
выше? Во всяком случае – включать признание самостоятельной ценности искусства во
всей его сложности. Иначе мы подвергаем себя опасности совершать подмены, подобные
следующей:
«Перефразируя Нобелевскую лекцию Бродского, сегодня придется признать:
иногда всё же этический выбор – мать поэтического, а не наоборот».
Если уж перефразировать, то лучше бы взять оригинальную фразу, которая звучит
так: «Эстетика – мать этики», что гораздо шире и глубже моральных интерпретаций
художественного произведения.
Следуя путём такой редукции, мы можем пренебречь и высокой лирической силой
строчек поэта «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. – И нам сочувствие
даётся, как нам даётся благодать», и поправить его: «Но иногда дано. Иногда это
обязанность. Особенно если догадал Бог с умом и талантом...».
Вот уже и Тютчев маху дал.
Ещё одно свидетельство широко распространяющегося пренебрежения к эстетике
содержится в заявлении исследовательницы литературы из Колумбийского университета:
«Как это часто бывает в литературном труде, а особенно в поэзии Бродского, это
стихотворение сообщает читателям гораздо больше о самом авторе, а не о предмете».
Неожиданная точка зрения для исследовательницы стихов. Разумеется,
стихотворение сообщает нечто об авторе, но это никогда не бывает его целью. Поэт пишет
всё же не о себе. Воля читателя – скорее, произвол – стараться выудить как можно больше
о самом авторе. Но это не способ воспринимать художественное произведение. Разве что
к «предметам» у читателя вообще особого интереса нет. А ведь то, что может сообщить о
«предмете» художник, никаким иным способом узнать нельзя. Этой цели искусство и
служит человечеству.
Но мы в неведении своём спешим вынести ему приговор.
«...Литература никогда не бывает невинной, даже если очень хочет таковой быть
(особенно, если хочет!)» – пишет украинская поэтесса.
Уистан Оден так не считал. Но что нам Оден?
Можно успокаивать себя тем, что проблема эстетической чувствительности
относится только к области искусства и волновать должна лишь его поклонников. А уж во
времена душераздирающих человеческих страданий о ней вообще лучше не заикаться. Но,
по-видимому, долгое отсутствие эстетической практики атрофирует вообще способность
чувствовать или, по крайней мере, сильно её сужает. Это становится заметным в
неистовстве, до которого доходит нынешняя полемика, когда умершего поэта называют
«навсегда подписавшимся своими строчками, как титрами, под кадрами бомбежек Киева и
Харькова, под репортажами из подвалов, под фотографиями тел на улицах Бучи, под
руинами Ирпеня и Бородянки, под свидетельствами о массовых изнасилованиях...» и так
далее, и так далее...
Каково ему там лежится теперь, на кладбище в Венеции, где, по соседству, автор
этого проклятия оговаривает свою анафему служебным признанием в любви к поэту?
* * *
Воспользуюсь и я частью Нобелевской речи злополучного поэта, где он говорил о
том, что поэзия пользуется сразу тремя методами познания: аналитическим, интуитивным
и посредством откровения, тяготея преимущественно ко второму и третьему. Тут, как
будто, спорить не с чем. Но интуиция и тем более – откровение требуют некоторой особой
предрасположенности. По меньшей мере – усиленной сосредоточенности, отсутствующей
при рядовом, обыденном прочтении. Можно было бы сказать, что такого рода
сосредоточенность – временный отказ от сиюминутного внешнего опыта, как и уже от
приобретённого, до некоторой степени обезоруживает человека, временно оставляет его
наедине с ещё неведомым, что может вызывать инстинктивные опасения. Повторяющееся
преодоление этого страха – ничем, по существу не грозящего, и в этом ещё одно
достоинство искусства – выращивает в человеке нравственную отвагу, которая
впоследствии распространяется на все его реакции.
Когда мы сейчас предполагаем, что скрытый страх заставляет россиян отталкивать
информацию о военных зверствах, мы, кроме прочего, возможно встречаемся с
результатом противоположной длительной практики уступания страху в малом. В этом
случае эстетическая робость приводит к атрофированию этической выдержки и стойкости.
Но похоже, что и мы, прозревающие такую слабость наших современников,
поражены тем же недугом, если причину его ищем не в нашей неполноценной
способности воспринимать произведение искусства, а в самом произведении – или в его
авторе. Они – лёгкая и безответная жертва. Беда в том, что, обвиняя их, мы ничего не
приобретаем и остаёмся всё в том же состоянии неразрешённой совести.
А каково ему лежится? Да никаково. Там его нет. Но загадочным образом он
продолжает отвечать на наши недоумения – если мы всё же постараемся услышать то, что
говорит стих, а не то, к чему подталкивает нас гремящее и обманывающее время.
«...Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.
Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра».
Не знаю, как у вас, а у меня слёзы о растерзанном ребёнке в коляске смешиваются
со слезами, вызванными этим стихотворением, со скорбью о них всех, неустанно
старавшихся вытащить нас из эстетической – и этической – анемии.
Свидетельство о публикации №125013004213