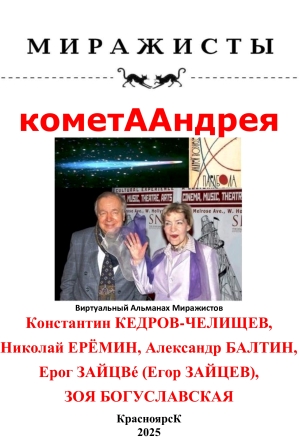КометААндрея Альманах Миражистов
кометААндрея
Виртуальный Альманах Миражистов
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,
Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,
Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ
КрасноярсК
2025
кометААндрея
Виртуальный Альманах Миражистов
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,
Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,
Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ
2025
кометААндрея
Виртуальный Альманах Миражистов
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,
Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,
Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ
Автор бренда МИРАЖИСТЫ, составитель и издатель Николай Ерёмин
адрес
nikolaier@mal.ru
телефон 8 950 401 301 7
Кошек нарисовала Кристина Зейтунян-Белоус
© Коллектив авторов 2025г
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ
Альманах Миражистов
Бесконечная 1960 г
Кедров-Челищев
Константин Кедров БЕСКОНЕЧНАЯ
1960 г
ежедневно слышу тебя
как-то странно звучат слова
закрываю глаза
и всюду передо мной
эти крики рожденные тишиной
эти краски рожденные темнотой
вот сижу оставленный всеми
в глубине понятий и слов
исчезает видимый мир
но я могу говорить
и мир рождается снова
На обнаженный нерв нанизывая звуки
все глубже чувствую великий диссонанс
и радость возвышения над миром –
Поэзия – вершина бытия
и вагоны, стиснутые в железном рукопожатье
и деревья и станция и тишина
и ты в тишине уходящей ночи
и все что связывает с тобой
и миллионы которые спят рабами
ничего не понимая в такой любви
нуль миров вращается в небе звезд
это взгляд возвращается к своему истоку
листопад ягуаров
полусолнечный бред весны
выдыхание песни
из легких съеденных туберкулезом
и бессмертье будущего конца
и синий день и красная волна
зеленый луч упал на попугая
и попугай заговорил стихами
и синий день и красная волна
и я бегу бросаясь под трамваи
и синий день и красная волна
где голубой укрылся папоротник
и в пору рек века остановились
мы были встречей ящериц на камне
около окон пролет полета
и этот стон
среди серых стен
какой-то прохожий
шагнул в пространство
и рухнул замертво
сквозь столетья
вода текла
сквозь бетон и вечность
а дворник сметал с тротуара звезды
и в мокром асфальте ломались люди
я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушел под
воздвигая над
двое нас – это очень много
это больше чем можно
больше чем я могу
никогда не приближусь к тебе
ближе чем цветок приближается к солнцу
никогда не назову тебя именем
которым хочу назвать
всюду где чувствуется несовершенство
ты возникаешь
как тоска по стройному миру
на черном озере белый лебедь
на белом озере черный лебедь
белый лебедь плывет
и черный лебедь плывет
но если взглянуть в отраженье
все будет наоборот –
на белом озере черный лебедь
на черном белый плывет
человек оглянулся
и увидел себя в себе
это было давно
в очень прошлом
было давно
человек был другой
и другой был тоже другой
так они оглянулись
спрашивая друг друга
и никто не мог понять
кто прошлый
кто настоящий
кто-то спрашивал
но ему отвечал другой
и слушал уже другой
потому в голове был хаос
прошлое перепуталось с настоящим
человек оглянулся
и увидел себя в себе
одногорбый верблюд
и двугорбый верблюд
и двуногий
идет одногорбый верблюд
глотая пески и туманы
идет одноногий верблюд
все в память и в сон превращая
а в городе пляшет луна
над городом плачет луна
слезами домов
и людей
очень маленьких
и нереальных
но гордых собой до конца
и молча идем мы
сквозь песчаную бурю дождя
немного аисты
немного верблюды
и молча бредут мне навстречу
одногорбый верблюд
одноногий верблюд
и двуногий
идет одногорбый верблюд
глотая пески и туманы
идет одноногий верблюд
все в память и в сон превращая
я кладбище погибших кораблей
я сон ее
ее печаль и свет
я для нее туман и колокол в тумане
а для себя я ничего
я знаю
я кладбище погибших кораблей
нуль миров вращается звезд
это взгляд возвращается к своему истоку
© Copyright: Кедров-Челищев, 2021
Свидетельство о публикации №121040301125
Андрей Вознесенский о поэзии Константина Кедрова:
"Константина Кедрова можно назвать Иоанном Крестителем новой волны метаметафорической поэзии.
Аннотация к сборнику Транстарасконщина Москва-Париж Вивризм 1988г.
Речь Андрея Вознесенского в ЦДЛ на презентации "Компьютера любви"
"Это действительно событие огромное, и у меня трепет в руках, когда я это смотрю. Но я думаю, что вот это сочетание «компьютер любви» – это не просто. Это вещь давняя, может быть, но она издана именно сейчас, потому что именно сейчас это сочетание для России точное. Потому что именно, думаю, вот школьники, студенты – они сейчас приникли к компьютеру, и именно сейчас – возраст любви. Перефразирую нашу известную формулу, можно сказать: Россия – это должна быть любовь плюс компьютеризация всей страны. Кедров не просто поэт такой герметический, это орган какого-то литературного процесса. Я думаю, что если бы его не было, у нас все пошло бы наперекосяк… И потом, одно слово, полслова – это минимализм, это образ сжатый донельзя, который и в 21-ом веке останется, а не те тонны слов лишних, которые написаны."
ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ
Посвящается Константину Кедрову:
Мы сидим в прямом эфире
Мы для вас как на корриде
Мы сейчас в любой квартире
Говорите, говорите…
Костя, не противься бреду
их беде пособолезнуй
в наших критиках (по Фрейду!)
их история болезни
Вязнем, уши растопыря
В фосфорическом свету
Точно бабочки в эфире
Или в баночке в спирту
Вся Россия в эйфории
Митингуют поварихи
говорящие вороны
гуси с шеей Нефертити
нас за всех приговорили
отвечать здесь говорите
Иль под взглядами Эсфири
Раньше всех наших начал
Так Христос в прямом эфире
Фарисеям отвечал
Костя, Костя, как помирим
эту истину и ту
Станем мыслящим эфиром
пролетая темноту
ТВ ЛАД запись программы Другой голос 1994
"Поэзия Кедрова – это полный сгусток поэтической энергии, без примеси совершенно, без обложки, без конфетки, которая покрыта целлофаном или чем-то. Чистая поэзия в чистом виде. Чистый витамин поэзии. Это творческая анергия новой поэзии и значит новой России.
«Видеопоэзия Константина Кедрова». Сюжет российского
телевидения, телепрограмма «Лад», 1994 г. Другой голос
"Когда-то было сказано, что Есенин – это орган, орган чувственный, это уже не человек, это орган. Орган поэзии сейчас – это Кедров. Это удивительная личность. Он еще доктор философских наук. По-моему, ни один поэт в России не был таким умным и образованным. Вот сейчас вы услышите «Компьютер любви». Это удивительная вещь, это божественное такое, разложенное на математику, это прекрасно. Я хочу, чтобы вы послушали его и полюбили."
Выступление на Первом всемирном дне поэзии ЮНЕСКО в Театре Юрия Любимова на Таганке 21 марта 2000г Видео программы ТВ Культура.
На даче у Пастернака Кедров и Вознесенский 30 мая
Кедров-Челищев
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/784.html
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6 кедров читает все стихи
К.Кедров Вопль тишины
Андрей Вознесенский, Константин Кедров, дача Пастернака.
Фото Виктора Ахломова
Большие поэты оставляют после себя праздники. На даче у Пастернака мы с Андреем Вознесенским обязательно отмечаем 30 мая ; день памяти переделкинского небожителя. В этом году 49-я годовщина. Для кого-то это так называемый датский календарь ; от слова , а для нас вся наша жизнь. В начале жизни школу помню я ; писал Пушкин о лицее. А для моего поколения школой была проработка во всех газетах и гибель Бориса Пастернака. Именно гибель. Он жил бы еще и жил. Но кто же в преклонном возрасте выдержит такой натиск, когда тебя по телевизору с правительственной трибуны сравнивают со свиньей. Андрей Вознесенский полушепотом, через усилитель произнес речь о Пастернаке. Перескажу так, как запомнилось: Пастернак уходил при трагических обстоятельствах. Его заставили отказаться от Нобелевской премии. Роман;Доктор Живаго; я слушал в его исполнении во время тайных читок и до сих пор многие главы помню почти наизусть. Это роман о гибели русской интеллигенции и самого Пастернака, но он остался жить в своем романе. У него было такое необыкновенное лицо. Оно все светилось, менялось, как пламя свечи. Свеча Пастернака.
Стараниями Натальи Пастернак, как всегда, ожил рояль Нейгауза. Пришли музыканты и композиторы из Московской консерватории. Звучали арии из оперы ;Доктор Живаго, а мы с Андреем перелистывали новый выпуск ;Журнала ПОэтов, посвященный палиндрому. Я показал Вознесенскому свой палиндром ;Ешь циник Ницше; и палиндром Сергея Капицы ;А Клава давалка. Вознесенский улыбнулся и стал искать свой текст, надиктованный мне шепотом по телефону ;Тинейджер трахнул телку через пейджер. Забавно, что пейджеры уже отошли. Современные тексты быстро устаревают. Но читаем же мы Пушкина про всяких там задумчивых дриад. Хотя я уверен, что многие читатели не знают, кто такие дриады, и путают их с триадами.
Потом Вознесенский шепнул мне:Останешься на чай? Традиционное чаепитие на веранде, конечно, сопровождалось тостами. Наташа Пастернак попросила меня сказать что-нибудь о музыке и поэзии. Я сказал, что взрыв авангарда в начале века и русский футуризм были прорывами к музыке. Пастернак был прежде всего учеником Скрябина и поэтому футуристом, потому что именно футуристы расковали стих, приблизив его к партитуре. Когда Чайковский писал оперу Евгений Онегин&, он удивился однообразию приемов и интонаций поэтики того времени. И написал свой сценарий. Если бы Чайковский писал на стихи Маяковского, Пастернака или Вознесенского, ему не пришлось бы переделывать текст. Пастернак начинал как ученик Скрябина. Я клавишей стаю кормил с руки». Его поэзия порывиста, как ;Поэма экстаза» Скрябина. Пушкин говорил: Из всех искусств/ одной любви музыка уступает,/ но и любовь ; мелодия». Скажем, перефразируя гения: одной поэзии музыка уступает, но и поэзия ; мелодия.
Вознесенский очень оживился на слова Пушкина о мелодии и любви. Тут Наташа Пастернак спросила у Андрея, нравится ли ему книга Быкова о Пастернаке. К моему удивлению, он одобрительно закивал головой. Ну да. Понятно. Надоел хрестоматийный глянец, надоели ахи и охи. Постмодернистская семипудовая биография под названием национальный бестселлер выглядит современно. Так современно, что мне и читать не хочется. Ведь основной ее скрытый пафос в знаменитой злорадной пушкинской фразе ; он так же мерзок, как мы. Врете! Он, гений, мерзок не так, как вы, а по-своему. Я умышленно не цитирую, а пересказываю здесь Пушкина по-своему, как запомнилось.
А Виктор Ахломов тем временем озарял нас вспышками своего фотоаппарата, и лицо Пастернака на фото действительно походило на язычок пламени. Свеча горела; И вспоминаю я тот знаменитый вечер;Минута немолчания, или Крик по ненапечатанным стихам», что провели мы с Вознесенским в 1988 году во Дворце молодежи. Впервые после почти пожизненного молчания вышли на большую сцену Сапгир, Айги, Холин, Парщиков ; всех не упомню. Выключили свет и Вознесенский зажег громадную свечу Пастернака.
А теперь, сказал Андрей; давайте встанем и издадим вопль по всем ненапечатанным стихам советской эпохи.
Полутысячный зал встал, сверкая очками и лысинами, и издал протяжный и мучительный крик.
Боюсь, что сегодня, когда все напечатано и есть интернет, этот вопль уже никто не услышит, а если и услышит, то не поймет. Сегодня все напечатано ; ничто не прочитано.
Сегодня время тишины, а не вопля. Тишины по непрочитанным текстам. Тихо на даче Пастернака. Голос Вознесенского даже через все усилители звучит как шепот. Должен, хоть кто-то/ В самой орущей в мире стане/ Быть безголосым
© Copyright: Кедров-Челищев, 2009
Свидетельство о публикации №109062503870
Николай ЕРЁМИН
Альманах Миражистов
КРУГ ИНТЕРЕСОВ
ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЛУСОНЕТ
На плечах - коромысло:
Время не торопя,
Вёдра, полные смысла,
Я несу… И себя -
От колодца - опять:
Благо взять… Благо дать…
Только б не расплескать!
2025
ГОРОДСКИЕ СКВОЗНЯКИ
Сквозняки гуляют по квартире
И не могут выхода найти…
Ветер - за окном – в подлунном мире
Вечный зов и воля впереди…
Так и улетел бы сквозь стекло
Всем пленённым сквознякам назло!..
2025
СОНЕТ СО-СТРАДАНИЯ
Ты всю ночь провыл по-волчьи на Луну...
По-собачьи, по-щенячьи, ну-и-ну...
Да-да-да, провыл-проплакал... А Луна –
Равнодушная, внимала, вот те на!
И совсем была в тебя не влюблена...
Кто ты ей? Щенок, собака или волк?
Вой, не вой – какой из воя выйдет толк?
Хорошо, что начинается рассвет…
Полегчало? Да? Тогда пиши сонет...
Ты всегда ведь был поэтом! Или нет?
…Парадоксальная эпоха:
Днём – хорошо, а ночью - плохо...
Всем со-страдает, чуть дыша,
Твоя контрастная душа...
***
Круг интересов уже, уже...
Действительность всё хуже, хуже...
Всё лучше, лучше сон во сне –
Под солнцем...Или при луне...
Где ты – младенец ли, старик:
Или навек, или на миг...
***
Стихи – отголоски любви
Соловушек и соловьёв –
В случайные строчки легли...
В мелодии песен без слов...
Где ты превращалась и я
В соловушку и в соловья...
СТАТЬ ПАМЯТНИКОМ
В империи оплаченной молвы -
Распад и разложение, увы…
Средь номинантов и лауреатов –
Война – до смерти – матов, компроматов…
И отчего, зачем? На полпути
Все погибают, Господи, прости…
Ведь на Аллее Славы – не секрет –
Давно для конкурентов места нет…
И всё ж летит поэт – в мечту, в мираж…
Стать Памятником – высший пилотаж…
СОНЕТ ПРО СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ
Вокруг – мошенники и воры
В законе, судьи, прокуроры…
И адвокаты… Все – на «вы»
И все повязаны, увы…
Скорей домой, о, Ангел мой,
Пойдём… Поговори со мной!
Как так случилось? Не пойму:
Сменяв светлицу на темницу,
Один мой друг попал в тюрьму…
Другой попал в психобольницу…
А я – шатаюсь, сам не свой –
Между больницей и тюрьмой
И повторяю: – Свят-свят-свят! –
Никто ни в чём не виноват…
СОНЕТ ПРО РЕТРО FM
В телевизоре - покойники…
И по радио – покойники
Славу СССР поют…
Престарелые поклонники –
Генералы и полковники
О минувшем слёзы льют…
И певец почётных зон,
Нестареющий Кобзон,
Их на подвиги зовёт –
В даль, в космический полёт…
В колокольный перезвон…
И душа стремится вон
Вслед за ними…Суть проста:
Там – и память, и мечта…
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Мы живём, Человеки убогие,
Восхищаясь новинкой любой…
Устаревшие технологии
Оставляя, увы, за собой…
Чтобы с Богом, от счастья лучась,
Так ли, этак ли, выйти на связь…
ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ
***
Молва твердит: - Поэтов множество…
И все – бездарные ничтожества!
А кто от Бога одарён,
Тот – вне пространств и вне времён…
Январь 2025 КрасноЯрск
На фоне дыма и огня
Николай Ерёмин
НА ФОНЕ ДЫМА И ОГНЯ Николай ЕРЁМИН
СОНЕТ ПРО ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Птицы с человечьими глазами
Детскими запели голосами
И зовут куда-то за собой…
Точно я – такой или сякой –
Должен подчиниться сей же миг,
Позабыть что я - почти старик,
Но могу вернуться и вернуть
И мечты, и молодость, и силу…
Совершить в душе обратный путь
И найти забытую могилу,
Воскресить в слезах отца и мать…
Рядом жить - иного не желать…
И внимать, как с некоторых пор
Подпевает взрослым детский хор…
2025
БОЛЬНЫЕ
«С ума бы не сойти!»
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
«Мои больные – сумасшедшие,
Чего-то в жизни не нашедшие…»
Лев ТАРАН
А мои больные, Лёва, -
Кто живёт путём и клёво,
Обнимают благодать…
И боятся потерять…
И готовы – хоть убить –
Свою душу погубить,
Лишь бы только на пути
Что-нибудь ещё найти,
Обогнать того, кто шёл –
Потерял и не нашёл,
И среди безумных дел
Неслучайно заболел…
Закрываются границы…
Сокращаются больницы…
Нет лекарства, как на грех,
Излечить ни тех, ни тех…
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ, год 2000
Сколько лет прошло!
А я - о-го-го! -
До сих пор под впечатлением от Дня поэзии Первого -
Как Кедров читает метаметафорическое стихотворение
Со сцены космического вдохновения...
А Вознесенский с восторгом и удивлением
Смотрит на Кедрова...
О чём свидетельствует на фоне улыбок
Чудом сохранившийся
Любительский фотоснимок...
НАД КНИГОЙ «ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС»
«Метаметафора – амфора нового смысла
Константин КЕДРОВ»
Слышу Кедрова голос...
Вознесенского возглас...
В сердце – комп, точно компас...
Поэтический космос...
- Хватит снами одними
Жить! Даёшь перемены!
Все поэты отныне –
Суперстар, супермены...
Лень, банальность и косность,
Вы – движения тормоз...
Здравствуй, Вечности возраст,
Поэтический космос!
Из лирической амфоры
Свежесть Метаметафоры,
Хоть вдвоём, хоть втроём,
Выпив, - снова нальём!
2018 -2022-2025
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
"Ищешь Индию –
Найдёшь Америку!"
А. Вознесенский
Радость и обиду,
Сердце, не скрывай…
Я искал Флориду –
А приплыл в Китай!
Ай-яй-яй-яй-яй!
ВЕСЕННИЕ ИЕРОГЛИФЫ
«Каждому времени свой блаженный»
Константин Кедров
***
Собор Василия Блаженного,
Рисован Константином Кедровым,
Воспет Андреем Вознесенским,
Стал для меня лицом Москвы…
Я жил внутри – он был снаружи…
Я жил снаружи, он – во мне,
Соединяя наши души,
Как наяву, так и во сне…
На поэтической волне…
Блажен, кто верует в себя,
Метаметафору любя!
2017
УРОК ИСТОРИИ
«С ума бы не сойти!»
Андрей Вознесенский «Молитва»
Страною
Правил сумасшедший,
Увы, и все про это знали…
Он
То расстреливал, то вешал…
И все от страха трепетали…
И вспоминали
Стыд и срам,
Когда взрывали Божий храм…
И повторяли на пути
Домой:
- С ума бы не сойти…
АВТОПОРТРЕТ
Григорию ШУВАЛОВУ
с пожеланием вдохновения и здоровья
Хорошо быть высоким, как Маяковский...
Гениальным, как Цыбулевский...
Умным, как Бродский...
Сумасшедшим, как Кандинский...
Одарённым, как Тарковский...
Дальновидным, как Твардовский...
Песенным, как Исаковский...
Оригинальным, как Вознесенский...
Фанатичным, как Высоцкий...
Талантливым, как Юдовский...
Удачливым, как Кублановский...
Эрудированным, как Гандлевский...
Выносливым, как Горбовский...
Метаметафоричным,
Как Бердичевский-Кедров-Челищев хорошо быть...
И вообще,
Быть –
Хорошо!
2018-2025
***
Круг интересов шире, шире…
Как хорошо в подлунном мире!
Где звёзды – не пересчитать –
Даруют сердцу благодать
И просят совершить полёт
К одной из них…Который год…
Николай ЕРЁМИН Январь 2025 г КрасноАдск-КрасноРайск-КрасноЯрск
© Copyright: Николай Ерёмин, 2025
Свидетельство о публикации №125012605364
Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Редактировать / Удалить
Другие произведения автора Николай Ерёмин
Рецензии
Написать рецензию
Другие произведения автора Николай Ерёмин
Авторы Произведения Рецензии Поис
Александр БАЛТИН Альманах Миражистов
* * *
Ни на что большое не рассчитывай,
Созидая свой словесный сад.
Но – природу языка учитывай,
Слов окрас узнавши, аромат.
Столь природа языка весома,
Сколь от сердца мирозданья дан.
Он и сам подобье дома – дома,
Что не зрим, вмещает высь и даль.
Все мы в языке, он в нас – огромный,
Нежный, и могуществен, и свят.
И поэт - с мучительно-неровной
Собственной судьбой – подобной рад:
Ибо он работает на диво –
Золотое диво языка:
Медленно, упорно, терпеливо
Прорастая в дальние века.
* * *
Коричневый, с глазками, нежен
В разводах дивных махаон.
И на земле таится он –
Май впереди, как жизнь, безбрежен.
Сегодня первое число.
С отцом склоняется мальчишка.
Весенняя повсюду книжка
Открыта, злу судеб назло.
На махаона и малыш,
И папа смотрят восхищённо.
Над ними небеса бездонно
Свою развёртывают тишь.
А мимо них идут – всегда
Помпезно-многолюден город.
А махаон красавец гордо
Взлетает – в небо, в никуда.
* * *
Я в поликлинике смотрел,
Как сыплется в часах песок.
Мне прогревали горло – зрел,
Вдруг вспомню детства стебелёк.
По перешейку тёк песок,
Потом уже – песок судьбы
Не задержать и на чуток,
Как не свернуть с родной тропы.
ВСЕОБЩАЯ КАРУСЕЛЬ
С карусели рвущийся закат
Майский роскошь ночи обещает.
Малыши до вечера летят
Кругом карусели.
Всё мелькает.
Карусель всеобщая вполне
Пляску смерти мне напоминает.
…на закуску – хлеб с икрой минтая,
И скелет подносит рюмку мне.
Власть имущий, проиграв другим,
С карусели резко вниз слетает.
Воронья над ним мелькает стая,
Чёрный грай не может быть иным.
Низверженье мудрецов, царей
С карусели общей, как банальность.
Трисмегист, касавшийся лучей,
Мира нашего постиг брутальность.
Кружится, мелькает карусель.
Помните, мы в Византии жили?
И хвосты павлиньи столь манили,
Сколь пласты небес для живших цель.
Карусель не замедляет ход,
И её неистовство пугает.
Вдруг вращенье ярое сорвёт
Стержень? Но сего никто не знает.
ПРАВО «ПОЮЩИХ В ОРЕШНИКЕ»
Орешник, стремящийся к небесам, как все растения;
голоса,
раздающиеся внутри него –
насколько они поднимаются в небеса,
соответствуя стремлению ветвей?
«Поющие в орешнике» - очередной альманах,
выпущенный неустанным Николаем Ерёминым;
и открывает его, мешая действительность и фантазии,
метафизику и эксперименты с разноритменным звучанием стиха
Константин Кедров-Челищев:
Сердце никому не доверяет
Доверяя тот час проверяет
Я давно уже не проверяю
Я себе как Богу доверяю
Сам себе как Богу доверяю
Взгляд поднимешь немножечко выше
Там летят перелётные крыши…
Фантасмагорична поэзия поэта,
словно – реальность не слишком устраивает его,
будто требуется больший масштаб: для реализации собственного «я»,
для расшифровки собственной души…
Палата №6, переосмысленная современным стихом:
Николай Ерёмин работает на совмещении –
или на стыке –
иронии и метафизики,
причём,
первая порой сливается со второй,
образуя своеобразный симбиоз:
В психбольнице две персоны
Выясняли отношения:
– Я – министр обороны!
Я – министр нападения!
А главврач твердил, что он –
Бонапарт Наполеон…
Бесконечность жизни превращается в оригинальный вариант Уробороса,
вечный знак словно вспыхивает
за
плетением поэтических строк:
– Там у смерти начало,
Где у жизни конец! –
Так, ни много ни мало,
Пояснил мне Творец…
– А у жизни начало
Там, где смерти конец…
Козьма Прутков завершает альманах своими вечными,
не ветшающими, всегда живыми афоризмами:
любое время готово, увы, соответствовать им…
Орешник стремится к небесам,
поэты стремятся к небесам,
но
метафизического плана, -
и альманах
хорошо показывает эти стремления,
противоречащие суете реальности.
Александр Балтин город Москва
Ерог ЗАЙЦВЕ- Егор ЗАЙЦЕВ
Альманах Миражистов
анонс
Концепт-концерт Ерога Зайцв; «Стихи и другие хитрости»
Авторский вечер Ерога Зайцв;. Попытка пересборки жанра поэтического вечера. Стихи из двух готовящихся книг. Старые и новые переводы. Перформативное и филологическое. Автокомментарий и автокритика.
бог
медленно
снимает
на пленку как пленку
меня
нового дня с нового дня
снимает
медленно
бог
Ерог Зайцв; (Егор Зайцев) — поэт, переводчик, драматург, преподаватель, член арт-группы «Кооператив Ерог и Кардымон», лауреат премии «Золотая маска» («Эксперимент»), участник Венецианской Биеннале-2022 (либретто).
Первым сезоном в рамках программы [По направлению от образа] станет цикл встреч «К слову,», подготовленный поэтом Ерогом Зайцв;, который призван раскрыть поэтические возможности слова, ставшего предметом изображения. Речь пойдет о стихах, вырванных из живой речи, звуковых стихах, стихах-картинках, стихах, отказывающихся отражать реальный мир и создающих новую реальность. Отдельное внимание будет уделено современной немецкой драматургии, ставящей во главу угла речь и слово в противовес сюжету и персонажу.
Фотограф: Андрей Натоцинский.
Поэт и переводчик Ерог Зайцв; расскажет о стихах, в которых фокус внимания переходит с художественного образа на само слово.
Словообразовательная лаборатория Велимира Хлебникова, поэтическая критика чистого разума Хармса и Введенского, немецкая конкретная поэзия Ойгена Гомрингера и стихия речи, ухваченная русским конкретизмом. Какой может быть поэзия?
Ерог Зайцв; (Егор Зайцев) — поэт, переводчик, драматург, преподаватель. Член арт-группы «Кооператив Ерог и Кардымон» — livres d'artiste: «Травостой», «Перегной»; выставки: «Междуречие», «Свал слов»; спектакли: «Инсектопедия», «Heart-Shaped Box», «Дама с собачкой. Кинопробы».
Переводы: «Кондор», «Сумерки человечества», «Ворпсведе» (libra). Стихи: «ГРЁЗА», «Зеркало», «;;;;;;; as is», «Демагог», TXT, FFNM, «Флаги», «Формаслов», «НАТЕ», «полутона».
Преподаватель ШЦПМ, ведущий ЛИТО в Доме творчества «Переделкино», лауреат премии «Золотая маска» («Эксперимент»), участник Венецианской Биеннале-2022 (либретто).
1
***
то
либо
нибудь
то либо не будь,
либо будь не то
то ли я
либо
та ли я?
небо ли (то ли?), боль ли (та ли?)
то ли
небо
то ли
не будь
***
блю тебя
люблю тебя лю
блю тебя лю
блю тебя ли
блю тебя лю
блюя
тебя ли
блю я тебя ли
блю я тебя
люблю
тебя
я люблю тебя
***
запотело (тело)
заблестело (тело)
захотело (тело)
завертело (тело)
запыхтело (тело)
захрустело (тело)
вылетело (тело)
испустило (...)
тело опустело
Моя страшна
место рождение блока
место хранения шлака
моя страшна
за;води гумилева
заводы стали
страшна моя
могила мандельштама
захоронение шлама
моя
искреннее искоренение
искрение, возгорание
страшно
Утверждение бытия
Я
ЕСТЬ
Я
ЕСТЬ
Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ
Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ
Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ
Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я
ЕСТЬ
вольно.
***
бегут солдаты под дождём
по лицу лейтенанта
бегут солдаты ливня —
капли в косых кителях
если полковник громит —
это гром
но молния —
это всё-таки я
подожду, пока прибежит последний солдат
побегу, но по небу:
cберегу
этот дождь
***
что кроме
ветра в траве
траветра в траве
тра в тра ве ве тра ве
тра в тра ве тра в тра ве тра в
спомню?
***
В толпе и в тепле.
***
О, как и сладостно, и больно...
О; как!
О, никогда мне не достичь...
И в этом, собственно, боль.
Но как стучит сердце, как будто...
Как-как? Будто.
Невыносимо — достигать и...
Вот тут-то вся сладость
И не...
и нега.
Великий предшественник
три человека пустая
аудитория гегель
поспелов листья
прелые, нет, гнилые
деградация смысла
нет, градация грусти
старости желтой красной
алой землистой черной
Пре[по]давание
передать знание, да не...
передать знание, да, но...
передать знание, но не
предать знание
дано передавать знание
дано: знание
но: не предать
не дано...
знание
но
ты не я
да и
я не я
не предать, но
не передать
но знание...
да не знание
незнание
***
Передовая форма сосулек
передает смысл зимы.
Полусфера слезы
на носу февраля.
Острая новость повисла;
над головой марта.
***
сноу
сноуым
сновым
с новым годом!
годом
годдом
гаддэм
***
он ни <...>,
ни дикий —
одинокий
***
Гроза:
аэродрама
аэродрома
День убывает
Вышел на улицу, а там уже темно.
Вышел на площадь, а там уже.
Вышел на улицу, а там.
Вышла навстречу, а.
Вышли во двор.
Вышли в.
Вошёл.
***
Стихотворение — это
следующее слово не
в поисковой
то есть некий есть элемент
не формальной, конеч
Но как будто
-то вот уже
я слышу
ну, а это,
же,
никакое не
***
Эта общага...
Это общага...
Эта общага, где мы...
Эта общага, где нам...
Как же нам тут было...
Как же мы здесь...
Эта общага — как...
Этот момент, когда
не узнаешь своего текста.
Этот момент, где мы
отрекаемся от своих
...слов.
Это общага
...слов.
Эта общага
...слов.
***
старые песни больше не звучат
пальцы не слушаются
и не мой голос
когда
я закопаю гитару
когда
я увижу на ней почки
когда
я приду под дерево
когда
я усну в его тени
чтобы не проснуться я
усну в тени его сна
чтобы не проснулся я
усну чтобы не проснулся я
усну чтобы не проснулся я
проснулся или не выдержала
струна?
***
1
Впервые
на лыжах. Знаки,
которых не знаю
смысла, и в каждом шаге —
жест, и в каждом звуке —
знак.
Чужестранец
на лыжне,
я пишу сломанные слова,
а меня читают
не ошибающиеся глаза лыжников.
2
Не такая плохая метафора:
я и мой дед,
мы идём по лыжне —
он уже,
ну а я ещё.
Я не могу коньком,
мой конёк — медленно падать в снег,
разрушая лыжню.
(Занимаясь текстом,
всегда в первый раз,
не могу не упасть).
3
Другая метафора:
я и другой мой дед,
мы идём на рыбалку,
но улова не будет —
мы не виделись этой зимой.
4
Провёл день с двумя дедами.
С одним на лыжах, к другому
не подойти ближе, чем
на расстояние вытянутой
земли.
Источник https://polutona.ru/printer.php3?address=0626150951
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Альманах Миражистов
Зоя Богуславская — советский и российский прозаик и эссеист, театральный и литературный критик. Автор культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), почетный член РАХ.
Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Выбор профессии определило детское увлечение театром и литературой: еще в школе Зоя начала писать тексты для драмкружков и литературных вечеров.
В 1948 году Зоя Богуславская окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского (ГИТИС), а затем аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР. После защиты диссертации она работала редактором в издательстве «Советский писатель», читала лекции в Московском высшем театральном училище, заведовала отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям. Начав свой творческий путь как театральный критик и редактор кино, впоследствии Зоя Богуславская получила известность как писатель новой волны.
В конце 1950-х годов она приобрела известность статьями о театре и кино; в тот же период были опубликованы ее монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой. В 1967 году Зоя Богуславская дебютировала в литературе с повестью «И завтра», опубликованной в журнале «Знамя», которая сразу же была переведена и издана во Франции. В начале 1970-х годов прозаические произведения Богуславской печатаются в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность». Большим читательским интересом пользовались ее книги «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие». Перу писательницы принадлежат также две театрализованные «повести в диалогах» — «Контакт» (Театр имени Евг. Вахтангова) и «Обещание» (в процессе репетиции во МХАТе спектакль был запрещен).
Зоя Богуславская,
идейный вдохновитель Центра Вознесенского:
«Считаю, что ум у меня вполне сохранился, особенно, когда что-то касается решений быстрых — «как вырулить» из какой-то сложности. Пока держусь крепко. Что будет дальше — мне неведомо. Жизнь моя всегда была веселая, нарядная и счастливая, мне всегда помогало чувство юмора. Многие меня спрашивают, что ты делаешь все время, раз одна дома живёшь? Я отвечаю — думаю!
И всё делаю сама!»
В 1960-е годы Зоя Богуславская стала создателем Ассоциации женщин-писателей в России, затем Международной ассоциации женщин-писателей в Париже. Зоя Богуславская владеет английским, немецким и французским языками. Она неоднократно выступала в университетах и на форумах в США, Франции и Великобритании, участвовала в книжных ярмарках (Франция, Испания, Германия, Великобритания и др.). Работала приглашенным писателем в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
В 1992 году по проекту Зои Борисовны Богуславской была учреждена первая в России независимая премия «Триумф» во всех видах искусства, в жюри которой вошли выдающиеся деятели культуры и одноименный фонд.
Творчество Зои Богуславской неизменно вызывало острый интерес, вокруг ее книг развертывались дискуссии, многие из них в свое время запрещались цензурой. Основные произведения неоднократно переиздавались и переводились на французский, итальянский, английский, японский и многие другие языки мира.
Широко известен цикл эссе Зои Богуславской «Невымышленные рассказы» о встречах с самыми разными деятелями российской и зарубежной культуры — Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Верой Пановой, Леонидом Леоновым, Михаилом Рощиным, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым, Натали Саррот, Лайзой Минелли, Брижит Бардо и другими.
В 1964 году Зоя Борисовна вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского. Их брак продлился 46 лет, вплоть до смерти Вознесенского 1 июня 2010 года. В память о нем Зоя Богуславская и её сын Леонид учредили Фонд имени поэта Андрея Вознесенского и премию «Парабола», названную по одноименному стихотворению поэта, опубликованному в 1960 году.
Зоя Богуславксая. 60е. Из личного архива Зои Богуславскои;
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ «ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ»
Книга, посвящённая работе легендарного Шестого объединения киностудии «Мосфильм». Прочитать!!!!!!!!!! здесь.
Шестое объединение «Мосфильма» (Часть первая)
Зоя Богуславская / Центр Вознесенского April 17, 2024
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
Как-то году в 63-м прошлого столетия в квартире (на Ленинградском шоссе, 14) раздался звонок с Мосфильма: «Мы тут придумали новое объединение “Писателей и киноработников”. С Вами говорит Владимир Наумов. Не хотите стать членом редсовета?» Хочу! На первом же заседании оного Совета обнаруживаю — за столом сплошь мужское сообщество, я — единственная женщина…
Володя Наумов сегодня пишет:
«У нас было общее желание создать свой очаг сопротивления, ибо уже тогда надвигалась тень, не такая, может быть, густая, но все же ясно ощутимая тень времен застоя. Сейчас многие считают, что застой, подобно утюгу, подавил и выгладил всё на свете, задавил всё живое в кинематоженграфе. Это серьезное заблуждение, если не умышленная подтасовка. Конечно, ущерб, нанесённый кинематографу застоем, велик. Но сопротивление было. Причём сопротивление организованное, продуманное, сознательное. Наше Объединение стало одним из таких очагов сопротивления. И поэтому к нам шли».
Сохранилась фотография в американском журнале «Лайф», где запечатлен почти весь творческий состав первооткрывателей: Александр Алов и Владимир Наумов (руководители), Андрей Тарковский, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Елизар Мальцев, Георгий Бакланов, Лазарь Лазарев, где-то между Михаилом Швейцером и Александром Борщаговским поместили и меня. Честь, оказанная продвинутым заокеанским изданием смелому кинообразованию, не случайна, американцы возлагали большие надежды на то, что молодое объединение прорвется к запретным зонам «империи зла». Попасть на страницы этого журнала было верхом престижности даже для американца. Если имя хотя бы мелькнуло в каком-то материале «Лайфа», это могло повлиять на взлет карьеры человека кардинально.
Планы Объединения были обширны. С ним сотрудничали самые звонкие имена, которыми позже был обозначен особый слой кинематографистов и писателей того времени. Имена были очень разными: Чингиз Айтматов, Валентин Катаев, Леонид Зорин, Борис Полевой, Анатолий Гребнев, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Михаил Шатров, Владимир Лакшин и, что вовсе невероятно, Александр Солженицын. Режиссеры: Борис Барнет, Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Марлен Хуциев, Михаил Швейцер, Михаил Калик, Владимир Басов, Юрий Карасик, Олег Ефремов, Элем Климов, позднее Инесса Селезнева, Инна Туманян, Джемма Фирсова и другие.
Кому принадлежала идея вставить мое имя в столь продвинутое сообщество, могу лишь догадываться. Мы разбирали заявки, читали сценарии, отсматривали куски фильмов, оценивая пробы и готовый материал.
Впоследствии история развела по разные стороны баррикад первых бунтарей-единомышленников, некоторые вчерашние неразлучные сотоварищи стали злейшими врагами, кое-кто покинул пределы Родины. Но в начале 60-х все мы в Шестом были сообщниками в борьбе с цензурой, ограничениями «незаказной» тематики. Все мы мечтали о некой вольности изображения, отсутствии стереотипов в понимании современности и прочтении классики. Нам виделась уникальная лаборатория кино, новая волна как плацдарм для свободного эксперимента, кровно связанного с талантами современной литературы.
Руководство Объединения всячески помогало этому, подкармливая бедствующих гениев, выплачивая аванс неугодным и запрещённым.
Много лет спустя Василий Аксёнов не без ностальгии вспомнит: «В то время не так легко было заработать денег, однако на Мосфильме существовало писательское объединение. Туда можно было прийти с заявкой на сценарий, подписать договор и уйти с 25 %-ным авансом. И, что самое приятное, если даже сценарий выбрасывали в корзину или запрещали, деньги оставались у тебя».
Новое сообщество быстро набирало авторитет. Идя по коридорам главной студии страны, мы ощущали себя элитой, с нами каждый хотел подружиться. Мы еще не ведали, что опасные, хитрые обходы установленной власти грозят расплатой, что раздражение начальства растет, и нам все труднее будет лавировать, отстаивая каждую единицу нашей продукции.
Отдадим должное бдительности цензуры: верно служа хозяевам, она старалась отслеживать любую недосказанность, запрещая фильмы еще на стадии сценария, особо выискивая пессимизм, секс, упадничество, каленым железом выжигая «карамазовщину», «достоевщину», «толстовство», страшным приговором звучало клеймо «декаданс». Не в чести было вообще изображение интеллигентов. Героями должны были быть персонажи волевые, несгибаемые, не сомневающиеся ни в чем. Такими изображались защитники родины (лучше павшие в бою) и ударники труда. Даже военная повесть Эммануила Казакевича «Звезда», «Спутники» Веры Пановой впоследствии, после прочтения лично Сталиным, к удивлению цензоров, удостоенная Сталинской премии первой степени, и некрасовские «В окопах Сталинграда» (по повести был снят фильм «Солдаты») вызывали шквал критики. Ленты, созданные по этим произведениям, не вписывались в схемы стратегически спланированной победоносной войны. Позднее Сергей Довлатов, сетуя на резкое падение интереса к серьезной литературе, ерничал: «Раньше нами хоть ГБ интересовалось, а теперь до нас вовсе дела никому нет».
И все же парадоксальным образом сквозь заградительные решетки пробивались и высококачественные фильмы. Случалось и так: образованный цензор, оставшись наедине с творением художника, отличенного богом или популярностью у публики, хотел выглядеть перед будущим поколением человеком, понимающим в искусстве, а вовсе не душителем талантов. Таковые водились и в руководстве «Мосфильма». Глядя на экран, они не могли не осознавать, что присутствуют при рождении фильма, за которым, быть может, мировое признание, и старались тайно облегчить его прохождение. В те годы негласное покровительство высоких поклонников сопутствовало даже Любимову, Окуджаве, Евтушенко, Высоцкому, Вознесенскому, Ахмадулиной, Твардовскому, Краснопевцеву, Гроссману, Солженицыну и другим. Кроме того, «Мосфильму» необходимо было хоть как-то выполнять план, давая художественные результаты. Движение наших картин на Запад, на международные фестивали порождало спрос на качество. Победа фильмов Михаила Калатозова «Летят журавли» (лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года), «Иваново детство» Тарковского (удостоен «Золотого льва» 23-го Международного кинофестиваля в Венеции), «Баллада о солдате» Григория Чухрая (множество наград) поначалу вызывала растерянность властей. Прорыв в мировое кино спустя три десятилетия после первой волны 20-х–30-х фильмов Эйзенштейна и придуманного им «Монтажа аттракционов»1, ФЭКСов2, фильмов Пудовкина, Довженко, Козинцева, Ромма не был предвиден и осознан.
И все же мало кто из нас предполагал, что оттепель захлебнется так скоро, что эти «наезды» — лишь первый, поверхностный слой тех трагических событий, которые стоят уже на пороге. Жестокость, беспредел в отношении художников иного стиля, рискнувших отстаивать собственное видение искусства, несовпадающее с официальной концепцией, еще были неведомы постсталинскому поколению — тогда казалось, что история нашей культуры будто писалась наново.
Прежде чем войти в круг волшебства и забот, творимых в Шестом объединении, отвлекусь, чтобы мы, сегодняшние, вдохнули воздух того времени.
Начало 60-х, впоследствии высокопарно названных «легендарными», сразу же взорвалось бумом новой литературы, затем живописи, театра и кинематографа, и, конечно же, неограниченной свободой «авторской песни». На пике популярности Окуджава, Галич, Визбор, Ким, ставший всенародным идолом и братом Высоцкий, изменившие сознание нескольких поколений. В литературе — публикации у Александра Твардовского в крамольном «Новом мире» прозы, которая ошеломила читателя лагерной темой ГУЛАГа Александра Солженицына в его первой повести «Один день Ивана Денисовича»; параллельно вал «деревенской» литературы Бориса Можаева, Владимира Тендрякова, Василия Белова; рассказов о «непридуманной» войне Виктора Некрасова, Василия Гроссмана, Валентина Распутина. Чуть позже вспыхивает зеленая лампа нового журнала «Юность», который возглавляет Валентин Катаев. Именно он, этот мэтр комсомольского романтизма в «Белеет парус одинокий», рискнул опубликовать «непричесанных» молодых людей, возникавших в разных литературных жанрах. Будучи блестящим стилистом, писателем беспощадно острого зрения, абсолютно советский и компромиссный Катаев в своих поздних повестях «Святой колодец», «Разбитая жизнь», «Алмазный мой венец», «Трава забвения» породил совершенно новый пласт прозы, получившей восторженное признание современников. Этот новый Катаев и как редактор оказался человеком, безоглядно чтившим талант непохожих сочинителей. Удостоенный всех высших наград сталинской эпохи, порой подписывая письма репрессивного толка, он с трудом спасал своё непохожее искусство позднего периода. «Я все делаю, как они хотят, чтобы оградить свою музыку», — с горечью признавался Дмитрий Шостакович, чья подпись тоже стояла под официальными разгромами. Это подходит и к Валентину Катаеву.
В те же 60-е из насыщенного раствора вольницы время от времени выпадали и новые общественные структуры.
Параллельно с «Мосфильмом» и «Шестым объединением писателей и киноработников» в 1961 году случился переворот в Московской писательской организации, которая под светлым руководством поэта Степана Щипачева избрала новое правление из вчера еще разруганных, аполитичных и полузапретных молодых литераторов. Все они почти сплошь были авторами «Юности». В тот раз вместе с Аксёновым, Евтушенко, Вознесенским, Гладилиным, Шатровым, Амлинским, Рощиным, Щегловым была избрана и я.
Вопреки расхожему мнению, в 60-х даже более беспощадно, чем с идеологией, власть боролась с инакомыслием художественным. «Уничтожалось всё непохожее, — скажет впоследствии Михаил Ромм, — можно было делать только заданное, привычное». Блюстителям режима часто удавалось замаскировать, смикшировать идеологию, по-иному расставляя акценты. Они могли заставить автора, к примеру, изменить финал. А вот индивидуальный стиль, почерк таланта, самобытность перекройке не подлежали. Любая особость художника вызывала ярость, шлифовать стиль, не разрушая саму ткань фильма, не получалось.
У Катаевской «Юности» была маленькая предыстория. Василий Аксёнов (впоследствии реализовавший свою идею в альманахе «Метрополь») носился с проектом нового журнала. Катаев придумал название «Лестница». Мы все были помешаны на этой идее. Кто-то вместе с мэтром пошёл к министру культуры Петру Ниловичу Демичеву, чтобы озвучить необходимость создания молодёжного журнала. Демичев название не одобрил, обещал подумать, и всё застопорилось. Как обычно, когда начальство хочет уйти от решения, идея погрязла в дебрях бюрократических инстанций и канула в лету. А через два года тому же Катаеву, но уже с «гертрудой» в петличке (званием Героя соц. труда), классику, чьё влияние на комсомольское поколение ассоциировалось с Пашкой и Гавриком3, легко разрешили открыть новое издание для молодежи. Его предложили назвать попросту: «Юность».
Появление в журнале романа «Звёздный билет» Василия Аксёнова , имен Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, повестей и рассказов Юрия Казакова, Анатолия Гладилина, Юлиана Семенова, Владимира Войновича, Фридриха Горенштейна, Георгия Владимова, Новеллы Матвеевой, Юнны Мориц, Венедикта Ерофеева, Бориса Балтера было воспринято поколением советских хиппи на ура. Чуть позже «Юность» опубликует и мою повесть «Семьсот новыми». Разгром за формализм в ЛГ «Такова авторская манера»4 только усилит успешность публикации. А впоследствии и вовсе чрезвычайно лестно о ней отзовутся высокие авторитеты. Запрещённую к изданию отдельной книгой, повесть мою переведут и опубликуют сначала во Франции, и только через четыре года в России. Инициаторами французской публикации станут Лиля Брик и Натали Саррот, а во Франции она — гуру «Новой волны», прозаик и драматург, перевернувший сознание поколения наряду с Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар. О разразившемся по этому поводу скандале я поведаю чуть позже, он стал знаковым в моей судьбе.
Итак, сродни битломании, джазу, рок-н-роллу литература насыщалась дерзостным сленгом, шоковым поведением героев, вступавших в любовь с невиданной легкостью, начисто сметая привычные нормы приличия. Гулянка набирала обороты, и нам казалось, что настает полная свобода стилей, образа мыслей, и все зависит только от нас. Об этом времени Владимир Войнович много позднее напишет: «…Это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того — после смерти Николая I. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в 90-х годах» («Портрет на фоне мифа», с. 19).
Из пьес Виктора Розова, Александра Володина, Михаила Рощина, Александра Вампилова, Юлиу Эдлиса, Эдварда Радзинского в театре «Современник» хлынули на улицы пламенные споры о жизни, началось расшатывание трона В. И. Ленина в драмах Михаила Шатрова. Сленгом наших тусовок говорили на улицах в молодежных компаниях. «Кадриши», «чувихи», «снять девочку», «трахаться», «я ее поимел», «поужинаем и позавтракаем одновременно?» Так стали обозначать наш быт, отношения, как в свое время грибоедовским «Служить бы рад, прислуживаться тошно», или по Ильфу и Петрову «Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» и тому подобное. Конечно же, большой вклад в советский интим внесло всеобщее помешательство на Хемингуэе.
Где-то с 64-го театральные переаншлаги перемещаются на Таганку. Каждый новый спектакль Юрия Любимова встречают на ура, сам режиссер становится кумиром. Первое его открытие — поэтические спектакли. Постановка «Антимиров» Андрея Вознесенского вызвала небывалый ажиотаж, люди ходили на спектакль по многу раз, уже зная стихи наизусть. Выдержав около тысячи представлений, он по-иному высветил таланты Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Зины Славиной, породив новых фанатов стихотворно-театрального жанра и поклонников Вознесенского. (Второй бум театральной популярности Андрея случился почти 20 лет спустя в Ленкоме, после спектакля Марка Захарова «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова).
Потом на Таганке были «Павшие и живые» — одно из самых сокровенно-исповедальных сочинений режиссера на стихи поэтов, ушедших на войну (многие из которых с нее не вернулись — Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров). Затем — есенинский «Пугачев»5. «Пропустите, пропустите меня к нему…», — кричал Высоцкий на разрыв аорты.
Второй этап жизни Таганки, по замыслу Любимова, определят инсценировки современной прозы Федора Абрамова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, поднявшие острейшие проблемы существования страны. Спектакли «Дом» по Абрамову, «Кузькин»6 по повести Можаева, почти все написанное Трифоновым и, как высший аккорд, булгаковские «Мастер и Маргарита» взрывали зал, превращали сцену в трибуну. Все, что звучало шепотом на кухнях, произносилось прилюдно, открыто. Имя Юрия Любимова, а вскоре и Давида Боровского становится в ряд мировых величин современного театра. А мы, вчерашние студенты ГИТИСа, что поклонялись Галине Улановой, Николаю Хмелеву, Майе Плисецкой, Марии Бабановой, Вахтангу Чебукиани или Ольге Андровской, ощущаем «Современник» и «Таганку» своими единомышленниками.
Сами мы начинаем печататься в толстых литературных журналах, нас читают. А я попадаю в самые известные компании, вожу дружбу с кумирами: Булатом Окуджавой, Володей Высоцким, Олегами Ефремовым и Табаковым, Микаэлом Таривердиевым, Леонидом Зориным, Михаилом Ульяновым, Лилей Толмачевой, Игорем Квашой, Валерием Золотухиным, Вениамином Смеховым, я — часть модных посиделок после громких литературных вечеров, головокружительных балетов, рискованных постановок и концертов. В нашей квартире на Котельнической Высоцкий будет петь свои новые песни, которые записывает мой тринадцатилетний сын Леонид, шумные сборища кончаются далеко за полночь, а когда мы празднуем Новый год, то и утром.
Наступает пора расцвета клубной жизни. Песни Галича, Высоцкого, Булата, Алешковского из подполья перемещаются в ЦДЛ, Дом актера и Дом кино. Именно здесь теперь регулярны вечера поэзии, чтение новых рассказов, пьес. Часов в шесть-семь мы идём в ЦДЛ или Дом Актёра, не сомневаясь, что без всякой договоренности там уже найдётся десяток знакомых, а клубная жизнь уравняет нас, начинающих, в правах со знаменитостями. «Гамбургский счёт» ведется только в творчестве, быт общий: «Ты гений. Я гений. Что делить? Места хватит всем».
Почти невероятным сегодня кажется, что в те годы вовсе не существовало публично-компроматной агрессии. Грязные разоблачения осуждались, были неэффективны; драки, конфликты возникали на почве сплетен, ревности, без особых поводов. «И тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, он был не пьяный…»7. Чаще рукоприкладством выясняли отношения сильно напившись, перемирие обычно наступало легко, через день «противники» могли мирно сидеть за общим столиком, и кто-то один платил за двоих.
И еще. В эти годы небывало возрастает роль общественного мнения. Когда начинаются громкие процессы над писателями, их сажают на длительные сроки, то нам кажется, что наши возмущенные письма в защиту Бродского, Синявского и Даниэля остановят новые репрессии и гонения… Этим иллюзиям тоже придёт конец.
Но вернемся в Шестое объединение. Теперь и здесь после радужной победности климат резко меняется. На порядок усиливается давление на руководство, даже картины Александра Алова и Владимира Наумова, несмотря на данный им Мосфильмом зеленый коридор, подвергаются все более жесткой цензуре. Сквозь колючую проволоку продираются фильмы «Мир входящему» по сценарию Леонида Зорина и «Бег» по Михаилу Булгакову.
***
…Ко времени съемок «Мир входящему» (1961) Леонид Зорин был уже очень знаменит. Мы тесно дружили со времен ГИТИСа, становясь свидетелями взлета его редкого таланта и трагических сломов судьбы, выпавшей ему поначалу столь счастливо8 Первая книга стихов Леонида Зорина вышла в 1934 году в Баку, когда ему не было еще и десяти лет. Его пригласил к себе познакомиться сам Максим Горький. С высот своей известности он спустился в наше «пятибабье» (как назвал нас, пятерых подруг, Борис Слуцкий9), влюбившись в Риту Рабинович10. Рита и стала впоследствии первой женой Зорина, страстно им любимой. Она была искусствоведом, глубоко понимавшим искусство. Трагически внезапно, в сорок лет, цветущая жгучая брюнетка, царственно носившая полную грудь и широкие бедра, сгорела от рака в жестоких муках. Зорин, этот жизнерадостный бакинский мальчик, с благословления Горького попавший в 16 лет на самый пик оттепели, потерпел сокрушительное поражение в борьбе с болезнью жены. Как и мы все, Зорин после удач первых пьес легко поверил, что ему позволено рисковать больше, чем другим, и с размаху сочинил комедию «Гости» (1954). Здесь впервые в советской литературе был жестко обозначен водораздел между творцами и хозяевами жизни — циничными и беспощадными. Скандал случился невиданный. Со времен постановлений ЦК о Зощенко и Ахматовой (1949), о пьесах Леонида Леонова «Метель» и «Волк» (1940) такой репрессивной реакции на сочинение молодого драматурга не было. Попадание было точным — иные власть предержащие персонажи в «гостях» узнавали себя. Доведенный до нервного срыва, Зорин попадает в больницу с кровотечением, мы по очереди навещаем его. Быть может, творческая энергетика, неостановимо влекшая его к письменному столу, да безмерная любовь к сыну Андрею (впоследствии ставшему блестящим лингвистом мирового уровня) спасли писателя от тяжелой депрессии после улюлюканья вслед его «Гостям» и ранней смерти жены.
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
1 Режиссерский метод, разработанный Сергеем Эйзенштейном, в котором образы и идеи показываются в фильме в столкновении для того, чтобы оказать сильное эмоциональное и интеллектуальное воздействие на зрителя.
2 Фабрика эксцентричного актера — творческое молодежное объединение, основанное в 1921 году Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом в Петрограде.
3 Герои повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий»
4 Негативная статья о творчестве Зои Богуславской, которая была опубликована в Литературной газете в 1970 году
5 Спектакль вышел в 1967 году.
6 Был поставлен в 1968 году, но сразу запрещен как пасквиль на советскую жизнь. Его премьера состоялась только в 1989-м
7 Строка из песни Владимира Высоцкого «Тот, кто раньше с нею был».
8 Первая книга стихов Леонида Зорина вышла в 1934 году в Баку, когда ему не было еще и десяти лет. Его пригласил к себе познакомиться сам Максим Горький.
9 Поэт, переводчик.
10 Театровед Генриетта Рабинович.
……………………………………………………………………………………..
Шестое объединение «Мосфильма» (Часть вторая)
Зоя Богуславская / Центр ВознесенскогоApril 17, 2024
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
Фильмы, как блины, их надо есть горячими. Даже киноклассика через пять-шесть лет не всегда сохраняет яркость вызова, силу воздействия на современников. К примеру, в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» центром и кульминацией был документально зафиксированный поэтический вечер в Политехническом. Здесь поэты проходили тест на табель о рангах, на успех. «В политехнический, политехнический, кому там хнычется…» у Вознесенского и в конце — «Политехнический — моя Россия». Фильм Хуциева запечатлел авторское исполнение Окуджавы, Рождественского, Слуцкого, Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Риммы Казаковой и других и отчетливо обозначил для чиновников опасность прямого воздействия на неокрепшее самосознание советской молодежи подобных вечеров. Вскоре картина, в которой не было ни грамма политики, была запрещена на 20 лет. Но даже после этой мощной паузы ее выпустили с изъятиями и сокращениями, сильно изуродовавшими замысел режиссера. И, увы, показанная в другую эпоху, эта картина, как и многие другие кинокалеки, уже не имела того шумного резонанса, который сопутствовал закрытым прогонам в 60-х.
Появился новый жанр — звучащая поэзия. Взвучащая поэзия. Вечера поэзии в Лужниках, которые снимал и показывал на ТВ Йонас Мисявичус, начавшись с вечера Вознесенского, стали для мировых СМИ точкой отсчета непонятного Западу нового явления культуры — публичного чтения стихов одного автора на тысячной аудитории. Вскоре поэтов будут подобно звездам-исполнителям приглашать во Францию и Америку, Италию и Мексику, поэтические фестивали, как русские сапоги и «Калинка», войдут в моду, получив старт из России. Но началось-то все с запечатленного в фильме Хуциева вечера в Политехническом.
Сегодня почти неправдоподобно-абсурдными кажутся претензии, отбросившие показ некоторых фильмов на десятилетия.
Казалось, что в картине «Мир входящему» могло не устроить начальство? Конец войны, триумфально освобожденный советской армией поверженный город. Однако наряду с привычными атрибутами победоносного финала в ленте Алова и Наумова отчетливо прозвучала тема разрушения основ жизни любой войной. Мы увидели трагические следы разгрома и запустения полуживых магистралей и переулков вчера еще мощного государства Германия. Подробности, запечатленные авторами, застревали в памяти гораздо глубже, чем сюжет, и само поведение главных персонажей — бредущие по пустому городу двое победителей: истощенный солдат, волочащий раненого командира Ямщикова. Одиночество этой пары среди разбросанных по мостовой манекенов в разодранных модных платьях и висящих бюстгальтерах, опрокинутая детская коляска, раздавленная танком, летящие по асфальту страницы чьих-то книг, рукописей, гонимая ветром утварь, обои — вызывало острую стыдливую жалость и к победителям, и к поверженным. Все это бытовое, домашнее, глубоко связанное с тысячелетним понятием добра, своего дома катастрофически не соединялось с представлением о той побежденной стране, которую они абсолютно не знали, но должны были ненавидеть, потому что ею правил фашизм и он должен был быть уничтожен. Бедствие людей, крах их уклада жизни омрачали ликование вошедших в город победителей. Настрой фильма Алова и Наумова резко контрастировал с оптимизмом, эйфорией тогдашних военных киноэпопей («Освобождение», «Взятие Берлина» и других), он будоражил совесть, возвращая к мыслям о тотальной катастрофе уничтожения самой жизни идеологией насилия, о цене, заплаченной за победу, о неисчислимых бедах, которые не закончатся после завершения войны. «Ах, война, что ты, подлая, сделала?!».
Увы, одной из самых запретных тем 50-х–70-х станет прочтение итогов войны глазами рядового солдата, семьи, потерявшей кормильца. И в Россию, хотя и намного позже, придут проблемы «потерянного поколения», обозначенного в США по окончании войны Эрнестом Хемингуэем.
После выхода фильма «Мир входящему» Лев Анненский заметил, что обыденные реалии здесь были окружены совершенно непривычным и нереальным антуражем. «Какой неистовый, сверхнапряженный воздух режиссуры! — писал он. — Не здесь ли разгадка странной, обманчивой “ординарности” этой ленты? Уникальное состояние, владеющее Аловым и Наумовым, по обыкновению вселяется в традиционные прочные рамки, а типичные фигуры шофера, солдат и офицеров выдают… безуминку. Критики пытались оценить происходящее со здраво-реальной точки зрения, но это было невозможно».
Как же случилось, что столь негативное отношение властей и чиновников к картине «Мир входящему» не помешало руководству «Мосфильма» предложить его создателям возглавить новое объединение? Владимир Наумов в книге «Кадр», написанной совместно с Наталией Белохвостиковой, актрисой и его женой, объяснял, что этим они обязаны самому времени.
Время! Наступило другое время. Процессы происходили странные, как будто необъяснимые… «Винтики» вдруг заметили, что они люди. В период оттепели начали пробуждаться от спячки человеческие характеры, начали действовать, сталкиваться противоборствующие силы, возникали странные, неоднозначные отношения, принимались решения, которые порой невозможно было логически объяснить. Даже у высших руководителей проклевывались завиральные мысли. Этот разрушительный микроб стал проникать и в их души. Тот же Хрущев, который обзывал «пидерасами» художников и покрыл себя позором во время знаменитых встреч с интеллигенцией и последовавшими репрессиями, вдруг неожиданно полюбил Солженицына, позволил напечатать «Один день Ивана Денисовича».
Но сегодня мне хочется ответить и на другой вопрос. Зачем надо было режиссерам такого таланта и масштаба взваливать на себя неблагодарную ношу руководства? Ведь обеспечивать новую структуру организационно значило не столько творческую работу с одаренными людьми, но дикое количество текучки, бюрократических согласований, вызовы «на ковер» по первому окрику начальства, ежедневное противостояние официозу.
У самого Наумова есть объяснение и этих мотивов их согласия на предложение студии. Для тех лет они типичны. У нас всех тогдашних «первооткрывателей» была иллюзия, что мы можем поменять климат в искусстве, давая дорогу непризнанным талантам, опальным художникам. Убежденность, что в наших силах обновить кинематограф, сделать его более широким и свободным, заставляла каждого из нас бескорыстно и безвозмездно участвовать в общественной жизни, входить в новые структуры управления творческими союзами, о которых я уже писала.
На этой убежденности «все, что не запрещено — разрешено» и родилась идея экранизации «Бега» Михаила Булгакова у Алова и Наумова. После мучений с «Миром входящему», уже предвидя все предстоящие мытарства, они шли на риск, готовясь отстаивать свой замысел до последнего.
В те годы молчание вокруг творчества Михаила Булгакова, самого сложного и блистательного (наряду с Андреем Платоновым) прозаика середины 30-х, было тотальным. Репутация художника, которого так ненавидела власть и сам Сталин, на долгие годы парализовала инициативу сценаристов, режиссеров театра и кино. Запрет на все созданное этим писателем после триумфа «Дней Турбинных» во МХАТе (1937) длился и после смерти вождя (1953). Даже десять лет спустя, когда Алов и Наумов замыслили сделать фильм по «Бегу», они натолкнулись на бойкот чиновников всех уровней. Константин Симонов, на пике славы вхожий «на верха», пытался сделать хоть что-то для памяти Михаила Булгакова. Он дружил с его вдовой Еленой Сергеевной и советовал ей начать хотя бы с попытки публикации «Театрального романа». Но о возвращении «Дней Турбинных» на сцену с политическим ярлыком «оправдание белогвардейщины» речь не могла идти, а об экранизациях и подавно. Даже студенческий спектакль по Булгакову, поставленный актрисой Пилявской1в училище МХАТа, был уничтожен после двух показов.
И все же невероятное свершилось, Алову и Наумову удалось снять и показать «Бег». Думаю, существенную роль сыграл здесь подбор актеров, каждый из которых имел влиятельный круг почитателей и громадный вес в общественном сознании. А для Елены Сергеевны (Булгаковой — Прим. ред.), регулярные встречи с любимыми режиссерами «Бега» были в те дни, быть может, единственной соломинкой, поддерживающей ее интерес к жизни, дававшей ей силы для борьбы за наследие Булгакова.
Картина «Бег», бесспорно, стала событием. Ее критиковали за идеологизацию, расплывчатую композицию, подлавливая на исторических неточностях, но это тонуло в хоре голосов, восторженно принявших ленту, в которой было столько актерских шедевров. Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян и по сей день потрясающее исполнение роли фаната революционного террора Хлудова Владиславом Дворжецким. Думаю, что чудо выхода картины на экран, кроме актерского ансамбля, свершилось из-за темы обличения самого понятия «эмиграция». Власти полагали, что зритель осознает гибельность побега, превращающего эмигранта в отщепенца и изгоя. Смотрите, мол, вот они — вчерашние властители жизни, герои, теперь растоптанные, оказавшиеся на самом дне общества. Каждый из них, прозябающий в нищете, сломленный унижением, превращен в отбросы. Ленту «Бег» миновала участь другой работы Алова и Наумова «Скверного анекдота» по Достоевскому, запрещенного к показу на 20 лет.
Фильм этот, быть может, лучшее создание руководителей Шестого, как и «Застава Ильича» Хуциева, пострадал непоправимо. Показанный смехотворным тиражом зрителю уже в 80-х, он не вызвал большого спроса, лишь элита высоко оценила филигранное мастерство режиссеров, силу проникновения их в «подполье души» русской. Увы, Александр Алов уже не узнает о позднем успехе своей картины, он скончается, не дожив до 60-ти.
Смерть Алова (1983), лидера, генератора идей в тандеме с Наумовым, казалась нам катастрофой, она надолго выбила само Объединение из творческой формы. И до сего дня Сашу вспоминают как художника безоглядной отваги, человека скрытного, предпочитавшего болтовне молчание глубокого аналитика. Он абсолютно был лишен суетности и саморекламы. Насколько привлекателен, необыкновенно ярок и артистичен был Наумов, настолько Алов любил уходить в тень, разыгрывая стратегию самых дерзких замыслов, порой проводя их только через Наумова, а тот акробатически виртуозно отдувался за двоих. Пользуясь стойким уважением киносообщества, наши худруки откалывали номера на грани фола. Их широко известные проделки не иссякали в самые драматические моменты жизни киносообщества. Когда Володя Наумов вел диалог с партнером, которого хотел убедить, он был абсолютно неотразим. Он мог спорить до хрипоты, переходить за все рамки дозволенного в озорстве и розыгрышах.
По Мосфильму «гулял эпизод» — говорили, что глава другого объединения Иван Пырьев, имевший безоговорочное влияние на Алова и Наумова, спровоцировал обоих подкараулить Никиту Хрущева около мосфильмовского туалета и, воспользовавшись моментом, убедить его не объединять Союз кинематографистов с другими творческими союзами. Дело в том, что в свое время Михаил Ромм, их учитель, ревновал обоих к Пырьеву, а потом довольно болезненно отнесся к созданию ими Шестого объединения. Иван Пырьев, постановщик лакированных комедий, обладавший редкой харизмой, масштабом замыслов, был сродни юной парочке в их проделках, был уверен, что мизансцена в туалете беспроигрышна. Сам он был хорошо известен как ерник, сквернослов и любитель жизни. Певец колхозного рая в «Кубанских казаках» с Мариной Ладыниной и Сергеем Лукьяновым, он был, несомненно, личностью неординарной, к тому же он не раз защищал Алова и Наумова в глазах начальства.
Наумов подробно опишет в книге, как после туалетной неудачи Пырьев орал на Алова, подкрепляя свою мысль всеми мыслимыми эпитетами, полагая, что тот упустил фантастическую возможность пообщаться с вождем, когда тот был равен всем смертным.
Всего несколько лет спустя Александр Алов, фронтовик, с усеченной ногой, чувствительный к хамству чиновников, не выдержит ежедневного напряжения, сопровождавшего создание каждой картины, и, как многие яркие люди того времени, не осуществит и половины предназначенного ему талантом.
Нервы трепали всякому, кто хотел отойти от стереотипа. Тяжело и абсурдно складывалась в объединении судьба дипломной работы ВГИКовца Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». В ней уже угадывался масштаб личности будущего создателя ленты о Григории Распутине2.Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» молодого Климова — восхитительно-остроумный, безоглядносмелый — вызвал ярость начальства. Картину уродовали нещадно, о списке предъявленных купюр и замечаний и вспоминать тошно. Стиль веселой ненависти режиссера к молодым бюрократам, воспринимающим подростков, как газон, который стригут под линейку, был непереносим для чиновников. Быть может, все бы обошлось без такой жестокой реакции, не будь столь блистательно исполнение роли начальника лагеря Евгением Евстигнеевым. Трудно проходил и фильм по сценарию Вики Токаревой «День без вранья»3, сразу привлекший внимание к молодому автору. Вызвал негодование и фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики» (1964). Бедного режиссера прославленной ленты «Человек идет за солнцем», получившей премию в Париже, критиковали именно за яркость, праздничность красок, за непонятную грусть поэтического стиля. Но к этому я еще вернусь.
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
1 Софья Пилявская — советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Служила в театре МХАТ им. А. П. Чехова.
2 Имеется в виду художественный фильм «Агония», снятый режиссером в 1981 году.
3 Фильм «Урок литературы» 1968 год, режиссер Алексей Коренев.
…………………………………………………………………………………… Шестое объединение «Мосфильма» (Часть третья)
Зоя Богуславская / Центр ВознесенскогоApril 17, 2024
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
Кульминацией конфликта объединения с руководством «Мосфильма», конечно же, стали съемки картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею»). Сохранилась стенограмма обсуждения сценария, которую через сорок лет извлекли из секретного архива для Андрея Сергеевича Кончаловского — соавтора сценария. Кончаловский принес мне ее в подарок, прочтя в ней мое выступление на решающем этапе приемки, в какой-то мере повлиявшее на спасение фильма. Сегодня уникальная стенограмма — документ времени, который отражает изощренные издевательства, нескончаемые мелкие придирки тех, в чьих руках была судьба фильма, непонимание масштаба и природы таланта Андрея Тарковского. Каждое новое заседание комиссии (а их было пять-шесть, не помню) демонстрировало твердость руководства объединения и его совета. По-разному некоторые коллеги воспринимали замечания чиновников, но не было среди нас соглашавшихся на варварское уродование замысла авторов. В то же время противостояние с руководством мешало осуществлению дальнейших планов объединения. Только освободившись от обязательств по картине Тарковского, можно было запускать следующие фильмы. Как почти в любом коллективе, наступает момент и у творческого сообщества, когда терпение и энергия противников иссякают, и отдельный художник уже не хочет платить собственной творческой биографией за несправедливость верхов по отношению к кому-то другому.
Атмосфера сгустилась до критической точки. Мы отчетливо понимали, что сценарий в последнем варианте во что бы то ни стало должен быть принят и запущен в производство. Запустить значило получить государственное финансирование, иных путей в те времена для реализации киносценария не существовало. Упорство Шестого объединения сильно напрягло руководство «Мосфильма», оно осознавало, что вовсе замотать картину «Рублев» им не дадут. Уже поползли слухи о гениальном фильме, запертом в недрах студии, любая, даже частичная огласка происходящего могла грозить протестами, увеличить число сторонников показа исторического полотна, материал которого приоткрывал пласт национального бытия России.
Судьбоносный день наступил 16 января 1963 года, когда в пятый или шестой раз состоялась читка нового варианта сценария при полном составе художественного совета, членов главной редакции «Мосфильма» и экспертной комиссии. Впоследствии я не смогу сосчитать количество рабочих просмотров уже осуществленного фильма, в которых мне довелось участвовать, изъятия из картины текста, целых эпизодов. Думаю, что видела фильм 13–14 раз.
Обстановка с самого начала было настороженно-воинственной. Сам текст, то, как он читался Андроном Кончаловским, создавали ощущение редкостной значительности, некоего чуда, вызывая острое желание торжествовать по поводу услышанного. Каждый из нас понимал, что Тарковский на грани нервного срыва, и дальше так продолжаться не может, дальнейшие претензии означали бы неприкрытую травлю. Председательствовал в тот раз Юрий Бондарев, литературный глава объединения. Для нас в начале 60-х это был человек, прошедший войну, автор смелых, по тому времени, военных повестей, что окружало его имя и поведение неким хемингуэевским ореолом. Он редко говорил о фронтовых впечатлениях, а его жена Валя часто приглашала нас в дом выпить и закусить разносолами собственного изготовления. Он вел заседание мягко, был терпим, заложенная в нем и проявившаяся впоследствии идеологическая воинственность осталась будто на полях сражений и не ощущалась вовсе. Он всячески пытался примирить худсовет и чиновников главного управления, ведя свою линию.
Этап за этапом проходила я вместе с худсоветом мучения и издевательства, которые чинились над сценарием и картиной, составившей славу отечественного и мирового кинематографа. Всего через пару лет «Андрей Рублев»1 открыл могучий дар Тарковского, дар художника, который не мог и не хотел идти на компромисс с совестью, жить в искусстве по чужим лекалам. Все его картины стали самовыражением творца, который видел жизнь сквозь волшебный фонарь преображения, режиссера, открывшего зрителю новое кинопространство, доселе не существовавшее. Конечно, Тарковский осваивал созданное великими предшественниками — Эйзенштейном, Феллини, Бунюэлем, Бергманом. Последние фильмы Тарковского «Жертвоприношение» и «Ностальгия», снятые в Италии и в Швеции, несут на себе печать исповеди, по существу уже авторского завещания, постижения смысла жизни. В этих фильмах — как в двойном реквиеме, художник воспроизводит состояние человека, осознающего приближение и неизбежность конца. Думается, многие обстоятельства последних лет терзаний на Родине легли в основу его киноразмышлений, в чем-то спровоцировав его столь безвременный уход. Алексей Герман, называя имена режиссеров, недосягаемых для соперничества, признается, что, к примеру, «Сталкера» он снять бы не смог.
Странно, что все случившееся с «Рублевым» я воспринимала столь лично. В дни обсуждения сценария режиссер Тарковский был для меня лишь автором «Иванова детства»2, но этот «дебют» произвел на меня настолько сильное впечатление, что любой следующий фильм мне виделся событием. Каждый, кто запомнил на экране мальчика, соединившего в себе взрослую яростную ненависть к фашистам и мечты ребенка, ждал продолжения, развития таланта режиссера. Для меня «Иваново детство» бесспорно стало одним из самых ярких впечатлений.
Теперь, когда у меня появилась возможность привести выдержки из обсуждения сценария «Рублева» сорокапятилетней давности, я смогу в какой-то степени передать ту человеческую трагедию, которая развертывалась на наших глазах, душевное состояние автора, вынужденного выслушивать бред порой не слишком осведомленного в искусстве чиновника.
— Нашлась стенограмма обсуждения фильма Тарковского «Рублев», — улыбнулся Андрон, здороваясь на приеме «Триумфа» в клубе Логоваза. — Прочитай, —и он протянул мне аккуратно переплетенную зеленую с черным папку: «Фирма Paradont “Начала и пути” “Мосфильм” с указанием телефона. Стенограмма заседания художественного совета. Обсуждение сценария. Шестое творческое объединение. А. Кончаловский А. Тарковский».
***
Прежде чем воспользоваться этим документом от Андрона, отвлекусь и расскажу немного о самом Андрее Сергеевиче Кончаловском-Михалкове.
Его судьба, конечно же, тоже фантастична. Я вспоминаю о семье Михалковых, как впервые на пляже в Коктебеле увидела Никиту еще школьником, которого перегруженные родители доверили пасти Любе Зархи, супруге режиссера Александра Зархи. Восхождение Никиты Михалкова было планомерным, удачливым, мало кем предсказанным. Мне самой тогда и в голову не могло прийти, что этот обаятельный губошлеп, эдакий невинный поросенок, каковым он предстал перед нами в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве»3 в кадрах, когда герой бредет по утренней Москве, напевая песню, которая прославит их с композитором Андреем Петровым, радуясь первому эскалатору метро, вырастет в лидера, человека такого масштаба, который прошагает не только до Голливуда и Оскара, но и по судьбам многих своих сотоварищей, вчерашних соавторов и партнеров. Наблюдая непоседливого мальчика, отлично плававшего и нырявшего, мало кто предполагал, что в нем заложены такой энергетический запас, такая мощь таланта. Михалковские «Несколько дней из жизни И.;И. Обломова», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга», «Утомленные солнцем» — уже сегодня классика. Изящество, вкус, отсутствие пошлости в этих фильмах, соединенные со страстной влюбленностью в своих героев и природу отечества, делают его фигуру уникальной. Но в те годы, о которых идет речь, на небосклоне кинематографа крупной величиной, знаменитым ярким художником и одним из самых заметных мужчин был для нас его старший брат Андрон Кончаловский.
Прочитав две его исповедальные книги «Низкие истины» и «Возвышающий обман», вышедшие в издательстве «Совершенно секретно», я открыла для себя человека, о котором сегодня не могу составить точного мнения, не могу воспринять, как единое какие-то разные его высказывания, мои впечатления, информацию о нем и то, что иногда с ним происходит. Блестящий ум, образованность, способность ярких словесных формулировок соединились с точным расчетливым поведением, умением определить, что для него интереснее и выгоднее; холодная рассудочность анализа и вместе с тем возможность абсолютно бесшабашных, авантюристических поступков на грани самоубийственного риска.
Я знаю, с какой жестокостью Кончаловский иногда расстается с женщинами и с какой страстью влюбляется и соединяется с ними — это видно из его книг. Казалось бы, он предчувствует, когда пора уйти, потому что иссяк интерес, ушла страсть. Поступки, которые он иногда совершает ради них, абсолютно безрассудны, необдуманны. В книгах Кончаловского звучит грустное возмездие, может быть, придуманное, которое иногда сопровождает его сегодня, когда ему за 60 и он снова муж и отец. Он доминирует надо всеми, но все же остается творческой личностью. Почему-то его исповедальности, его искренности я верю с какой-то опаской. Впрочем, каждый человек искренен и исповедален только в той мере, в какой он сам себя позиционирует и хочет, чтобы другие его воспринимали. Но, увы, сам человек не может оценивать свое поведение адекватно. Объективное восприятие себя дано редчайшим экземплярам. Одаренным гораздо реже, чем обыкновенным, сам их талант и одаренность становятся тем многоцветным кристаллом, который искажает их истинные побуждения, преобразуя осмысления и эмоции в творческую энергию, которая обманчива. Мы знаем людей чрезвычайно жестоких в жизни, вовсе не порядочных, которые создают замечательно добрые и милосердные произведения искусства. И наоборот.
А вот и другой парадокс. При этом высокомерии Кончаловского, порой отталкивающей избранности общения в миру, он несказанно любим своим окружением — актерами, группой, с которой работает. Он умеет околдовать актера прочтением роли, заставить принять почти безоговорочно свое понимание и замысел. Актриса такого масштаба, как Инна Чурикова, продемонстрировавшая немыслимые грани своего таланта, когда сыграла в его «Курочке-рябе», отозвалась о Кончаловском-режиссере совершенно восторженно, сказав, что это художник редкой амплитуды, знаний, умения проникнуть в глубочайшие нюансы судьбы персонажа. А уж ей, как актрисе, везло на режиссуру. С первой картины, шедевра Глеба Панфилова — фильма «Начало» она вызывала восхищение мастерством в каждой его ленте и у многих других режиссеров театра и кино от Захарова до Бортко.
Конечно, Кончаловский из породы тех художников, кто увлекается разными пластами творчества, структурируя модель своих предпочтений, как будто бы одна его часть хочет быть античным трагиком, другая — современным психологом, третья — бытописателем, четвертая — мемуаристом-историком. Такими же разными были его человеческие пристрастия, отражая периоды его душевного состояния. Я отмечаю в нем и разбросанность, непоследовательность, когда художник, словно надоедая себе, хочет пробовать себя столь полярно, но пробивается не столько вглубь, сколько вширь. Он умело ведет за собой людей, заставляя делать то, что ему интересно, не оглядываясь на возгласы. Как режиссера его знает и Запад, и Америка, куда он из России сначала прошагал в полное никуда, а потом один из немногих сумел вписаться в западный мир. У меня вызывает уважение это стремление осуществиться, это терпение и одержимость. Он, интеллигент и интеллектуал, не гнушался самой грубой работой, чтобы выжить как личность, остаться самим собой. В его книге это прослеживается отчетливо — ему пришлось фарцевать, приспосабливаться, на время забывая об амбициях ради профессии, ради желания признать в нем режиссера с мировым именем.
Алексей Герман (старший) в одном из недавних интервью в ответ на комплимент о мировом имени, которое он имеет, скромно сказал: «У меня есть имя в очень многих странах, но это имя в пределах очерченного круга кинолюбителей, людей искусства, интересующихся кино. А имя на Западе есть только у Никиты Сергеевича Михалкова, и в меньшей степени, но тоже есть у Андрея Сергеевича Михалкова». Эта оценка показательна.
Причина столь успешного существования братьев Михалковых в искусстве, думается, связана с двумя обстоятельствами. Первое — родословная от Сурикова и Кончаловских. Они росли в окружении элиты с детства в доме, который посещали яркие творческие люди. А второе — для Андрона это, несомненно, встреча с Тарковским в Шестом объединении. Взаимоотношения с Тарковским творческие и личные будут долго отзываться на мироощущении Андрона, школа, пройденная им, сначала как сценаристом, потом уже как самостоятельным режиссером будет для него планкой, которую не хотелось снижать. Еще одним судьбоносным фактором для Кончаловского станет картина его младшего брата Никиты — возмутителя спокойствия и неосознанного соперника.
Неожиданно блестящее продвижение Никиты побуждало Андрона все требовательнее относиться к себе и своим творческим замыслам. Быть может, его книги — это попытка объясниться с современниками, рассказав о своей жизни, испытать некие острые ощущения от разглядывания в лупу своих поступков и чувств. Обе книги Кончаловского я читала залпом, мне они были крайне интересны. Особенно первые части. Менее оригинальны его философские изыскания. Размышляя о прочитанном, я думала: зачем столь яркому человеку, режиссеру, кумиру мировых обольстительниц рассказывать о себе все самое непристойное, за что его будут осуждать, презирать, но уж никак не любить? Зачем делать достоянием публики низкие истины, которые каждый обычно скрывает или вуалирует? Быть может, стимулом для публичного стриптиза стало не только стремление к эпатажу (и, конечно, пиару), но и потребность однажды вывернуться наизнанку, чтобы дать своим внутренним побуждениям, благопристойным и неприличным, вторую жизнь, заставив принимать его таким, каков он есть.
Сквозь эту распахнутость души, обнаженность для пересудов и сплетен я прочитываю и комплексы, которые заставляют Андрона писать о себе то или другое. При всей полноценности ощущения себя суперменом, один из мотивов — все то же скрытое соперничество с братом, утверждение своего старшинства и первенства. Это отлично прочитывается в книге в сценах унижения Никиты, когда ему (Андрону), уже известному человеку, младший брат мешает работать, просится ехать с ним и его друзьями на какое-то интересное действо, а он отказывает. Описание взаимоотношений с Тарковским тоже заметно окрашены некоторой уязвленностью. Довольно прозрачна эта неспешность автора рассказать правду о том, кто и как первым придумал ту или иную сцену, начавшаяся несостыковка устремлений, мотивированность расставания с ним еще в России, заставившая вспомнить подробно (и честно), как происходил разрыв.
То же самое с женщинами. Думаю, это такая же необходимость самоутверждения, что и в рассказе о Никите и Тарковском. В бесшабашной наглости, которая стала причиной улюлюканья вслед Кончаловскому, когда он поименно обнародовал череду своих увлечений, в деталях поведав, кем оказались эти женщины (и в постели тоже — и это при жизни и здравствовании их в семье), просвечивает, как это ни парадоксально, комплекс неполноценности. Кончаловскому нужно было самоутвердиться как неотразимому в любви мужчине, именно здесь и сейчас. А мне лично хочется воспринимать масштаб личности Андрона Кончаловского много крупнее, чем он порой предстает в своей исповеди.
Последние годы мы нечасто встречались с Андреем Сергеевичем. Время от времени сталкиваюсь с ним на просмотрах, юбилеях. В какой-то момент мне померещилось, что его подтачивает нешуточная болезнь: обтянутые скулы, череп, проступающий сквозь сухую кожу. Худое, прозрачное, редкостно привлекательное лицо выглядело маской. Потом стало известно, что у Кончаловского проблемы с желудком, но он, словно феникс из пепла, снова стал возрождаться. Я встретила его году в 1999-м посвежевшим, полным сил, но все же в его тихом голосе, медленных движениях просвечивались осторожность, опаска, похожие на поступь человека, который, однажды провалившись под лед, теперь ступает и по земле, соразмеряя свои движения. А вскоре и это исчезло. Он снова (как «перед заходом солнца») начал влюбляться. Появляется барышня, которая становится его женой, страстно любимой, ребенок, которым он гордится. Где-то вклинивается история с мотоциклом, когда, он ехал по Нью-Йорку в холодную погоду, у него случилась авария: были переломаны ребра, плечо, голень. После этого инцидента он ходит в корсете, аппаратом фиксируется рука с множественными переломами. Сначала его склеивают в Штатах, затем отправляют в Москву, где он в течение двух лет преодолевает и это. И снова в способности на такое безрассудство, живущей в шестидесятилетнем человеке, видишь неукротимое желание жить, не поддаваться обстоятельствам, уже продемонстрировав своей страстно любимой подруге безоглядную отвагу и риск байкера. Последние главы его книги содержат признание в страстной ревности, в рабском ожидании приходов своей юной жены Юли. Вот он, лермонтовский «Маскарад»: «Бывали дни, меня чужие жены ждали, теперь я жду жены своей...».
Я увидела Андрона вскоре после выхода его первой книги — в Доме кино торжественно чествовали юбиляра. Это был его апофеоз. Юбилей открыла ретроспектива его фильмов. Состоялась российская премьера «Одиссеи» —телевизионного фильма, снятого с крупнейшими американскими актерами, удостоенного в Америке престижной награды ТВ — премии «Грэмми». Быть может, это и была высшая точка в биографии режиссера, вступившего на землю Америки «разнорабочим» и сделавшего картину, которую сами американцы удостоили высшей награды. Я наблюдала в фокусе прожекторов, как Кончаловский дал себя поприветствовать рукоплесканиями поднявшимся с мест зрителям и на лице этого современного Печорина отразилось неподдельное умиление и торжество. Когда он вышел на сцену, а зал стоя продолжал аплодировать под вспышки фото-, теле- и кинокамер — это был подлинный триумф всей его жизни.
В тот день я его поздравила, мы поговорили, и он упомянул об удивительном подарке, который хочет преподнести. Речь шла о той самой стенограмме по «Рублеву», которую он преподнес мне в Доме приемов несколько месяцев спустя.
До этого еще были встречи, когда после первой торжественной церемонии награждения «Триумфа» в 1993 году я предложила Кончаловскому поставить концерт на сцене Большого театра. Мы несколько раз пересекались у него дома, в ЦДЛ, он познакомил меня со своим продюсером в России Смелянским Давидом Яковлевичем, с которым и я впоследствии подружилась, хотя идея лопнула.
В замысле нашего концерта у него было нечто пафосное, расшитое драгоценностями, похожее на брежневские чествования с народными плясками. Я же мечтала об изысканном зрелище, совершенно не похожем ни на что, в котором начисто отсутствовало бы клише привычных торжественных зрелищ в Большом. Впоследствии такой концерт придумал Олег Меньшиков и использовал небывалое новшество — движущиеся живые картины: Сомов, Бакст, что-то от Серебряного века. В его команду вошли Павел Каплевич, Алла Сигалова, Валентин Гнеушев с цирковыми номерами. Андрон поставил зрелище, о котором мечтал, к 800-летию Москвы на Красной площади. Такой масштаб ему был по сердцу. Я по его просьбе уговорила Евгения Кисина сыграть там Первый концерт Чайковского4. В холодную предзимнюю ночь замерзшие зрители слушали Чайковского, их не разогнал даже холод и начавшийся промозглый дождь.
***
…В обсуждении «Рублева» были моменты, когда одна неудачная реплика могла предрешить судьбу сценария. Образчиком лицемерия, допустим, было предложение одного из руководителей студии Данилянца: «Поскольку мы все здесь запутались, — горестно пожал он плечами, — давайте пошлем этот вариант сценария в главную редакцию, надо найти там умных людей (здесь, естественно, все дураки), которые выведут ситуацию из тупика». Как и все мы, он хорошо понимал: послать значит похоронить.
Многие настаивали на сокращении сценария до одной серии.
— Мне кажется, что сценарий абсолютно не нуждается в сокращении, — настаивала я, — ведь сегодня вы рассматриваете лишь литературное произведение, это же только прообраз будущего фильма. Редкий случай, когда все записано авторами гораздо подробнее и длиннее, чем будет снято для экрана. К примеру, сцена охоты с лебедями. Я могу назвать несколько таких моментов, где подробности в записи служат обогащению замысла, насыщению действа информацией. Давайте, наконец, сдвинем ситуацию с мертвой точки, дадим возможность работать создателям картины с этим вариантом. На какой-то стадии только сам Тарковский ослабит или усилит напряжение, но для этого он должен уже работать с камерой. Дадим ему возможность. В режиссерском сценарии появится некоторый воздух, заиграет юмор, которым насыщен сценарий. Давайте доверимся режиссеру, прекратим эти издевательства над его психикой. Мое мнение, что уже сейчас в каких-то сценах есть и потери, сценарий может быть замучен. Предлагаю немедленно утвердить этот литературный вариант, дав возможность Андрею реализовать на съемках все приемлемое для него из сказанного.
Той же точки зрения придерживалось руководство объединения, однако Юрий Бондарев, подводя итоги, все же предложил отказаться от растяжки сценария на несколько серий.
Совершенно неожиданно нашим союзником предстала Н.;Д. Беляева из главной редакции. Я редко видела, чтобы человек с такой страстью отстаивал свою точку зрения. Будучи куратором фильма, она выступила против затягивания решения резче всех. «Видите ли, — почти выкрикнула она в конце, — я, может быть, скоро умру, и я хочу умереть с чистой совестью. Для меня история с этим сценарием выходит за пределы наших творческих производственных обстоятельств. Для меня она вырастает в нечто другое. Присутствуя на многих заседаниях и обсуждениях, я не слышала ни от кого, что эту картину не нужно делать. Все соглашаются, что фильм должен быть снят, и для меня это незыблемо. Два года тянется какая-то резина. Причем непонятно, может быть, товарищи встречаются с некоторыми людьми, которые активно против. Для меня это как какой-то неуловимый дух, с которым бороться трудно. Я просто пользуюсь тем, что ведется стенограмма, хочу заявить, что историю с этим сценарием я считаю преступлением против народа. Это преступление. Прошу так и записать».
Наступила зловещая тишина. Тарковский долго молчал, грыз ногти, в глазах то и дело вспыхивало бешенство, он пытался себя сдержать. Потом медленно, растягивая слова, поблагодарил присутствующих за внимание к сценарию. Черты худого, обтянутого кожей профиля заострились, он делал нечеловеческие усилия, чтобы не сорваться. Я неотрывно смотрела на его серое лицо, опасаясь самого худшего.
Он сразу же заявил, что ни о каком новом варианте, посылке наверх и мнения «умных людей» речи идти не может.
«Для меня выступление Данилянца было неожиданным, — сказал он. — Во-первых, мы уже сделали три варианта сценария помимо договора. По договору мы имеем право не делать больше ни одной поправки, больше вариантов сценария писать мы не будем категорически. Не будем писать по ряду причин, также и финансового свойства, но и не только поэтому, а и потому, что принципиально считаем сценарий законченным. Тем более, что после обсуждения, которое было сегодня, все замечания, которые мы сегодня получили, сводятся, по существу, к сокращению и уплотнению вещи. Что это для нас означает? Работа над режиссерским сценарием для нас означает не просто разрезание его на кадры. “Много серий” не будет, будут две серии, как и было задумано», — обернулся он к Юрию Бондареву. Потом в мою сторону. «Конечно, многое, что пишется в литературном варианте, уйдет на второй план, станет более лаконичным, что-то уйдет на третий план, что-то вообще, потому что я все равно знаю, что материал нужно как-то ужимать…», — он остановился; казалось, уже потерял ход мыслей. Это было мучительно для всех. И потом уже навскрик: «Я хочу только, чтобы был зафиксирован последний вопль души: дайте мне возможность скорее работать, иначе я дисквалифицируюсь как режиссер… Я не знаю, как буду проводить пробы, как буду ставить камеру. Я хочу заняться своей непосредственной режиссерской работой …Больше я не буду вдаваться ни в какие подробности. Короче говоря, я благодарен еще раз художественному совету, и, умоляю, помогите, чтобы начались съемки… Я уже теряю силы».
Этот вопль режиссера звучал в моих ушах. Теперь, вспоминая его слова, я пробую опрокинуть их в будущее, заглянуть в трагедию ранней смерти Тарковского, вспомнить, как мучительно и медленно он угасал, до последней минуты не прекращая съемок нового фильма. Уже совсем обессиленного, его привозили из больницы, делали обезболивающие уколы, и он продолжал работу. Так ведут себя художники, одержимые собственным талантом, для которых дар заполняет все их существование, даже тогда, когда физическая оболочка уже истончена и разрушена, а дух остался. Так умирал в Париже и Рудольф Нуриев, привозимый в коляске в Grand Opera на репетицию балета Стравинского. Сродни этому и смерть Андрея Миронова и Олега Даля.
А тогда, 16 января 1963 года, сценарий был утвержден «в основе» с обязательством «доработать» «Рублева» на стадии режиссерского варианта «в духе высказанных замечаний». Думаю, что ощущение, охватившее всех нас после заключительных слов Тарковского, заставило чиновников пойти на эти уступки.
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
1 Фильм вышел в 1966 году.
2 Фильм 1962 года, снятый по повести Владимира Богомолова «Иван».
3 Фильм был снят в 1964 году.
4 Первый концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского
…………………………………………………………………………………………………………..
Шестое объединение «Мосфильма» (Часть четвертая)
Зоя Богуславская / Центр Вознесенского April 17, 2024
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
Да… в случае с Тарковским Объединение одержало победу. Но какой ценой? «Рублев» выйдет в прокат, искромсанный цензурой, много позже. По ходу продвижения картины на экран Тарковский переживет не одну тяжелую депрессию, которая скажется на всей его дальнейшей работе и в России, и за рубежом. В России он снимет пять картин высочайшего художественного достоинства, каждая из которых несет следы трагического разлома души, восприятия автором творчества, как мученичества. Одиночество и непонимание, длительные бесцельные простои после каждой новой картины приведут Тарковского к решению покинуть Россию. В своей книге «Низкие истины» Андрей Кончаловский выскажет предположение, что Тарковский в силу природы его таланта, несовместимого с общепризнанным взглядом на искусство, несколько преувеличивал накал преследования его. «Ему казалось, — пишет Андрей Сергеевич, — что против него плетут заговоры, что ему планомерно мешают работать. Убежден, намеренного желания препятствовать ему в работе, во всяком случае, в последние годы, не было. Просто сценарии, которые он предлагал вверху сидящим, казались им странными, заумными, непонятно о чем. В них не было социального протеста, способного их испугать. Андрей не был диссидентом. В своих картинах он был философ, человек из другой галактики» (с. 89).
Мне кажется, это не совсем так. Тарковский каждый раз загонял обиду внутрь, осознавая, что против него (его эстетики и таланта) ведется организованная кампания — его воображение в периоды бездействия усиливало трагическое состояние. Если человек этой силы воли, абсолютной жесткости, бескомпромиссности все же терпит издевательства над его личностью — это не может остаться без последствий. Беспощадный к себе, он мог снимать лошадей, которых живыми сбрасывали со второго этажа Андронниковского монастыря, воспроизводя татарское нашествие, добиваясь исторической подлинности и достоверности. Эта жесткость, бескомпромиссность Тарковского разрушала его здоровье, работа над «Рублевым» не позволяла переключиться ни на что другое — картина стала в эти годы делом жизни.
После отъезда Тарковского начнется массовый исход из страны писателей и художников, отличающихся группой крови от общепринятой. На какое-то время тихо, без огласки и политических анонсов, отъехал из России и Кончаловский. За рубежом он сделал пять или шесть вполне качественных картин, затем вернулся. За свободой поехали Михаил Калик, Фридрих Горенштейн, еще позднее Василий Аксёнов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и многие другие — цвет тогдашней интеллигенции. Судьбы их сложились по-разному.
Вынужденная эмиграция коснулась почти всех первопроходцев нового искусства, экспериментаторов, носителей рискованных тем и характеров. В живописи, монументальном искусстве — Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Лев Збарский, Ицхак Рабин, Юрий Купер — участники Белютинской и бульдозерной выставок. Я была прикрепленным куратором фильма Калика «До свидания, мальчики»1, о котором уже упоминалось. Автор поэтической сказки «Человек идет за солнцем» с музыкой Микаэла Таривердиева Калик снял одну из самых щемящих лент о трагедии двух влюбленных, разлученных войной. В Израиле, куда отбыл Калик в поисках работы (в 1971 году — Прим. ред.), он не вписался своим наивно-романтическим дарованием в жизненный распорядок перманентно воюющей страны. Лично я больше не видела его картин. Многие эмигранты были успешны, но мало кто превзошел достигнутое ими в России. А сегодня почти все уцелевшие вынуждены одной ногой стоять на земле, приютившей их (Израиль, Франция, США, Швеция, Германия и др.), другой — здесь. Наше Объединение сотрудничало со всеми уехавшими, вытаскивая запрещенные к печати или появившиеся в самиздате вещи.
***
Между первым и вторым арестом Александра Солженицына была попытка реализовать хоть что-нибудь из сочинений писателя, почитаемого за пророка, хотя само имя его в те годы уже изымалось. И вот чудо! Удается подписать авансовый договор с Александром Исаевичем на экранизацию рассказа «Случай на станции Кочетовка», хотя его повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в «Новом мире» Александром Твардовским с благословения самого генсека Хрущева, даже не могла быть упомянута. Власть испугалась потока «лагерной» литературы. Время стремительно менялось, заморозки крепчали.
Я была знакома с автором ГУЛАГа. Встречались раза два в Театре на Таганке — Любимов был близок с Александром Исаевичем, навещал его во все времена, и теперь, ко дню 80-летия, он поставил на Таганке спектакль «Шарашка» (по главе из романа «В круге первом»), сам сыграв Сталина в 1998 году.
Где-то году в 1965–1966-м Солженицын был и на спектакле «Антимиры». По окончании в кабинете Юрия Петровича мы посидели, попили чаю. Впоследствии возникли слухи о каком-то раздраженном высказывании Солженицына о Вознесенском, где он находил его талант холодным. А тогда, на Таганке, Александр Исаевич хвалил и стихи, и актеров, хотя мне-то казалось, что все увиденное было ему чуждо — он художник другой галактики.
Спектакль «Антимиры», который, как известно, прошел на Таганке свыше тысячи раз, неизменно собирал полные залы. Несомненно, какое-то эстетическое влияние, восприятие нового у поколения 60-х шло через «Антимиры». Десятилетия спустя встречались люди, которые, узнавая Андрея Вознесенского в аэропорту, на улице, на каких-то обсуждениях и приемах, говорили: «Мы воспитаны на ваших стихах и “Антимирах”...». Почти всю поэзию, звучавшую в «Антимирах», знали наизусть. Конечно же, благодаря Любимову и исполнителям — Высоцкому, Смехову, Золотухину, Славиной, Демидовой и многим другим. Важно и то, что в первых спектаклях, а потом только в юбилейных стихи читал сам автор, что подогревало интерес.
По просьбе Александра Алова я взялась поговорить с Александром Исаевичем о возможном договоре. Увы, мы хорошо понимали, что сейчас фильм по Солженицыну никто не разрешит, однако это был именно тот случай, о котором упоминал Василий Аксенов — на стадии заключения договора нас не контролировали, а аванс автор мог не возвращать, даже если картина не состоялась. Для бедствовавшего, напрочь запрещенного писателя в то время это было благом. А там, полагали мы, глядишь, и наступят другие времена. С Александром Исаевичем мы встретились, договор был подписан на рассказ «Случай на станции Кочетовка».
В следующий раз встреча с Александром Исаевичем случилась у нас в Переделкино. Это было зимой. Дома были в сугробах, снег чуть подтаивал, на дороге слякоть мешала езде, машины буксовали. Мы знали, что на даче Корнея Ивановича Чуковского скрывается Солженицын, тщательно оберегаемый хозяином. Позднее он жил у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской довольно долго. Его пребывание там описано подробно в книге Галины Павловны.
Сохранилась фотография Вознесенского и Александра Исаевича того времени, довольно удачная. Когда открылся «Дом русского зарубежья», я отдала фотографию Наталье Дмитриевне, жене писателя и директору музея. Но то был момент нашего пересечения, который оставил след в поэзии Андрея.
Итак, Корней Иванович позвонил мне в Дом творчества:
— Зоя, не собираетесь ли вы в Москву?
Живя там, я часто бывала у него в гостях. Началось с того, что он прочитал мою монографию о Вере Пановой, похвалил и пригласил на дачу. Потом он дарил мне свои книги и «Чукоколу», в которой были и стихи Андрея. Очень памятен был вечер в его доме с приехавшей из Сан-Франциско Ольгой Андреевой Карлейль — внучкой Леонида Андреева, художницей и писателем, которую Корней Иванович знал еще ребенком.
— Собираемся, — ответила ему, — пытаюсь завести машину, а что? — У меня был Жигуленок № 3, исправно бегавший уже не первый год, водитель я была классный.
— Не добросите ли моего жильца до столицы?
В тот раз мы с трудом въехали на дачу Чуковского, а на обратном пути забуксовали. Непролазные сугробы перекрыли выезд. Андрей с Александром Исаевичем взялись толкать машину, я выворачивала руль, делала раскачку. Жаль, не могла это заснять, была бы неслабая фотография. Стихотворение Андрея об этой истории, которое он посвятил мне, заканчивалось строчками: «…Он вправо уходил, я влево, дороги наши разминулись».
В город мы ехали почти молча, когда приближались к Москве, Александр Исаевич стал нервничать, в какой-то момент предложил ехать тише. Пытаясь успокоить его, я похвасталась, что вожу машину с 18 лет, всегда безаварийно, в таком режиме, волноваться не стоит. Солженицын отреагировал жестко: «Зоя Борисовна, я не для того претерпел все — и тюрьму, и лагерь, чтобы из-за вашего лихачества или случайности рисковать жизнью. Езжайте осторожнее, пожалуйста». Осторожнее, так осторожнее, я сбросила скорость. Мы дотянули до Москвы, ни о чем не спрашивая. Подъехав к Арбату, Александр Исаевич внезапно тронул меня за плечо и попросил: «Высадите меня здесь. Когда я пойду, не оглядывайтесь. Не хочу, чтобы знали, куда я направлюсь». Сухо поблагодарив, он попрощался со мной и Андреем и вышел. Мы застыли, ошеломленные. Минут десять не решались двинуться с места. Тогда я подумала, что в человеке, прошедшем ГУЛАГ, всю жизнь не исчезнет зек. Конечно же, и в мыслях у нас не было запоминать его передвижения. Нам рассказывали, что и в Штатах, в Вермонте Александр Исаевич оградил свое жилище высоким забором с проволокой.
***
Жизнь в других кинообъединениях складывалась ненамного благополучнее. Правда, авторитет крупных мастеров старшего поколения: Пырьева, Александрова, Ромма, Козинцева, Зархи и других, помогал некоторым их лентам быстрее продираться сквозь частокол инстанций. К тому же, у каждого из них часто срабатывал внутренний редактор, которого Александр Твардовский почитал опаснее, чем цензуру. Не дожидаясь санкций, прогнозируя возможные претензии начальства, порой мастер сам уродовал свое детище. Некоторые писатели и режиссеры театра и кино переходили на детскую литературу, создавали повести и фильмы-сказки, что позволяло им иносказательно протаскивать запрещенные темы, расцвечивая фольклорными мотивами ткань ленты. Успех картин Григория Александрова и Ивана Пырьева был всенародным. Это был, порой сознательно мастерски выполненный, госзаказ на тему «Эх, хорошо в стране советской жить!». В придуманном мире иногда творили и Любовь Орлова, Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Николай Крючков — они были нашими тогдашними Кларками Гейблами, Мерилин Монро, Габенами, Джуди Гарлендами.
Когда началась горбачевская перестройка (1985), с полок были сняты более 50-ти Мосфильмовских картин. Увы, испытание временем из них выдержали очень немногие. Даже «Застава Ильича» Марлена Хуциева — культовая картина, ослепительно ярко отразившая взрывной настрой, ликование поколения в начале 60-х, или фильм того же Михаила Калика «До свидания, мальчики» — апофеоз, вызывавший слезы первой любви, при душераздирающем прощании уходящих на войну, в никуда 18-летних — будучи показанными сегодня, в наше грубое время вседозволенности, оказались наивно-романтическими. Стерся пафос бунта против серости, ограниченности, ушел ассоциативный ряд. Конечно, возвращению на сегодняшний экран запрещенных в те годы картин мешало и качество съемок, сам способ показа. За прошедшие 40 лет возможности кино ушли далеко вперед. И вот парадокс, сегодня, когда экраны заполнены насилием, стрельбой, ненормативной лексикой или разгулом секса, фильмы 40-х–50-х, как яркие павлины, воспринимаются сказками с добрым юмором, бесконфликтностью, за которую их в то время шельмовали. Отбрасывая недостоверность смысла, зритель впитывал мастерство их создателей, панораму яркой зрелищности той счастливой жизни.
Во время хрущевской оттепели, когда еще не устоялась идеология власти в новых условиях, в хаосе осмысляемого и запрещенного смогли проскочить немногие смелые творения мастеров искусства. Даже после марта 1963 года, крика Хрущева на интеллигенцию, когда, размахивая кулаками с трибуны Кремля, он выгонял Андрея Вознесенского из страны, ничто не могло повернуть процесс вспять, заглушить ростки вольности, проросшие во все сферы жизни и искусства. Все, чем знаменита та встреча вождя с интеллигенцией, запечатленная на документальной пленке, вызволенной из архивов КГБ, ныне может быть проанализировано и оценено по достоинству. Неостановимо было новое мышление, занесенный кулак Хрущева и протянутая им рука прощения — они тоже были веяниями нового десятилетия, когда громили, но не сажали, запугивали, но не хватали. Десятки вернувшихся из лагерей свидетелей беспредела и расстрелов уже несли правду истории, уроки многомиллионных жертв тоталитарного режима. Мы узнавали такие ошеломляющие детали, что, казалось, возвращение власти в тот строй и систему взглядов уже невозможно. Заблуждение развеялось, хотя и не полностью, в 1966-м, когда выслали Бродского, а несколько лет спустя начался процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
В это же время вышедшие из подполья рок-группы все глубже разъедали принятые каноны, власти не смогли закрыть Современник и Таганку, иллюзия разрешённости заставляла нас продвигаться в запретное пространство вольницы. Противоречивость эпохи отражалась и в странном поведении министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой. Бесконечные запреты, которые она озвучивала, ее попытка держать под бдительным оком личную жизнь каждого крупного художника, в особенности посланцев культуры за рубежом, ее смертельный страх перед «аморалкой», гневом Хрущева и политбюро неожиданно сменялись отвагой, желанием понять и защитить талант. Она поддавалась риску интуитивных прозрений. Так, она назначила неуравновешенного бунтаря Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа, разрешила репетиции острых пьес Михаила Рощина, Михаила Шатрова, Александра Гельмана, в какой-то момент не дала снять Юрия Любимова с поста худрука Таганки (потом, правда, испугалась), способствовала она и назначению Александра Алова и Владимира Наумова руководителями нового объединения. Сегодня некоторые художники — Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Григорий Чухрай — вспоминают о женщине в ранге министра, которая защищала их, но правду о ней и мотивах ее самоубийства до конца не рассказывает никто.
В конце 70-х стало очевидно, что идеологически «построить» два «новых» поколения граждан, вкусивших оттепели и увидевших западный образ жизни, уже не удастся. Именно те, молодые в середине 80-х, при горбачевской перестройке, рванутся в свободное плавание, решительно осуществляя замыслы, о кото рых мы в 60-х и мечтать не смели. Появятся картины, далеко шагнувшие вперед — «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, «Покаяние» Абуладзе, ленты о фашизме и другие.
Как я уже говорила, после смерти Александра Алова продуктивность в Шестом объединении резко упала, потеря соавтора и друга для оставшегося в одиночестве худрука долго мешала ему обрести форму. А потом произошли изменения и в его личной жизни. Наумов расстался с красавицей-актрисой Эльзой Леждей, известной сегодня более всего по роли эксперта Зиночки в сериале Лавровых «Следствие ведут знатоки», своего рода предтечи образа Анастасии Каменской в исполнении Елены Яковлевой в цикле романов Александры Марининой и Марии Швецовой в исполнении Анны Ковальчук в телесериале «Тайны следствия». О браке с Леждей Наумов потом скажет довольно жестко: «Он был кратким и неудачным». Хотя он подарил ему любимого сына, ныне талантливого кинематографиста. В новой семье родилась дочь, ставшая заметным режиссером.
Наталия Белохвостикова явила собой на отечественном экране образ редкой чистоты. Актриса с врожденным изяществом, высоким лбом и тоненьким детским голоском была открытием Сергея Апполинариевича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой. К моменту брака с Владимиром Наумовым2 несмотря на столь юный возраст она уже была признанной актрисой. Сергей Герасимов снял ее в 17 лет. Она была студенткой ВГИКа и сыграла главную героиню в его двухсерийном фильме «У озера». Довелось ей еще в ученические годы стать Джульеттой — об этой роли мечтает каждая молодая актриса, затем крайне успешная роль Матильды де ля Моль в «Красном и черном» у своего любимого учителя Герасимова. Точно переданные Наталией Белохвостиковой аристократизм, жесткость, порой чопорность избалованной Матильды, влюбившейся в простого стажера, и затем безрассудность ее страсти — эта роль показала диапазон возможностей молодой исполнительницы, воспринимавшейся зрителем наивной девушкой из фильма «У озера».
Впоследствии Наташа Белохвостикова отдаст дань своим учителям, очень точно определив разделение их ролей в воспитании учеников: жесткость, непререкаемость подчинения при скрытой нежности, размах режиссерской выдумки Сергея Герасимова и человеческий педагогический талант Тамары Федоровны, ее готовность опекать своих питомцев, бережно вникая в их психологию.
И сегодня я встречаю Владимира Наумова на чьих-то юбилеях, презентациях и, увы, похоронах. Седой, худощавый, высокий, он сохранил шевелюру, блеск глаз, подвижность и быстроту реакции. Иногда мы вспоминаем что-то из прошлого — скольких уже не досчитываемся из нашего объединения первого созыва! Он неизменно доброжелателен.
Однажды я заехала к нему на «Мосфильм». Захотелось побывать в комнатах, где сиживали 40 лет назад, увидеть, что сохранилось внешне от того, дальнего Шестого объединения. Переместилось и расширилось пространство, где когда-то за одним большим столом размещался наш Совет, где мы возмущались, бились до крови за новые фильмы. Почти все неузнаваемо перестроено. Только насыщенная фотографиями, афишами, книгами приемная худрука напоминает о былом.
От самого «Мосфильма», еще пять лет назад угасавшего в запустении, веявшем от обветшалых коридоров и неслышных голосов, сегодня можно ждать возрождения. Выпускаются фильмы качественные, будоражащие, выходящие на мировой экран. Нам не дано предугадать, достигнет ли этот уровень в новых временах тех былых шедевров. А наше содружество в Шестом, образованное людьми, временем, прессингом властей и периодом высвобождения, напоминает уже комету, которая, падая на Землю, теряет свой свет.
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4
1 Фильм снят в 1964 году
2 Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов поженились в 1974 году. — Прим. ред.
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ
Читайте в цвете на старом ЛИТСОВЕТЕ!
Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник Быль ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после «Пощёчины общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска! Спрашивайте у авторов!
06.09.15 07:07
45-тка ВАМ new
КАЙФ new
КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
СОЛО на РОЯЛЕ
СОЛО НА РЕИНКАРНАЦИЯ
Форма: КОЛОБОК-ВАМ
Внуки Ра
Любящие Ерёмина, ВАМ
Форма: Очерк ТАЙМ-АУТ
КРУТНЯК
СЕМЕРИНКА -ВАМ
АВЕРС и РЕВЕРС
ТОЧКИ над Ё
ЗЕЛО
РОГ ИЗОБИЛИЯ БОМОНД
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ
КаТаВаСиЯ
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ
СИБИРСКАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"
5-й УГОЛ 4-го
Альманах ЭФИР В ШОКО-ЛАДЕ на ЛИТ-РЕ
на СТИХИ.ру http://stihi.ru/2024/10/03/301
ВО БЛАГО Альманах на ЛИТ-РЕ
https://litra.online/poems/vo-blago-almanah-mirazhistov/
на СТИХИ.ру
http://stihi.ru/2024/11/28/190
Альманах на ЛИТ-РЕ Поднять якоря!
на СТИХИ.ру
http://stihi.ru/2024/12/11/700
Альманах на ЛИТ-РЕ
https://litra.online/poems/din-din-den-almanah-mirazhistov/
на СТИХИ.ру
http://stihi.ru/2025/01/05/8015
Альманах на ЛИТ-РЕ
https://litra.online/poems/din-din-den-almanah-mirazhistov/
на СТИХИ.ру
http://stihi.ru/2025/01/05/8015
Альманах на ЛИТ-РЕ
https://litra.online/poems/kgorizontu-almanah-mirazhistov/
на СТИХИ.ру
http://stihi.ru/2025/01/09/8073
кометААндрея
Виртуальный Альманах Миражистов
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,
Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,
Ерог ЗАЙЦВ ; (Егор ЗАЙЦЕВ),
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ
2025
СОДЕРЖАНИЕ
кометААндрея
Виртуальный Альманах Миражистов
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,
Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,
Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ
КрасноярсК
2025
Альманах на ЛИТ-РЕ
на СТИХИ.ру
Свидетельство о публикации №125012700933