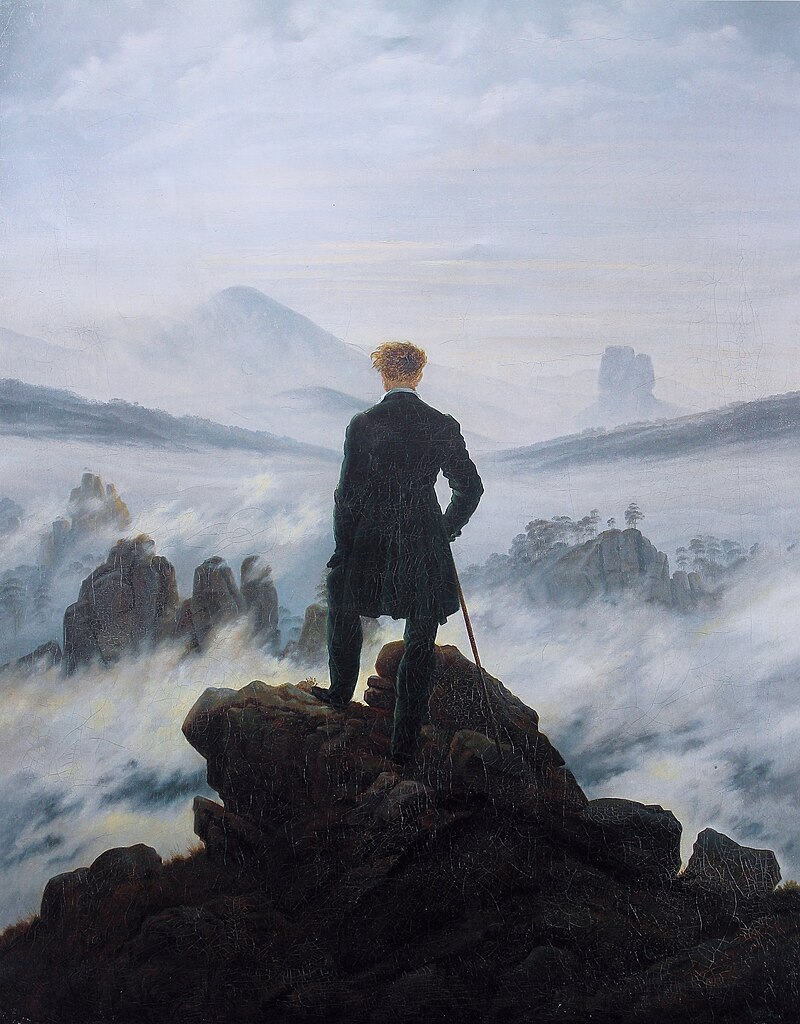Одиночество
Ну, да. Ну, да...
Без того или иного общества, как и общения (тоже – того или иного), человеку – никак.
Однако, не в меньшей степени (если не в большей) он – существо Одинокое.
Тема (проблема), конечно – философская (как «экзистенциалистски», так и в плане определения основных категорий). Но и в рамках искусства она – не на обочине. Будучи явленной и в образе, и в слове. Обильно и изощрённо. В самых разных своих гранях, вывертах, загогулинах.
Сами её прогоняли и в одном режиме, и в другом. Так, с давних уже пор (а последние лет 14 – особенно) – скорее, на стыке того и другого, чем в особку. По-герменевтски, так сказать. И в стих, и как-то в «опусь».
А зашла мне эта тема сейчас – снова под Кржижановского. Посему мой донецкий знакомец может сильно не задаваться: будто это он подвиг меня на такой изворот своим «Письмом к Одиночеству» (от 12.01). Но и ему – кивнём (не без благодарности).
А и кто из великих (и не так, чтобы) с этой Барышней (пусть и среднего рода – привет Серёге!) не расшаркивался?!
Сам я (не Великий, конечно!) отчего-то так и не решился величать ей (ему) посвящённое единственным словом-именем: «Одиночество». Ни разу – в многократных из обращений. Хотя...
Я – об одном из тех, что сохранились из Былой (уже Далёкой, когда все ещё были...) и – с трудом верится, что Своей. Жизни...
Из не ахти каких (дипломатически выражаясь).
Так и оно (корявое) лежит в моём Тайнике под названием «Меланхолия». Но поскольку само это название, вероятно, было присвоено всё-таки постфактум, можно допустить, что первым было...
В грустном взгляде – немой укор.
На губах чуть улыбка морщится.
С фотографии бьёт в упор –
Одиночество, одиночество.
Дни прошедшие не забыть.
Память ржавчиной не источится.
В сердце впилась стальная нить
Одиночества, одиночества.
На коленях судьбу прошу:
Пожалейте, Ваше Высочество!
Словно камень в груди ношу
Одиночество, одиночество.
Где вина моя? Что совершил?
Жизнь проходит, а жить так хочется!
Тает, тает остаток сил…
Будь ты проклято, одиночество!
(1979)
Мой выпускной-студенческий. Под что-то накопившееся-настоявшееся (чьим был грустный с укором взгляд – помню). При всём его (стишка) «не ахти».
Так и семь раз по всему тексту повторил! О-О-О... И, в конце концов, проклял. Дурашка! Я – не к тому, что Одиночеству надо петь дифирамбы, бросаясь ему на шею.
А «Меланхолия» (в Имя) была у меня уже «по сю сторону». Пусть и это «по сю» отступает всё дальше и дальше...
И нас не минет Меланхолия.
Сотрёт. Расплющит. Исковеркает.
Она растёт и приближается
в лиловой тоге роковой.
Оставлю Унгерну Монголию.
Расчёты – Ньютону с Коперником.
А сам, склонившись над скрижалями,
узрею строгий приговор.
Дана в аренду. Злом напичкана.
Не жизнь! –
Взаимопожирание.
И смерть, скорей, освобождение
от вурдалаков и камен.
Глядится Фрейд в Альфреда Хичкока.
Верёвка сплетена заранее.
И рядовое наваждение
рабам готовится взамен.
(12-13.08.2017)
Зато – без упоминания (в слово) самого Предмета. Серёгиной Барышни.
А так, чтобы... Да с одним только буквальным по тексту... С нюансировкой (как-то – лермонтовской) различия между Одиночеством и Одинокостью.
Зашмат. У меня-невеликого.
Включая «Сто лет одиночества».
Чувствую, что затянется. Намеревался, собственно, вокруг Сигизмунда. Но, боюсь, что где-то снова придётся прикинуть о «гранях-углах». А и кому-то из иных, почитаемых мною, воздать.
Если о последних, то, помимо «Паруса» Михаила Юрьевича, в первых рядах маячит Иван Алексеевич. Бунин. У коего только в «имя-название» – аж два.
Разношерстных!
А Бунин (именно, как поэт) где-то в 2004-2005-м был для меня «всё». Да и на первых порах уже своего Опыта (с 2011-го) шёл рука об руку. Не без того (первого) его «Одиночества», пусть в число любимых оно и не заходило.
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождём у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
<1903...>
Самому Бунину этот стих нравился. Иначе он бы не записал его в голос. Правда, я читал бы текст не так. Мабыть, ещё в большую нуду-занудность. Понятно, что безо всякой декламации. Но – всё одно не так. Более отстранённо, что ли.
Кому-то бунинское (это) нравится, кому-то – напротив. Мне у него нравятся иные. Пусть и они – не без занудности. Бунина-поэта вообще немногие любили. А Одиночество он ковырнул и в других.
То, что также в само Название (с «худой компаньонкой», похожей на зебру в своём полосатом трико), заходит в Тему иначе. И в настроение, и...
Правда, и там – он и она. Но в первом разлюбившая и ушедшая женщина была родной. И оттого одиноко ему. Одиноко – под стать ненастной погоде и холодной пустыне воды. А страсти там нет. Просто породнились, срослись. Потому и больно. Но... До весны он как-нибудь доживёт.
Спустя десять лет (между текстами) – тоже холодно. Тоже – у воды. Даже – у моря. На пустынном берегу, где некому (почти) увидеть жаждавшую того её. А одиноко, похоже, обоим. Иностранке и наблюдавшему за ней, с обрыва, русскому писателю.
Женщина – конечно, другая. Чья-то – «компаньонка» (в каком, интересно, смысле?). И собака (с ней) – не та, что собирался под своё одиночество, когда-то, купить он.
Но – перекликаются. При всей разности настроения.
Худая компаньонка, иностранка,
Купалась в море вечером холодным
И все ждала, что кто-нибудь увидит,
Как выбежит она, полунагая,
В трико, прилипшем к телу, из прибоя.
Потом, надев широкий балахон,
Сидела на песке и ела сливы,
А крупный пес с гремящим лаем прядал
В прибрежную сиреневую кипень
И жаркой пастью радостно кидался
На черный мяч, который с криком «hop!»
Она швыряла в воду... Загорелся
Вдали маяк лучистою звездой...
Сырел песок, взошла луна над морем,
И по волнам у берега ломался,
Сверкал зеленый глянец... На обрыве,
Что возвышался сзади, в светлом небе,
Чернела одинокая скамья...
Там постоял с раскрытой головою
Писатель, пообедавший в гостях,
Сигару покурил и, усмехнувшись,
Подумал: «Полосатое трико
Ее на зебру делало похожей».
10.IХ.15
И собаки, радостно откликающейся на «hop!» – мало. Необходим (Одиночеству) ещё хоть чей-то взгляд. Посторонний...
Да. И скамья там – тоже одинокая. Почерневшая... А, впрочем, просто чёрная, как и тот, играющий с собакой, мяч. Как полосы на её трико. Чёрные по белому. Как у зебры. А мабыть, и у жизни. Вообще. Которой тоже надо, чтобы за ней кто-то наблюдал. Одинокий.
Он на запад глядит – солнце к морю спускается,
Светит по морю красным огнем.
Он застыл на скале – ветхий плащ развевается
От холодного ветра на нем.
Опираясь на меч, он глядит на багровую
Чешую беспредельных зыбей.
Но не видит он воли – только думу суровую
Означают изгибы бровей.
Древен мир. Он древней. Плащ Одина как вретище,
Ржа веков – на железном мече...
Черный ворон Хугин, скорбной Памяти детище,
У него на плече.
<1906-1907>
Вообще-то, у скандинавов он был Один, а не ОдИн. Германское верховное божество. Предводитель асов. Внук первочеловека Бури. Бог войны, победы и скальдической поэзии.
С иным пейзажем и без Хугина на плече мне, под это, заходит картина Каспара Давида Фридриха. «Странник над морем тумана» (1818). Впрочем, Море Тумана, выглядит ещё символичнее, чем просто море. Так, и у Бунина... Один не видит волн (в багровой чешуе беспредельных зыбей). Бо погружён в Думу суровую. Бо сам древнее Древнего Мира.
Великаны-перволюди. Начавшиеся с Имира, появившегося из таявшего Льда вместе с мифической коровой Аудумлой, кормившей его молочными реками, истекающими из её вымени. И она же вылизала из камней прародителя асов, деда Одина Бурю. А мабыть, тот сам вылез из уже вылизанных ею глыб.
В этих (любых) мифах-мифологиях всё переплетается и пляшет. Потому – и с ударениями часто путаемся. И Мунина за Хугина принимаем. Я – к тем воронам, кружащим над Мидгардом – огороженным срединным миром «простолюдинов» – и доносящим Одину о том, что там происходит. Мунин-таки – Помнящий. Память. А Хугин – Мыслящий. Мысль.
И который из них был важнее – не ведаю. Мабыть-таки – Мысль. Потому он и на правое плечо Владыке присаживался. А Помнящий (Мунин) – уже на левое. Так и накаркивали. В Думу суровую...
У Каспара Фридриха (если тот странник – таки сам Один) вороны ещё где-то в облёте пребывают. А Тот их поджидает, вперившись в туман, нависающий меж горными кряжами.
К немецкому художнику-романтику в мае 2019-го, за неделю, я накидал целый цикл. В 12 виршей. Прямо на эту картину не затесал, хотя мимо неё, конечно, не проходил.
Странник... Сюда бы ещё и «Зимний путь» от Шуберта.
А если уже из Бунина, то – одно из поздних (когда стихи он, считай, и не слагал). Один, как бог над бездной, с отдалённым гулом моря и гласом самой бездны. В гулкой тишине
Один я был в полночном мире, –
Я до рассвета не уснул.
Слышней, торжественней и шире
Шел моря отдаленный гул.
Один я был во всей вселенной,
Я был как бог ее – и мне,
Лишь мне звучал тот довременный
Глас бездны в гулкой тишине.
6. XI. 38
В общем, – тот же Один.
И, наконец – просто последнее. Бунина.
Ледяная ночь, мистраль,
(Он еще не стих).
Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.
1952
Только я да Бог...
Последнее?! –
В смысле – Последнее из всех Одиночеств. Потому и ночь – не просто Холодная, но – Ледяная.
Или: Последнее – всё-таки уже и без Бога. Можно и так, и так...
А теперь можно и опять к Кржижановскому.
16.01.2025
Свидетельство о публикации №125011604224
Эпиграф1:
«Я как одинокая птица без гнезда… Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно… а куда полететь?»
(И.С.Тургенев)
Эпиграф 2:
«Оставим Унгерну Монголию»
(Вольф Никитин)
К Вашим, с Буниным, ста летам(многия ле́та) Одиночества, добавлю свои, с Тургеневым, двести.
Отмечали 200 лет со дня рождения в 2018. Весь мир в гости к нам слетелся тогда— по иному, впрочем, поводу: ЧМ по футболу. Такой вот калейдоскоп многообразия и инклюзивности. От которых теперь и в штатовских Макдональдсах решили отказаться. Как бы чего не вышло опосля инаугурации?
Вот и мне, одинокому, примерещился Бунин в ноябре 1918 года. Тогда он писал, что сожженная большевиками Россия не заслужила права чествовать память великого мастера слова. Вот бунинский текст. Одесса. 1918 год. Название: "Страшные контрасты". И тогда, как и ныне. Калейдоскоп многообразия и "одинокость" Коhелета.[ Кстати, а что может быть инклюзивно-многообразного в одиночестве "на берегу пустынных волн" когда-то столь ценимого мной Фридриха? Ну стоит одинокий тогдашний Унгерн(имя им —легион), ну думает свою амбициозную думу: как бы новых земель побольше захватить, да вернуться в Vaterland баснословно богатым, в перьях лебяжьих и в алмазном блеске Славы! Петушится он в своем одиночестве. Венценосный петушок. Задира и дуэлянт. Не Коhелет. Куда уж! Хоть и напоминает траурностью одеяния вполне экклезиастического Канта. О сём последнем—ни слова! Бо начитался давеча о Кенигсберге послевоенном, застеленном массово Зяноновскими "людьми с востока". Вот где "страшные контрасты".]
Но—к Бунину-Тургеневу!
Стальено 16.01.2025 18:05 • Заявить о нарушении
«Можно ли придумать более страшные контрасты: Тургенев и современная русская литература, годовщина тургеневского рождения — и годовщина так называемого большевизма, сделавшего родину Тургенева позором всего человечества! Можно ли говорить о Тургеневе при наличности таких контрастов!
В русской литературе уже давно началось и плотно водворилось нечто подобное тому, что ныне происходит в русской жизни. Литература Пушкина, Толстого, Тургенева за последние десятилетия так низко пала, — до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши Блока! — настолько потеряла ум, вкус, такт, совесть и даже простую грамотность, так растлила и втоптала в грязь «великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым, что для меня достаточно было бы и одного этого, чтобы встретить тургеневский юбилей только стыдом и молчанием. Но говорить о Тургеневе в это ни с чем не сравнимое время, когда Бог привел мне видеть подтверждение моих дум о русском народе в такой ужасной мере, говорить о великом и прекрасном русском поэте и вспоминать наряду с этим 28 октября прошлого года, когда русский народ, с радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги наемных разбойников, жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль, говорить, еще чувствуя на глазах горечь тех слез, которыми я плакал в Орше, оставив за собой развалины России, праздновать тургеневскую годовщину в дни, когда там, на этих развалинах, тоже празднуют, — сразу две годовщины! — праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, который, может быть, в эту минуту, ломая роль «фанатика», произносит среди человеческих и лошадиных трупов пламенные речи о пользе просвещения и щедро оделяет томиками «социализированного» Тургенева — победоносный русский демос, тот самый демос, который уже осквернил могилу Толстого, сжег дом Пушкина, в прах разнес родовое тургеневское гнездо, а теперь спокойно дерет окровавленными лапами эти самые томики на цигарки, — нет, говорить и праздновать в эти окаянные дни уже совсем выше моей силы.»
Примечания
Одесские новости. — 1918. — 10 ноября (№ 10839). — Печатается по: Бунин-1990.
…годовщина тургеневского рождения… — 28 октября (10 ноября) 1918 г. исполнилось 100 лет со дня рождения И. С. Тургенева.
…считаются событием … вирши Блока… — имеется в виду поэма А. А. Блока «Двенадцать»; в печати появляются крайне резкие статьи по поводу этой поэмы (см.: Чеб<отарев>ская А. Стрельба по своим // Новый вечерний час. — 1918. — 29 янв.; Крайний А. <Гиппиус 3.> Люди и нелюди // Новые ведомости. — 1918. — 10 апреля; ее же. Неприличия // Современное слово. — 1918. — 16 июня; Чулков Г. Красный призрак // Народоправство. — 1918. — № 23/24). Бунин тоже отнесся к этой поэме Блока отрицательно. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г., что Бунин «нападал на пошлый язык.
— Поэту я этого простить не могу и ненавижу его за это…» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 210).
…«великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым… — слова из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». У Тургенева: «…о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
…жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль… — речь идет об Октябрьском вооруженном восстании в Москве 25 октября (7 ноября) — 3 (16) ноября 1917 г. Вечером 27 октября на Красной площади произошло столкновение между отрядом «двинцев» (солдат Северного фронта) и юнкерами. С этого времени началась вооруженная борьба. По Кремлю велся артиллерийский огонь со Вшивой горки, с Воробьевых гор, из Китай-города и от Крымского моста. Орудия, установленные на Никольской ул., прямой наводкой били по Никольским воротам Кремля. В 5 часов вечера 2 ноября договор о капитуляции был подписан, а в 9 часов вечера ВРК отдал приказ о прекращении огня. Однако фактически боевые действия продолжались всю ночь. На рассвете 3 ноября революционные отряды вступили в Кремль. Днем началось разоружение юнкеров в Александровском училище и других пунктах.
…я плакал в Орше… — покинув Москву, Бунины ехали через город Орша, который в то время был уже немецкой территорией. В дневнике В. Н. Муромцева-Бунина 26 мая (8 июня) 1918 г. записала: «Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. Мы на „немецкой“ Орше — за границей. Ян со слезами сказал: „Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!“ Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевистски» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 173).
…праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом… — Троцкий Лев Давидович (наст, имя и фам. Лейба Бронштейн, 1879–1940) — государственный и партийный деятель. В 1917–1918 гг. нарком по иностранным делам. С 4 марта 1918 г. председатель Высшего военного совета, с 13 марта — нарком по военным делам, со 2 сентября — председатель Революционного военного совета Республики. Один из главных организаторов Красной Армии. Свое отношение к В. И. Ленину Бунин выразил в «Окаянных днях»: 27 февраля 1918 г. «Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то „русский национальный подъем“. 2 марта 1918 г. „Съезд Советов“. Речь Ленина. О, какое это животное!» (Бунин-1990. — С. 81, 83) А В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г.: «Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодяями, не верит в фанатизм Ленина. — Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце…» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 210). Петерс Яков Христофорович (1886–1938) — член Петроградского ВРК, с 1917 г. член коллегии ВЧК, в 1918 г. зам. председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. В 1920–1922 г. председатель ВЧК в Туркестане. С 1923 г. член коллегии ОГПУ.
…сжег дом Пушкина… — в феврале 1918 г. были сожжены Михайловское, Петровское и Тригорское (см.: Будылин И. Т. Золотая точка России: Пушкинский край. Основные события и даты. — М., 1996. — С. 16, 18, 22, 53–54, 88).
…в прах разнес родовое тургеневское гнездо… — в январе 1906 г., в ночь с 19 на 20 число, дом И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове «сгорел дотла. Достоверных сведений о причинах пожара не сохранилось. Ходили слухи, что дом умышленно сжег арендатор усадьбы Дубец ради страховых денег» (см.: Богданов Б. В., Понятовский А. И. Спасское-Лутовиново. Государственный заповедник-усадьба И. С. Тургенева: Путеводитель. — 2-е изд., доп. — Тула, 1968. — С. 37).
Источник: http://bunin-lit.ru/bunin/public/strashnye-kontrasty.htm
Как-то многообразно и пространно получилось. Прошу прощения у Доброго Волка!
З цяплом,
Стальено 16.01.2025 18:08 Заявить о нарушении
По больному прошли, Евгений.
Вернее, по сколько уже раз отболевшему, но... Под тое-сёе свербящему.
Да ещё с моим Буниным. С его Днями Окаянными.
Блока Иван Алексеевич, мабыть, и занадта пришпилил. С теми «апостолами». Их («Двенадцать») можно прочесть и несколько иначе, чем то принято или кажется.
Но это уже во мне моё к Блоку заговорило.
Забавно!
Блок поэта в Бунине не замечал. За что, вероятно, тот ему и «вернул».
А у меня они оба – в первом ряду. При всей своей разности. Считай, во всём. И даже мои собственные (из любимых) Напевы в классиков – именно из них. Пусть в Блока (из них) и больше...
Я тут (с Одиночеством этим) больше к Сигизмунду хотел притулиться. Но... Решил отдать-вернуть. Алексеевичу. О себе, конечно, не забывая ))
Так и в протяге от Бунина долго отвязаться не мог. Кржижановский меня, под столом, уже и ногой пинать за это начал ))
Дзякую!
Не в последнюю очередь и за Ивана Сергеевича.
.....................................
Ужели – всё?!
Осталась боль души.
И дым отечества. Но только – глуше, глуше…
Ведь там – мороз, а здесь – тоска и лужи!
Но –
розы…
Розы были хороши!
Вольф Никитин 16.01.2025 18:53 Заявить о нарушении