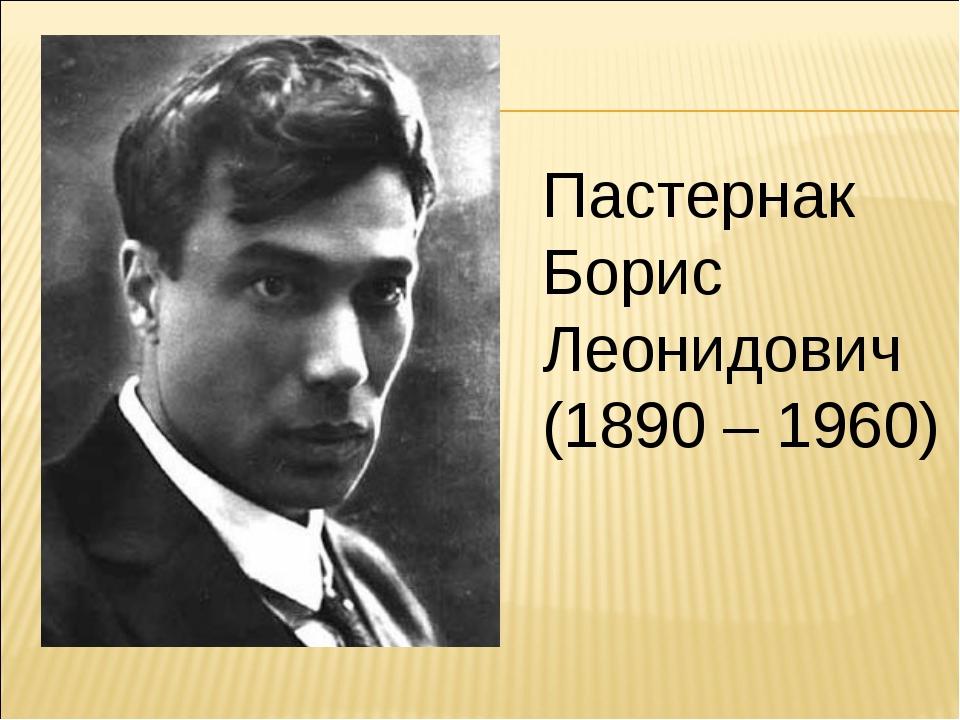Мастерство Бориса Пастернака дойти до самой сути
Которая всегда нова,
Б. Пастернак
Пастернак стал самым знаменитым русским поэтом двадцатого века, превзойдя даже Маяковского. Почему же так случилось? Попытаемся разгадать тайну пастернаковского «творчества и чудотворства». Он прожил семьдесят лет, пятьдесят лет он писал стихи, но всю жизнь свято служивший искусству поэт говорил, что стихи — это далеко не все в жизни. В так называемой второй автобиографии, напечатанной в Париже, он пишет о Пушкине, что все будущее и настоящее Пушкину было менее дорого, чем улыбка Гончаровой. В этой фразе утверждалось разносторонность живой жизни, участие в ней. Это проповедь жизнелюбия, оптимизма, активности — всех тех самых черт характера, которыми и отличался Пастернак.
Великий художник только приходит в мир наследником жизни, всего мира, его природы, его истории, его культуры. Все его творчество посвящено борьбе за победу добра в процессе постижения высшего смысла бытия, что мы можем прочесть в его последней книге «Когда разгуляется»:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья…
В его поэзии всегда много солнечного света, потому что, по выражению Евтушенко, «природа задумала его как счастливого человека. Потом спохватилась, не позволила стать слишком счастливым, но несчастным сделать так и не смогла."
Ахматова писала о Пастернаке:
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
Он сам всегда говорил: «Художник по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Его творчество светло, как весна.
Это она, это она,
Это ее чародейство и диво.
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется безумолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.
Пастернак не знавал ни тюрьмы, ни сумы, умер «в своей постели». Но он был исключен из Союза писателей России, испытывал тяжелые удары судьбы. Тем не менее он жил в ореоле поклонения, особенно в студенчестве. «А в походной сумке — Спички и табак. Тихонов, Сельвинский, Пастернак», - писал Багрицкий. В юности студенты то и дело повторяли его молодые строки, подходящие, кажется, на все случаи жизни:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
………………………..
Кто тропку к двери проторил
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
………………………………
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд…
………………………………
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба.
Его философская лирика отличается особой глубиной. Он пытается найти ответы на важные для всего человечества вопросы в поиске смысла жизни и правды. Его судьба неразрывна связана с той трагической эпохой, в которую он жил. Поэт хотел жить и творить, поднимаясь до библейских высот, писать о вечном, но его травили, как загнанного зверя. Все эти события революции, гражданской воины, НЭПа, когда вновь ожило мурло мещанина, сталинских репрессии, преследования инакомыслия интеллигенции даже в период хрущевской оттепели сплелись с образом страдающеи души поэта.
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,
Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.
Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.
Душа моя, скудельница,
Всё, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.
И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.
Для того чтобы понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — семейной и литературной.
Пастернак родился в интеллигентной семье в семье художника Леонида Пастернака, личности близкой к таким крупнейшим фигурам русской интеллигенции, как Рахманинов, Менделеев Толстой, к роману которого "Воскресение" Леонид Пастернак рисовал иллюстрации. Интеллигентность здесь была воздухом семьи. Пастернак в ранней молодости выбирал между музыкой и поэзией. Он выбрал, к счастью для нас всех, второе, даже когда его идол — Скрябин, прослушав музыкальные сочинения юноши, «поддержал, окрылил, благословил». Он выбрал философское образование и литературную профессию, учился в Марбурге, где двести лет назад слушал лекции по математике Ломоносов, когда - то прочел очерк по астрономии Джордано Бруно. Поэтому стихи Пастернака наполнены глубоким смыслом. Безусловно, огромное влияние на Пастернака оказала поэзия Райнера Марии Рильке и других западных писателей и поэтов. Но в первую очередь Пастернак впитал истоки русской культуры, он был воспитан на Толстом, Достоевском, Чехове. Поэзия Пастернака, как и вообще любая поэзия. Без этого кровного родства нет расцвета творчества.
Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.
Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,
Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.
Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.
Пастернак, несмотря на то что впитал столько из западной культуры, западником в безоговорочном смысле слова не был никогда. Он написал однажды даже слишком категоричные строки: «Уходит с Запада душа — ей нечего там делать». За несколько дней до смерти говорил Зинаиде Николаевне: «Если мне суждено поправиться, я буду заниматься разоблачением пошлости — ее одинаково много на Западе и у нас».
Пастернак презирал и пошлость и конъюнктуру. Однажды к нему пришли начинающие литераторы Фирсов и Сергованцев и сказали, что собирают подписи под петицией студентов Литературного института с просьбой выслать Пастернака за границу. Они пришли посоветоваться, как им быть. Пастернак им сказал: «Подпишите, какое это имеет значение... Мне вы все равно ничем не поможете, а себе повредите...» Поэт смотрел, как они бегут, как дети, взявшись за руки и подпрыгивая от радости. Потом он сказал: «А жаль этих двух мальчиков. В них было столько чистого, провинциального... Но боюсь, что теперь из них не получится поэтов...Пастернак оказался прав — поэтов из них не получилось. Поэзия не прощает как предательства других людей, так и предательства самих себя.
Он прожил непростую жизнь и его поэтика мужала и менялась вместе с ним. Молодой Пастернак в соответствии со временем участвовал в восстании против академического классицизма и даже примкнул тогда к футуристам, которых возглавлял Маяковский, который соперничал с Пастернаком и однажды предложил ему, чтобы он признал его первым поэтом и тогда Маяковский назовет его вторым. Он считал гениальным пастернаковское четверостишие:
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Его раннее стихотворение едва ли приведет в восторг современного читателя. Затемненность смысла, намеренная угловатость и даже косноязычие фразы, натянутость метафор – все это затрудняет восприятие стихов.
Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкою пива, тобою пригубленной.
Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником – тише, не гамьте! –
Шепчут и шепчут пивца загогулины.
Стихи последние пятнадцати лет жизни, двух поэтические книг «На ранних поездах» (1936-1944 гг.)" ,»Когда разгуляется» (1956-1959 гг.) и цикл «Стихотворения Юрия Живаго» (стихи из романа «Доктор Живаго», 1946-1953 гг.) поставили его на вершину русской поэзии двадцатого века.
Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность – проклятье
И счастья без подвига нет.
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
Поэт, по мнению Евгения Евтушенко, "постепенно опрозрачнивался и с годами пришел к хрустально чистому, профильтрованному стиху. Но это была подлинная классика. Поздние стихи Пастернака потеряли в плотности, но зато выиграли в чистоте, в отсутствии лишнего. У его стиха поразительное слияние двух начал — физиологического и духовного.
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, -
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
1957 г.
Высокая простота и человечность пастернаковских стихов явили поэта пушкинской школы, не только литературной, но и нравственной, и духовной, и национально-русской. Варлаам Шаламов вспоминал, как перед расстрелом мученик в северном лагере взволнованно читал товарищам по несчастью стихи «На ранних поездах»:
В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.
Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.
В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.
Россия в стихах Б. Л. Пастернака олицетворяет русский народ в своей самобытности с его неповторимыми чертами - духовностью, чувством собственного достоинства и поразительным мужеством. Пастернак не был приверженцем церкви, нечасто ее посещал. Но перед смертью исповедался и причастился. Христианские ценности, дух христианского гуманизма были ему дороги. В стихотворении "Магдалина" запечатлен образ Христа, раскинувшего руки для объятья, чтобы выразить всю мощь его любви к миру, к людям, ко всему живому:
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Не менее значима в стихотворениях Б. Л. Пастернака тема любви, которая многогранна и биографична. Источником вдохновения для него были любимые женщины. Первой музой стала супруга Елена Лурье, образ которой отчётливо прослеживается в любовной лирике автора раннего периода. Семейная жизнь супругов оказалась сложной и привела к разрыву отношений. В этот момент Пастернак увлёкся Зинаидой Нейгауз, ставшей впоследствии его второй женой. Большое количество лирических произведений автор посвящает именно ей. В возрасте 56 лет Пастернак влюбляется в Ольгу Ивинскую. Она стала последним увлечением поэта, к ней он испытывал особый трепет. Образ возлюбленной для Пастернака всегда безукоризнен, чист. Женщина для него — объект безоговорочной любви и восхищения:
Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
В этой цельности и целомудренности естества он воспринимает образ женщины как высшей благодатной силы природы. Никто, как Пушкин, не мог написать «Я помню чудное мгновенье. В знаменитой «Зимней ночи», как мантра, звучит повтор: «Свеча горела на столе, свеча горела».
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук,
скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
В этом скрещении сплелось физическое и духовное, явственно чувствуется почти религиозное поклонение женщине, одновременно и как к языческой богине. И стихотворение тоже написано божественно.Автор, как всегда, использует особые неизбитые метафоры, необычный синтаксис, прибегает к нарушению привычных канонов. Обычные слова он располагает в строфе неординарно. За счет этого стих становится экспрессивным, ярким, приобретает особый ритм.
Всякий, кто сколько-нибудь внимательно перечитывал стихи поэта, знает, что канонических текстов его стихов не существует. Но стоит помнить совет Бориса Пастернака поэтам: «Держитесь строгой рифмовки и совершенно откажитесь от неполной и приблизительной. Правильность формы повышает трудность и заставляет расставаться с тем излишним развратом мысли и беспорядком, которых так много в вольностях более расхлябанного стихосложения".
Пастернак был лишен какой 6ы то ни было политической агрессивности и интересовался политикой только как историк. По характеру он был мягок и склонен к компромиссам гораздо более, чем к конфронтации. Он написал несколько революционно-романтических поэм — о 1905 годе, о лейтенанте Шмидте. Вослед своему отцу-художнику он с натуры срисовал вовсе не разоблачительный портрет Ленина:
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
Пастернак не был «врагом социализма», в чем его обвиняли на родине, а изначально даже симпатизировал ему.
Ты рядом — даль социализма.
Ты скажешь — близь! Средь темноты,
Во имя жизни, где сошлись мы,
Переправляй, но только ты.
Пастернак, в отличие от Мандельштама, не писал стихов против Сталина и даже даже осудил Мандельштама за его самоубийственные стихи, что не помешало потом обратиться к Бухарину с хлопотами о недопустимости репрессии в отношении к опальному собрату по перу. Состоялся знаменитый разговор со Сталиным, который многократно цитировали литературоведы.
Во время войны Пастернак был освобожден от службы в армии по причине травмы руки, но он воодушевленно надел военную форму Красной Армии и со всей вообразимой искренностью воспевал ее подвиги.Б. Пастернак, как и другие поэты, в своей поэзии обращался к теме Великой Отечественной войны. В 40-е годы он создает цикл стихотворений «Военные месяцы» (в одиннадцатитомном собрании сочинений – «Стихи о войне») и включает его в сборник «На ранних поездах» (1926-1944). Поэт пиет о «жажде мщения» своего народа и его самого, а врага, сравниваемого с нечистью,которую настигает заслуженная кара: «Чадящей плашкой упадет / Налетчик, сшибленный осколком».
Немаловажно отметить, что текстам этого периода присуще наличие оппозиции «страх – смелость». Доблесть рождается в момент, когда страх преодолен, потому что жить хотят все, но лишь отважные в силах побороть в себе чувство самосохранения и решиться на подвиг.
Примечательно, что И. Сталин в ходе обращения к народу (3 июля 1941 г.) начинает свое выступление словами: «Братья и сестры!», – подчеркивая родство не по крови, но по духу. Именно сплоченность помогла освобождению страны от захватчиков.
Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.
В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.
Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.
А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.....
«Но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своею кровью путь прочертишь». Догадывался ли он о том, что его личная главная война будет после войны, когда ему придется прочертить собственной кровью путь на страницах романа, как на заснеженных полях сражений под Москвой. Евтушенко рассказал о предыстории его знаменитого романа «Доктор Живаго», где один из героев романа Пастернака говорит другу:
«Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной... Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому...»:
"... выигранная война с чужеземным фашизмом постепенно становилась проигранной фашизму собственному, обманчиво притворяющемуся антифашизмом. Парадокс истории состоял в том, что, борясь с Гитлером, Сталин поступал не лучше Гитлера по отношению к собственному народу, продолжая держать миллионы людей за лагерной колючей проволокой.
Сталин, с неожиданной сентиментальностью во время банкета в честь Победы проговорившийся о вине перед собственным народом, спохватился, начал закручивать гайки, чтобы не дать людям слишком распрямиться от гордости за выстраданную ими победу. Сталину весьма не понравилось, когда ему было доложено, что при появлении Анны Ахматовой на сцене Политехнического музея зал встал — ранее вставали только при его, сталинском, появлении. Надо было расправиться с опасными микробами свободолюбия, неожиданно заразившими народ во время войны. Надо было «стреножить» вчерашних победителей, чересчур вольно гарцевавших на полях битв в Европе. Надо было показать «свое место» всем, в первую очередь главному победителю — маршалу Жукову, а потом, конечно, слишком свободомыслящим интеллигентам. Реальностью стали «холодная война», государственный антисемитизм под псевдонимом «борьба с безродными космополитами», издевательство над Шостаковичем, Ахматовой, Зощенко... Роман — далеко не самое совершенное, что написал Пастернак, но зато самое главное и для него самого, и для истории."
Самое главное в романе не столь его сюжет, сколь его особая религиозность, обращенная к людям, а не к иконам. Лара становится Богом для Юрия, Юрий становится Богом для Лары.
Сложные, запутанные взаимоотношения Лары и Юрия Живаго, когда перипетии революции и гражданской войны то соединяли, то разъединяли их, в чем-то похожи на взаимоотношения Кати и Рощина в трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», законченной задолго до «Доктора Живаго», в тридцатых годах. Но Толстой историю ставил выше истории любви, а Пастернак поставил историю любви выше истории, и в этом принципиальное различие не только двух романов, но и двух концепций.
Пастернак никого не ненавидит в своем романе, а жалко ему всех — и запутавшегося комиссара Стрельникова, и молоденького белогвардейца Сережу Ранцевича, и крестьянина Памфила Палых, зарубившего всю свою семью топором только потому, что он боялся еще более страшных пыток и мучений со стороны белых, и даже Комаровского — губителя Лары, но временами и ее спасителя.
Из -за гуманистической идеи альтруизма как человеческой самоценности роман не мог быть напечатанным в России. Писать «в стол» поэт не захотел и дал разрешение опубликовать «Доктор Живаго» в Италии, затем и в других странах Европы. Произошло нечто парадоксальное. Пастернак, никогда не участвовавший ни в какой политической борьбе, оказался неожиданно для себя в самом ее центре. Но неожиданно ли?
Еще в ранние тридцатые годы в монологе диссидента царского режима — лейтенанта Шмидта — Пастернак предсказал свою судьбу:
... Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью.
«Доктор Живаго» был первой книгой, которая пробила железный занавес. Сквозь эту все расширявшуюся брешь, обдирая страницы о ее ржавые зазубрины и заусенцы, на Запад прорывались все новые и новые рукописи, затем возвращаясь на родину нелегальными книгами в чемоданах.
Скандал вокруг романа при том, что он нанес страшный моральный и физический удар самому Пастернаку, оказался по иронии судьбы великолепной рекламой на Западе, особенно после слащавой киноверсия при великолепной музыке и прекрасной игре Джули Кристи, и сделал давно существующего великого поэта Нобелевским лауреатом, привлек к его прочтению на Западе и в России «массовых читателей». За это его исключили из Союза писателей и подвергли чудовищной травле, о чем он написал в стихотворении «Нобелевская премия":
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
1959
В последнем сборнике «Когда разгуляется» Пастернак подводит итог жизни и творчеству, причем его мысли о близкой смерти не противоречат устремленности в будущее, они вызывают чувство радостного соприкосновения с вечностью. В этом суть мастерства Бориса Пастернака.
Когда я с честью пронесу
Несчастий бремя,
Означится, как свет в лесу,
Иное время.
Я вспомню, как когда-то встарь
Здесь путь был начат
К той цели, где теперь фонарь
Вдали маячит.
И я по множеству примет
Свой дом узнаю.
Вот верх и дверь в мой кабинет.
Вторая с краю.
Вот спуск, вот лестничный настил,
Подъем, перила,
Где я так много мыслей скрыл
В тот век бескрылый.
Свидетельство о публикации №124112301000
Тауберт Ортабаев 11.01.2025 23:12 • Заявить о нарушении
Нинон Пручкина 13.01.2025 15:26 Заявить о нарушении
Тауберт Ортабаев 14.01.2025 21:12 Заявить о нарушении