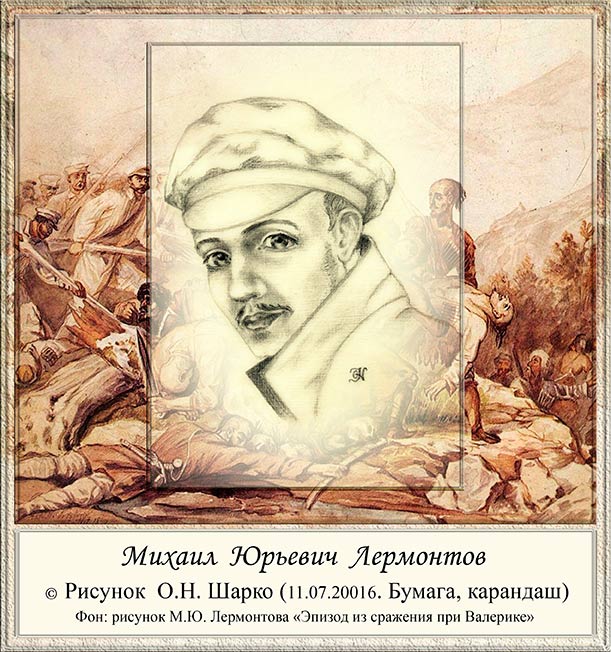Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть33
«…И Байрона достигнуть я б хотел …»
===================================
Часть 33
Здесь мы «опять и вновь» начнём «растекашися мыслию по древу», ибо говорить о любви к Вареньке и оставить за рамками нашего внимания Восточную повесть «Демон»… – было бы неправильно. Этот поэтический труд Лермонтова – имеет д в а посвящения Варваре Александровне, к которым были обращены наши взоры несколько выше, и, следовательно, мы с Вами имеем все основания полагать, что з а д у м к а поэмы напрямую связана с её именем. Итак, поговорим и поразмышляем о лермонтовском «печальном Демоне», и не только о нём, ибо мистико-философские мысли, заложенные Лермонтовым в Восточную повесть, заставляют размышлять, задавать себе вопросы и искать ответы на них... Но заранее хочу обратить Ваше особенное внимание на то, что М.Ю. Лермонтов с о з н а т е л ь н о не публиковал это произведение, поскольку не считал его готовым к публикации, не считал его законченным, и нет его вины в том, что б е з е г о с о г л а с и я Восточная повесть «Демон» – по сути, литературный полуфабрикат – всё-таки была опубликована генералом А.И. Философовым на правах дальнего родственника в 1856 году в Карлсруэ (Германия). Первая публикация «уложилась» в тираж 28-ми экземпляров, которые были распределены между членами царской семьи и людьми, занимавшими высокие посты… Это я к тому, что… – знаете ли, любому, требовательному к себе автору …будут обидны и неприемлемы как критика, так и восторги по поводу практически ещё «не рождённого дитя», ибо автор, как никто другой, знает истинную цену недозревшим плодам собственного творчества, и потому восторги воспринимаются… как-то ущербно: всего лишь как некая одобрительная ложь в поддержку начинающему поэту… И здесь, весьма кстати вспоминается мнение А.П. Шан-Гирея о досадной неразборчивости издателей, поспешивших издать как гениальное – абсолютно всё подряд, когда-либо начертанное рукой ещё только начинающего поэта Лермонтова, – что, конечно же, не могло бы случиться, если бы этими вопросами занимался сам Михаил Юрьевич. Итак, читаем из воспоминаний А.П. Шан-Гирея:
« …Только, ради создателя, для чего же все эти ученические тетради и стихи первой юности? Если бы Лермонтов жил долго и сочинения его, разбросанные по разным местам, могли бы доставить материал для многотомного собрания – дело другое; должно было бы соединить в одно место, в хронологическом порядке, если угодно, всё, что поэтом было и з д а н о или н а з н а ч е н о к посмертному изданию; в таком собрании действительно можно было бы следить за развитием и ходом дарования поэта. Но Лермонтову, когда его убили, не было и двадцати семи лет. Талант его не только не успел принести зрелого плода, но лишь начал развиваться: всё, что можно читать с удовольствием из написанного им, едва ли доставит материал и на один том. Зачем же прибавлять к нему ещё два, увеличивать их объём, предлагая публике творения ниже посредственности, недостойные славы поэта, которые он сам признавал такими и никогда не думал выпускать в свет? Не следовало.
Таково моё мнение, – выражаю его откровенно. Может быть, некоторые из Аристархов нашей литературы и назовут меня отсталым старовером, не понимающим современных требований её истории и критики. Пусть так, заранее покоряюсь строгому приговору; по крайней мере, читатель, зевая над «Тетрадями», не вправе будет пенять на Лермонтова за свою скуку.» (стр.53 «М.Ю. Лермонтов. Воспоминания современников. Москва, «Художественная литература», 1989).
(Конец цитирования)
…Итак, мысли читателя Восточной повести «Демон» путаются в бесконечных противоречиях. Но гений М.Ю. Лермонтова никто не отменял, а поправка «на возраст» гения, ещё только начинающего творить, издателями не делается… И получается, что если какое-либо творение гения кому-то непонятно, то… это, мол, «головная боль» не понявшего: дескать, это понимают лишь «избранные». Однако, – подчеркнём ещё раз, – произведению, пребывающему во «внутриутробном состоянии семимесячного плода» и преданному публикации вопреки решению автора, н е п о д о б а е т п о л у ч а т ь о ц е н к и как таковые – вообще, дабы не скатываться к морали сказки Ханса (Ганса) Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Но мы-то с Вами, дорогой Читатель, хоть и оказались в рядах тех же «оценщиков», всё же подчеркнём для ясности, что стать на путь размышлений, порождающих вольные или невольные суждения касательно лермонтовского «Демона», мы просто в ы н у ж д е н ы. И я бы н е с т а л а этого делать, если бы «Демон» так основательно не вошёл в нашу жизнь и не публиковался бы в Собраниях сочинений М.Ю. Лермонтова как законченное и «шедевральное» произведение. В литературе зачастую, «чёрным по белому» можно встретить утверждение некоторых известных авторов о том, что, мол, «…никто не будет отрицать, поэма «Демон» – главное поэтическое творение Михаила Лермонтова. Шедевр мировой поэзии.» (кстати, цитата имеет конкретного автора, имя которого не считаю нужным упоминать). И вот именно потому, что «полуфабрикат» никак не может быть «главным творением» по определению, и тем более «шедевром»… – мы с Вами поразмышляем над Восточной повестью «Демон» поподробнее, и в нескольких ракурсах. К тому же, тема духовного устройства мира и влияния мистических сил на жизнь, судьбу и смерть человека – необычайно интересна сама по себе: есть о чём подумать… – и мы с Вами, конечно же, этим воспользуемся.
Образ падшего ангела, взбунтовавшегося против Творца и получившего за свой мятеж участь вечного скитальца, в литературе уже появлялся, и не один раз: предшественниками лермонтовского героя были гётевский Мефистофель («Фауст», 1587 г.), мильтоновский Сатана («Потерянный рай», 1667 г.), байроновский Люцифер («Каин», 1821 г.)… И, как мы с Вами понимаем, вопросы устройства мира, вопросы н е п о з н а н н о г о уже давно волновали гениальные умы человечества: и немцев, и французов, и англичан, и др. Поэтому нисколько не удивительно, что пытливый ум нашего Мишеля Юрьевича, с четырнадцатилетнего возраста (а, быть может, и ранее?...) вникающего в таинственные глубины познания, недоступные большинству его сверстников (и не только сверстников), – уже подростком жадно читает «умные книги для взрослых» от заграничных авторов в оригинале: вникая в глубины непознанного и совершенствуясь духовно. Особенно ему близок Дж. Г. Байрон.
[ Р е м а р к а . Однако, – хочу заметить, – полноты и абсолютного совершенства всего разнообразия в устройстве мира – нам, смертным землянам – окончательно знать не дано: есть великое множество сфер, порталов, измерений, пластов и слоёв физической и духовной материи, которые, быть может, никогда не откроются земному человеку, несмотря на все удивительные сверхспособности, экстрасенсорику, дерзания и предвидения человеческого ума… Здесь вспоминается одно высказывание, в своё время, – по молодости лет, – открывшее мне глаза как философская истина:
знание – подобно шару: чем более мы узнаём, тем больше по объёму становится шар; одновременно с этим становится больше и его окружность, а, следовательно, и… т о
н е з н а н и е, которое находится вне шара знаний. Другими словами, познание имеет свои границы, а непознанное – безгранично и бесконечно. Или, другими словами: чем больше познаю, тем больше узнаю, что …ничего не знаю.
Суть этого высказывания приписывается и Сократу, и Аристотелю… – и многие другие философы пользовались этой мыслью в своих трудах. Однако это вовсе не значит, что незачем даже и стремиться к познанию, так как всего познать всё равно невозможно. Да, есть п о з н а н н о е, есть н е п о з н а н н о е, и есть – н е п о з н а в а е м о е. Но есть и ещё одно потрясающее высказывание, античная истина, повторяемая многими древними мудрецами-философами: познай самого себя – и ты познаешь весь мир. А «как по мне»… я бы начертала так: познай себя – и познаешь в с ё. По крайней мере, в с ё, что тебе нужно знать и необходимо: тебе – лично. Ведь не зря же в Библии сказано: что внизу – то и наверху. Это я к тому, что наш Мишель Юрьевич именно этим и занимался. Как, впрочем, и многие из нас. Однако… со временем, с возрастом – вопросов только прибавляется, а на некоторые – ответа «нет как нет»: тот же самый «шар познания»... Кто-то может пожать плечами: что за чепуха? И чего это я про себя не знаю?.. А вот и не знаете. Разве не было с Вами такого, что Вы твёрдо решились сделать одно, а по факту поступили совсем не так, как намеревались?.. – и вовсе не потому, что произошло что-то, от Вас не зависящее. Или вот, например, кажется, что все мы – себя, конечно же, любим. Но любить себя – это очень даже не просто, и редко кто умеет. Л ю б и т ь с е б я – это …н е п о с т у п а т ь с е б е в о в р е д: не идти на поводу у собственной лени, не переедать «вкусненького», не впадать в гиподинамию и пр. И даже более того, – а это уже высший уровень, – поступать исключительно себе на пользу, причём – бескомпромиссно. Но для этого необходимо знать, ч т о тебе – во вред, а что – н а п о л ь з у: очень часто то, что бывает приятно нам – оказывается вредным, нежелательным, ненужным, категорически недопустимым, и может даже оказаться …катализатором отсроченной смерти; а кое-что – напротив: при кажущейся вредности оказывается очень нужным для дальнейшего духовного роста. Поделюсь с Вами, дорогой Читатель, моим стихотворением из Духовно-Философского Цикла (ДФЦ):
* * *
Что есть соблазн?..
Влияние сил зла?
Улыбка дьявола? иль вражьи козни?
Сеть гибели? Запретный плод с куста?
Или... игра? с последствием серьёзным?
Соблазн – в о з м о ж н о с т ь. Только и всего.
Возможность получить. ...Либо – утратить (?..)
И тайное желание твоё.
И шанс, возникший кстати... – иль некстати.
Соблазн – ни добродетель, ни порок:
он просто есть: ни малый, ни великий:
лишь к действию сигнал: флажок..., звонок...
...Как поступить?.. – (рождая ход событий!).
Преодолеть?.. отвергнуть?.. Иль отдать
себя соблазну? – Вечная дилемма.
...Р е ш и т ь – и есть с у д ь б у с в о ю и з б р а т ь.
Прими соблазн – для пользы устремленья.
Соблазн пустой безжалостно гони.
Для с о в е р ш е н с т в а л и ч н о с т и – прими.
11.08.2006
© Copyright: Ольга Николаевна Шарко, 2024
Свидетельство о публикации №124082002376
То есть нам необходимо относительно себя (своего физического и духовного устройства) – о с о з н а т ь и у я с н и т ь свой правильный образ жизни, и поступать – только правильно. Но понимание этого теоретически – составит лишь 10% успеха… Необходимо ещё иметь силу воли контролировать свои поступки, перешагивая через собственную лень и инертность, – что напрямую касается как физической, так и духовной составляющей. Однако… прийти к такому идеальному отношению к себе – тоже далеко не каждому подвластно, так как не каждый может прийти к пониманию этой необходимости и волевому выполнению собственных установок. Не подумайте, что я претендую на «поучения» и противопоставляю Вас – себе; вовсе нет, ибо моих недостатков… – как говорится, «несть числа», а самые главные – лень и инертность в разных проявлениях, – с чем я борюсь, стараясь победить самоё себя. …Нет… – я просто делюсь своими знаниями и жизненным опытом, а воспользоваться предоставленной Вам информацией, либо «пропустить мимо» – это уж, как говорится, дело исключительно Ваше. ]
(…а теперь вернёмся к лермонтовскому «Демону»).
Да: Дж. Г. Байрон в жизни Лермонтова – история особая; равно, как и А.С. Пушкин. Родство душ с Байроном было… конкретно-ощутимо: в дневниковых записях 15–16-летнего Мишеля за 1830-й год под цифрами < 1 > и < 22 > читаем:
< 1 >. « З а м е ч а н и е. Когда я начал марать стихи в 1828 году [в пансионе], я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они ещё теперь у меня. Ныне я прочёл в жизни Байрона, что он делал то же, – это сходство меня поразило!».
< 22 >. «Ещё сходство в жизни моей с л о р д о м Байроном. [Ему] Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет в е л и к и й ч е л о в е к и будет два раза
ж е н а т; [мне] про меня на Кавказе предсказала т о ж е с а м о е [повивальная] старуха моей бабушке. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон».
В том же, 1830-м году, Лермонтов пишет стихотворение «К*** (Не думай, чтоб я был достоин сожаленья…)», в котором обращают наше внимание вторая и третья строфы: «… // Я молод; но кипят на сердце звуки, / И Байрона достигнуть я б хотел; / У нас одна душа, одни и те же муки, – / О, если б одинаков был удел!.. // Как он, ищу забвенья и свободы, / Как он в ребячестве пылал уж и душой. / Любил закат в горах, пенящиеся воды / И бурь земных и бурь небесных вой. // …».
Как мы знаем, Михаил Юрьевич имеет шотландские корни. По документальным данным, поэт является потомком шотландца Джорджа Лерм`онта (George Learmonth, ок. 1590–1633), присягнувшего на верность царю Михаилу Федоровичу Романову. Род Лермонтов восходит к средневековому барду Томасу Лермонту (Томасу-Рифмачу), жившему в XIII веке в Эркельдуне (ныне город Эрлстоун в Бервикшире, Шотландия). Шотландское происхождение весьма интересовало нашего Мишеля Юрьевича, чему он в 1831 году посвятил стихотворение «Желание» («...И арфы шотландской струну бы задел... /… / Я здесь был рождён, но нездешний душой…»). Следовательно, Шотландия – Лермонтову – историческая родина, и этот факт, естественно, роднил его и… с самим лордом Байроном, скончавшимся 19 апреля 1824 года, когда Лермонтову было немногим более 9-ти лет…
[ Д л я с п р а в к и. Джордж Гордон Байрон – английский поэт-романтик, автор стиля, получившего название «мрачный эгоизм», породивший моду на байронизм во всей европейской литературе. Родился 22 января 1788 года в Лондоне. Вырос в шотландском Абердине, унаследовал титул своей семьи в возрасте десяти лет; став бароном Байроном из Рочдейла, он получил по наследству и титул лорда (звание или должность при королевском дворе).]
Лорд Байрон называл себя «демоном», и «демоном» слыл в обществе; противопоставлял себя обществу и эпатировал это общество; официально женат был один раз, но любил до безумия свою неполнородную сестру по отцу и имел с нею дочь. Предсказание шотландской «старухи», упомянутое Лермонтовым в дневниковой записи – насчёт двух браков Джорджа Гордона Байрона, – не сбылось. Впрочем, это ещё к а к п о с м о т р е т ь, если принять во внимание, что при одном официальном браке у Байрона было двое детей от разных женщин: кто же они по факту, если не жёны?.. Но у Лермонтова с «женитьбами» не сбылось стопроцентно: женат не был ни разу. «Я рано начал, кончу ране…». «Рано начал» – имеется в виду, что раньше по своим летам начал жить поэзией и обретать известность, а «кончу ране» – означает гибель на земном поприще в более раннем возрасте, что в точности соответствует предсказанному: Лермонтов погиб на 27-м году жизни, в то время, как Байрон скончался на 36-м. Сам Байрон считал, что на нём лежит проклятие предков, и он обречён губить всё, что ему дорого. Не правда ли, созвучно с лермонтовским Печориным?.. Было и ещё кое-что «общее»: Байрон – хромал на правую ногу вследствие перенесённого в три года полиомиелита, но – хорошо фехтовал, играл в крикет в команде школы, был великолепным пловцом. Лермонтов – едва заметно прихрамывал, и, если не знать про перелом правой голени, то этого можно было бы и вовсе не заметить. Мишель с детских лет был прекрасным наездником, и в Юнкерской школе в 1832 году, – видимо, «на спор» – сел на молодую лошадь, которая начала беситься в манеже среди других лошадей, – и одна из них сильно ударила его копытом ниже колена; перелом правой голени заживал в течение двух месяцев, кость срослась неудачно: нога оказалась на самую толику короче здоровой, что и послужило причиной возникшего прихрамывания. Но Михаил Юрьевич упорно тренировался, чтобы хромота в глаза не бросалась; он по-прежнему прекрасно фехтовал, был силён физически и великолепно держался в седле...
А ещё мне где-то попадалось в печати, что, мол, если хорошо покопаться в родословной, то можно выявить и родственную связь между Байроном и Лермонтовым, – правда, не знаю, насколько этому можно верить. По крайней мере, в интернете можно прочесть следующее: «Байрон и Лермонтов – дальние родственники. Его предок Гордон, который жил в шестнадцатом веке, был в браке с Маргарет Лермонт. Она имела корни известного шотландского рода, который и дал исток происхождению самого Михаила Юрьевича»… Короче, «десятая вода на киселе». Но – почему бы и нет?..
Вот, что пишет о Дж. Г. Байроне советский и российский литературовед, исследователь литературы Великобритании и США, доктор филологических наук Нина Михайловна Демурова (1930–2021) в Послесловии к изданию «Джордж Гордон Байрон. Избранное» (издание второе, издательство «Прогресс», 1979):
«…Им зачитывались лучшие умы России – для них его поэзия звучала, как пистолетный выстрел в ночи. Его тоска, его метания, его ненависть и сатанинский смех, – всё нашло отклик в России. Трагедия его жизни потрясла русских. Он был властителем дум. … Байрона переводили самозабвенно, переводили восторженно десятки самых различных людей. Переводили гимназисты и генералы от инфантерии, переводили землемеры и присяжные поверенные, служащие лесного и прочих департаментов, чиновники по делам инородцев, инспекторы сиротских домов и императорских училищ, учители, министры, философы, медики, литераторы. Это были даже не переводы в строгом смысле слова, а восторженные имитации, пересказы, подражания, где текст Байрона претерпевал порой самые фантастические изменения».
(Конец цитирования)
Что касается лермонтовских переводов из Байрона, то их всего три: два стихотворения в 1830-м году: Farewell («Прости! Коль могут к небесам…») и «В а л ь б о м» («Нет! – я не требую вниманья…»); и в 1836-м Михаил Юрьевич перевёл из Байрона «Душа моя мрачна» из цикла «Еврейские мелодии». Правда, в 1830-м году шестнадцатилетним Лермонтовым написано ещё стихотворение «Подражание Байрону» («Не смейся, друг, над жертвою страстей…»).
Итак, учитывая, что «байронизм» и «демонизм» пребывали в общепризнанной европейской и российской моде, совсем не удивительно, что Лермонтов с восхищением проникся Байроном: и его поэзией, и его философией, и его манерой поведения в обществе: искал в себе, – и находил, – много общего: как в творчестве, так и в жизни. Конечно же, тема «демонизма» становится интересной для юного Мишеля: как для формирования его мировоззрения, так и для его поэтического самосовершенствования, – ибо изучение английского языка специально для чтения Байрона в оригинале, поэтические переводы его стихов и откровенные подражания… что это, как не самый настоящий поэтический практикум? …Говорят, что однажды писатель князь Владимир Фёдорович Одоевский, с которым Михаил Юрьевич в последнее время своей жизни был очень дружен, поинтересовался у Лермонтова: с кого был списан главный герой «Демона»? М.Ю. Лермонтов в ответ иронично заметил: «С самого себя, князь, неужели вы не узнали?». В лермонтоведении закрепилось мнение, что свидетельством внутренней близости автора к своему литературному герою Демону являются строки из стихотворения 17-летнего Михаила Юрьевича «Я не для ангелов и рая…», которое исследователи воспринимают как некий эскиз к эпилогу «Демона». Стихотворение написано Лермонтовым по окончании работы над второй редакцией «Демона», что видно по его расположению в тетради поэта:
***
Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворён;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знает он.
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой.
Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.
(1831)
Но есть у нашего Мишеля Юрьевича и ещё более раннее стихотворение, написанное, когда поэту было всего 14–15-ть лет. Считается, что оно написано одновременно с первым наброском поэмы. Но… кто знает, быть может, оно написано н а ф о н е з а д у м о к «Демона», когда поэма в голове нашего гения – ещё только-только начала приобретать лишь некоторые очертания, и на бумагу ещё не пролилось ни одной строки из будущей Восточной повести, ибо в этом стихотворении чётко и недвусмысленно сказано «Он чужд любви и сожаленья…», – но в сюжете самой Восточной повести лермонтовский Демон уже совсем не «тот демон», ибо он, основательно очеловеченный, …плачет от любви к Тамаре «нечеловеческой слезой». Итак, читаем:
МОЙ ДЕМОН
1
Собранье зол его стихия;
Носясь меж тёмных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров;
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи,
Безвестные слезам и сну.
2
К ничтожным хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
Он чужд любви и сожаленья,
Живёт он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.
3
Родится ли страдалец новый,
Он беспокоит дух отца,
Он тут с насмешкою суровой
И с дикой важностью лица;
Когда же кто-нибудь нисходит
В могилу с трепетной душой,
Он час последний с ним проводит,
Но не утешен им больной.
4
И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.
(1829)
И это – в четырнадцать-то?.. Однааако. Но разве можно, отталкиваясь от внутреннего мира подростка 14–16 лет, – главные духовные выводы и открытия которого ещё далеко впереди, – серьёзно и основательно судить о взрослой личности и характере великого поэта, чем занимаются некоторые авторы-лермонтоведы, припечатывая ему «демонизм» как основополагающую черту характера чуть ли не «с пелёнок»? Подросток, который чувствует в себе силу величия своего гения, и стремится предъявить свою значимость миру – он, естественно, ещё только ищет свою дорогу, проходя через потёмки и тупики попадающихся ему под ноги тропинок, каждая из которых ему по-своему интересна… Поэтому – не будем забывать, что тема «демонизма» – это лишь начальный период взросления души (личности), и не стоит придавать ему значения некой «врождённой» константы в характеристике великого поэта, подло убитого выстрелом в спину на 27-м году жизни. Давайте оценивать уже повзрослевшую личность поэта, и обратимся к «Сказке для детей», написанной, как считается, в начале 1840 года – (а, быть может, и в конце 1839-го), – где 25-летний автор, доверительно откровенничая с читателем, говорит уже с высоты жизненно-духовного опыта – о себе самом… – я бы сказала, снисходительно подводя черту под «безумным, страстным, детским бредом»: закончившимся и исчерпавшимся в ноль «демоническим периодом» взросления подростка... Однако, как видим, сама по себе тема присутствия в жизни человечества потусторонних тёмных сил – отнюдь им не исчерпана, как это видно из незаконченного текста «Сказки для детей»:
…………………………………
На кисее подушек кружевных
Рисуется младой, но строгий профиль…
И на него взирает Мефистофель.
То был ли сам великий Сатана
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных?
Не знаю! Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью;
Но дух – известно, что такое дух!
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух –
И мысль – без тела – часто в видах разных;
(Бесов вобще рисуют безобразных).
Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно… и душа тоскою
Сжималася – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами!
(1840)
Но «взрослые книги» заграничных европейских авторов, конечно же, в своё время оказывали очевидное влияние на внутренний мир подростка и, разумеется, на дальнейшее формирование личности поэта, поскольку обогащали его умственный и духовный интеллект, заставляя дух проникать в таинственно-недосягаемое… Особенно, повторимся, – Байрон. И нам лишь остаётся принять как факт: да, Мишель Юрьевич во многом подражал великому Байрону: как в подростковой жизни, так и творческих начинаниях. И это потом, уже в свои восемнадцать, наш Мишель понимает, что вторым «Байроном» становиться нет смысла, да и невозможно, – а вот первым и единственным «Лермонтовым»… это в его силах:
***
Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или бог – или никто!
(1832)
И вот мы с Вами уже видим результат взросления личности: если в 16–17 лет ему хотелось заграничной экзотики, и он пишет: «... Я здесь был рождён, но нездешний душой…», то есть – рождён в России, но душою – …где-то там, в далёкой Шотландии, то уже через год Лермонтов совершенно определённо и окончательно ощущает свою душу – р у с с к о й, что звучит в стихотворении подчёркнуто-гордо.
…И всё-таки, несмотря на всяческие вопросы и «диагнозы» относительно стержневых черт личности Лермонтова, думается, что подросток Мишель Юрьевич просто оказался безоглядно влюблённым в байроновскую поэзию, в его, байроновский творческий гений и, соответственно, в личность этого, такого интересного, не похожего ни на кого, кроме, как на самого себя, гордеца лорда Джорджа Гордона Байрона: вся Европа бредила его стихами; Байрона переводили в России чуть ли не все; его имя, как говорят, стало символом эпохи; его жизнь и смерть порождали легенды… Опять же, вспомним запись 1830-го года из подросткового дневника Мишеля: «Наша литература так бедна, что я из неё ничего не могу заимствовать…», – поэтому не удивительно, что англичанин Байрон стал примером для подражания, у которого нашлось, что «позаимствовать». Да и что здесь удивительного?.. – и наш А.С. Пушкин тоже был очарован Байроном: под впечатлением от его поэзии, от его романтических поэм, и, в частности, от поэмы «Дон Жуан», – Александр Сергеевич написал п е р в ы й в истории мировой литературы р о м а н в с т и х а х «Евгений Онегин»...
Но вот мы с Вами и подошли к нашему главному интересу в творчестве Дж. Г. Байрона. Если обратиться к его драматическому произведению «К а и н», то, конечно же, без труда можно увидеть, что оно не просто впечатлило юного Мишеля, а впечатлило – неизгладимо. Образ и внешние характеристики лермонтовского Демона в точности повторяют образ байроновского Люцифера: он так же «печален» и беспредельно горд; он «величественен и прекрасен»; он – бессмертен, и он внушает безотчётный страх; он «знает мысли смертных и сострадает им»; духи, которыми повелевает Люцифер, – вечны, могучи и несчастливы; и Люцифер, и Демон крамольно высказываются о том, что Бог… – занят лишь небесными делами, и Ему нет дела до того, что происходит на земле. То есть… – «пользуйся своей свободой, делай, что хочешь, и ничего не бойся». Но на этом сходство байроновского Люцифера и лермонтовского Демона заканчивается, ибо проявляют они себя совершенно по-разному: Люцифер – лишь дух-собеседник Каина, подталкивающий своими, кажущимися вполне справедливыми на первый взгляд, крамольными рассуждениями… – «всего лишь» подталкивающий литературного героя на гибельное для души поведение, а именно на убийство брата Авеля; лермонтовский же Демон – главное действующее лицо, конкретно и деятельно, по-человечески добивающийся любви от молоденькой непорочной монахини…
…Однако согласитесь: в четырнадцать лет «замахнуться» на такую «грандиозно-инфернальную тему»… никак нельзя, если не чувствуешь в себе серьёзного творческого потенциала. Ведь р о ж д а е т с я лишь только тогда, когда в т е б е – е с т ь: сначала – с е м я, а потом – б р е м я, которое ты в себе в ы н о с и л… Лермонтов работал над этой поэмой в течение десяти лет, периодически придирчиво перечитывая, переписывая и внося изменения: восемь редакций, – последним годом работы считается 1839-й; несколько посвящений и среди них, как мы уже упомянули, два – Вареньке… Много воды утекло за эти десять лет: …менялся и вырастал – сам автор; менялись и уточнялись эпизодические сюжетные линии; стихи дописывались, подправлялись, вычёркивались и рождались заново… Михаил Юрьевич, которому уже д в а д ц а т ь ч е т ы р е, всё ещё продолжает уделять внимание поэме, – хоть и каждый раз, закончив очередную редакцию, ему, вероятно, казалось, что… вот: наконец-то, труд завершён. Точка. Видимо, считая труд законченным, он даже не возражал против его прочтения другими людьми, и даже был не против переписывания поэмы почитателями его таланта, желающими иметь рукописный текст поэмы в личное пользование… Однако проходило не так уж и много времени, как опять он был чем-то недоволен… Поэтому Михаил Юрьевич и н е и з д а в а л своего «Демона»: к о н ц е п ц и ю всё-таки н а д о б ы л о м е н я т ь, а это требовало как большой духовной и умственной работы, так и времени, и специального настроя на тему, а самое главное – найти ответы на многочисленные вопросы мистического устройства духовного мира… Но, быть может, Михаил Юрьевич к этому времени уже и забросил (?..) свой многолетний труд: либо «до лучших времён», либо «насовсем»: типа – «как карта ляжет». Ведь пишет же он через год–два в «Сказке для детей»: «…Я прежде пел про демона иного: / То был безумный, страстный, детский бред, / Кто знает, где заветная тетрадка? / … ». Знаю по себе: родить заново – в д р у г о м к а ч е с т в е уже почти-рождённое…? – бывает просто невозможно. В таком случае… творчески-оправданно – «похоронить» неприемлемое творение: забыть о нём и заново написать д р у г о е произведение, изменив сюжетную линию, размер и пр. Думается, что Лермонтов так и сделал, задумав «Сказку для детей» и приступив к её воплощению на бумаге… – жаль, что сей труд так и остался не законченным...
Продолжение:
Часть 34. А.П. Шан-Гирей о «Демоне»
http://stihi.ru/2024/12/12/693
Вернуться:
Часть 32. Трактат про Её Величество Поэзию
http://stihi.ru/2024/08/20/575
Свидетельство о публикации №124102503965
Емельянов-Философов 10.12.2024 06:42 • Заявить о нарушении
Откуда выражение растекается мыслью по древу?
Растека́ться мы́слью по дре́ву «Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснѣ творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.») — фраза неоднозначного толкования из «Слова о полку Игореве», ставшая фразеологизмом.
Ольга Николаевна Шарко 10.12.2024 13:48 Заявить о нарушении
Ольга Николаевна Шарко 11.12.2024 21:02 Заявить о нарушении