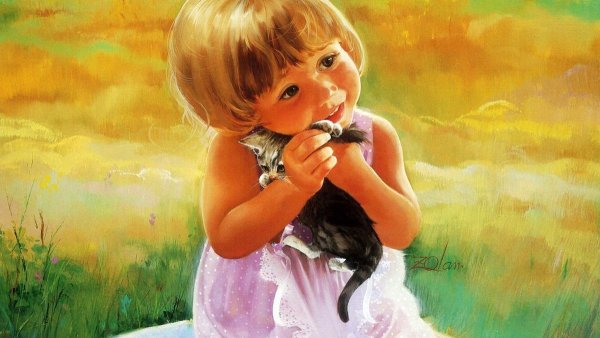Витраж простого детства
(воспоминания)
Отчего память, особенно детская, так избирательна?
Ведь в том доме я прожила не менее пяти лет. Пожалуй, что и более. Но даже по скромным подсчётам, триста шестьдесят пять дней в году, помноженных на пять, это уже – тысяча восемьсот двадцать пять дней! Целая вечность! Однако припомнить из этого «несть числа» удаётся считанные – по пальцам перебрать. Почему, например, я не помню себя зимой? Почему не помню, как выглядел зимой наш дворик? Почему – одно сплошное лето? Как выглядела зимой я сама, какая на мне была шубка, шапка? А как выглядела мама, наконец!
Возможно, именно в такие, памятные дни происходит что-то с нашей душой? Может быть, Ангел посещает нас в эти дни?
В итоге, из былой жизни остаётся сохранившийся витраж с выпавшими и безвозвратно утерянными стёклышками дней и событий. Витраж простого детства…
Дом. Дворик. Соседи
Эту часть витража я вижу явственно.
На самом деле дом белого кирпича был не так уж невелик: всего в два этажа, в два подъезда по восемь стандартных квартир. Рядом – дом-близнец в один подъезд. Они то и создавали мой дворик. Но мне дом казался невероятно большим: этаким длинным белым кораблём. И я совсем не помню себя раньше, хотя жизнь была и до этого белого дома. Мои первые детские воспоминания начинаются с него. Я и сейчас с закрытыми глазами отыскала бы свой дом, очутись я в том городе. Просто никого из прежней, скорой, детской жизни моей там не отыскать.
Я была мала, родители мои – молоды, и это – счастье, которого ты не осознаёшь долгие-долгие годы!
Стояли два дома в самом центре небольшого районного городка, у маленькой полукруглой тогда площади, примыкавшей к торцу главного городского парка. В полукруг площади врезалась главная городская улица. Площадь была ограничена бордюрной дугой, и улица эта, разделяясь надвое, огибала и площадь, и парк двумя рукавами. Вдоль одного из этих рукавов и стояли наши дома.
Сейчас мне кажется, что всё вокруг утопало тогда в зелени. Деревья вдоль улицы были большими, старыми, с мощными стволами, с густой кроной. Они нависали над тротуаром сине-зелёным шатром. И парк напротив дома – сплошная густая зелень. И вообще, мне кажется, что время тогда состояло лишь из лета и совсем чуть-чуть – из осени. Других сезонов я действительно не помню.
В парке всё, как в парках провинциальных городков: притемнённые разлапистыми деревьями аллейки с непременными деревянными скамьями с гнутыми спинками. Окрашены, думается – в зелёное. Небольшой обелиск в центре, с цветами у подножья по праздникам, и в глубине парка, слева от центрального входа, там, где другим своим торцом парк приник к городскому Дому культуры – летняя танцплощадка в обрамлении деревянной, решетчатой изгороди.
Дворик наш – вытянутый прямоугольник, ограниченный по длинным сторонам собственно домами и напротив них – сплошным сараем в шестнадцать дверей и вторым – в восемь. Одной из сторон, той, что у соседнего подъезда нашего дома, дворик венчала беседка – в густых зарослях сирени или жасмина, или того и другого (уже не вспомню), под сенью американских клёнов. В шатре беседки иногда сидела и мама, с Идой Борисовной или её матерью, старухой Ицковой. Другим торцом дворик упирался в стену, скрывавшую небольшое, аккуратное, двухэтажное здание отделения госбанка.
Наконец, арка в наш прямоугольник двора с улицы – проезд между самими домами, образуемый двумя глухими торцовыми стенами. Кажется, всё описала.
Я выбегала во двор, спустившись со своего второго этажа по чистым деревянным ступенькам, всегда тщательно вымытым кем-либо из наших мам (дежурной по подъезду), и тот, детский двор, как и дом, казался мне необыкновенно просторным и замечательным. И это – не смотря на полное отсутствие травы, на иссушенный и каменистый каменистостью давно завершённой стройки пятачок, о который не раз были сбиты в кровь мои бедные колени. И попробуй-ка: заплачь! Мама тут же подойдёт, поддаст ладошкой по худосочному заду, проговорив: «Не бегай!». И никаких тебе «жалений», «обниманий» и целований. Может, я просто не помню?
Как и не помню в нашем дворе качелей-песочниц-качалок-горок. Их-то точно не было!
А начиналось всё так:
– Алка! Выйдешь?!
Этот призыв влетает в распахнутую по-летнему форточку. И, отпущенная мамой, в лёгком платьице, я лечу вниз по ступенькам: наша площадка – длинный лестничный пролёт – снова площадка – снова пролёт – снова площадка (первого этажа) – и ещё маленький пролёт, тамбур и… крыльцо с парой ступеней. Здравствуй, дворик!
Нет! Погодите-ка! Возвращаемся. Прежде – остановка у соседской двери. Тут живут тёть Маруся и дядя Вася Клименковы, наши ближайшие соседи и добрые друзья, кочегары городской бани. Словно в подтверждение своей профессии, оба они очень смуглы, очень темноволосы и кареглазы – настоящие кочегары. Мы постоянно снуём из квартиры в квартиру: ходим в гости.
Тёть Марусю я люблю. Она часто сажает меня на колени, приговаривая: «Аля-ляля». Наверное, потому, что у неё нет своей девочки. Тут же обычно подкрадывается её младший сын Вовка – смуглый, кареглазый, вреднющий паренёк, двумя-тремя годами старше меня, и, молча отрывает от меня материнские руки, стараясь больно ущипнуть исподтишка. Ревнует. Есть ещё его старший брат Юра, совсем не похожий на Вовку: светлоокий, русый, не вредный. Но для него я – просто соседская мелюзга. Он не ревнует. Юра уже учится в старших классах, Вовка – в начальных, а я – ещё не учусь.
У тёть-Марусиной двери на полу: большой чугун. От него исходит заманчивый запах: тёть Маруся сварила для своих поросят картошку прямо «в мундирах», потолкла её, присыпав комбикормом, и выставила на площадку остывать. Я прислушиваюсь, быстро осматриваюсь, приподнимаю горячую крышку и погружаю палец в поросячье пюре. Вы не пробовали? – Зря! Мне казалось – вкусно. Но я догадывалась, что есть поросячье – как-то немного стыдно. (Не застукал ли меня в тот самый момент мой Ангел?). И потому, быстро проглотив аппетитный комочек, теперь уже с чистым сердцем я частила по ступенькам вниз.
Случалось это многократно или единожды? – Не могу сказать. Но отчего память такими вот молниевыми вспышками выхватывает и упорно хранит, казалось бы, незначительные эпизоды детства? Ощущение твоего прежде лёгкого, маленького тела, твоей тогдашней простоты и безыскусности. И даже работу твоего детского мозга воспроизводит. Не оттого ли, что душа твоя тогда ещё не успела покрыться коростой нелюбви, нетерпимости, чёрствости. Она – чистая и светлая. И вот этот момент над чужим чугунком – её первый труд осознания « хорошо – плохо».
Тёть Марусю вместе с её старшим сыном Юрой дядя Вася привёз из Донбасса, куда ездил работать на шахты. Вовка, младший – уже их общий. Поэтому братья ни капельки не похожи между собой.
Тёть Маруся – хохлушка (кто такая хохлушка – мне было не ясно). Но она очень непохожа на других тёть. Во-первых, она смешно говорит. Вроде, всё понятно, но как-то не так. Во-вторых, она и готовит совсем не так, как мама. У неё часто борщ, вареники с вишней... У неё аппетитно пахнет хлебными котлетами (в них много хлеба, как в школьных). Я зачарованно слежу, как она их лепит: с какой-то плавной мягкостью, неторопливой ловкостью, если такое определение возможно. Странно, но каждый раз, когда она наливает половником борщ в стеклянную банку («ссобойка» для дяди Васи), мне хочется борща.
С лёгкой руки моего отца тёть Марусю в нашей семье звали Моникой, как героиню нашей любимой телепередачи «Кабачок «13 стульев»». Пани Моника. Помните? – Сама тёть Маруся заменила это заковыристое имя в духе характерной для неё простоты: Моня. Так позднее, когда мы уехали из нашего городка, тёть Маруся подписывала печатными каракулями-рогульками малограмотного отправителя свои письма и открытки – «Моня». Для дяди же Васи жена была Мусенька, даже когда он бывал в подпитии и поругивался на неё, и даже побивал. Так и говорил:
– Мусенька, твою мать!
Сама тёть Маруся обычно лишь гладила мужа по голове, приговаривая:
– Ваасечка мой!
Умела терпеть. И только на нашей кухне, забежав отвести с мамой душу, говорила в сердцах в сторону своей квартиры:
– Что б ты сдох!
Сама я этого не помню – мама рассказывала спустя время. При мне мужа тёть-Маруся не обсуждала. Впрочем, не чудятся ли мне приглушённые, старательно скрываемые всхлипы? Дядя Вася был сосед в общем неплохой, но с нравом, несколько дурным во хмелю.
Обращение между соседями и моими родителями было самое простое: Нина (моя мама), Муся, Вася. И только папу тёть Маруся называла уважительно, по отчеству: «Владимирович». И – без имени Владислав. Тоже такое упрощение. Как обращался к отцу дядя Вася – не помню.
Когда наша Муся впервые увидела живую лошадь (там, где она обитала раньше, были одни шахты), она долго не могла надивиться её повадкам. Даже когда настали сумерки, продолжала смотреть в окно. А среди ночи испуганно затормошила мужа:
– Вася! Вася! Конь лёг!
Она, должно быть, решила, что лошади никогда не ложатся. Но дядя Вася лишь раздражённо прикрикнул:
– Мусенька, твою мать! Да ляг ты сама!
Родители не раз вспоминали со смехом это "конь лёг".
Телевизор и горькие слёзы
Клименковы поселились в доме до нас, а потому их квартира в сравнении с нашей (первой в жизни моих молодых родителей), очень лаконичной, почти спартанской, если не сказать, бедной, выглядела более обжитой, облагороженной рукою тёть Маруси какими-то салфеточками, половичками, портьерами, громадной розой вползала в деревянной кадке.
И телевизор появился у Клименковых прежде, чем у нас. «Кабачок «13 стульев»» мы нередко смотрели вместе.
Позже и у нас появилась «Зорька». Я хорошо помню один фильм, «Друг Тыманчи», о Крайнем Севере. Отец героя, мальчика по имени Тыманчи, вынужден застрелить на охоте волчицу, и приносит в посёлок её маленького беспомощного детёныша. Мальчик даёт ему имя Аяврик. Со временем волчонок становится настоящим другом Тыманчи. Но не все в посёлке относятся к подросшему волку хорошо. Я это уже понимала и переживала. А потом был в фильме кульминационный, драматический момент: драка Аяврика со стаей диких волков, преследовавших оленью упряжку.
И я залилась слезами, причитая:
– Мне жалко, мне жалко Аяврика!
Я так скулила, что отец не выдержал и загнал меня в спальню, не дав досмотреть (допричитать) фильм до конца…
Точно также я плакала каждый раз, глядя комедию «Весёлые ребята». В момент, когда пьяный гость решил закусить молочным поросёнком, упавшим во хмелю прямо на блюде, в центре праздничного стола. Да, да! Едва гость пытался вонзить вилку с ножом в бок поросёнка, раздавался его пронзительный визг, а следом – мой искренний плач:
– Мне жалко поросёночкаа!..
Не скулила я только в Доме Культуры, что примыкал к парку, и куда папа повёл меня смотреть фильм-сказку «Василиса Прекрасная». Я онемела, глядя на чёрные руки Бабы Яги, сгорбленной, клыкастой, с седыми пасмами. Эти страшные руки, прикасавшиеся к белоснежному рукаву красавицы Василисы, меня парализовали.
Насмотревшись по телевизору фигурного катания, я вдохновенно парила в гольфах (для лучшего скольжения) по крашеному дощатому полу нашей квартиры. Я вскидывала руки, тянула ногу в ласточке, делала прыжок «тулуп» или «сальхов», пусть себе и вполоборота. Я представляла себя Жужей Алмаши, Габриэль Зайферт (Габи) или Беатрис Шуба… Ах, что за диковинные, волшебные имена для ушей провинциального ребёнка семидесятых! Словно андерсеновская Герда, словно Гензель и Гретель братьев Гримм. И я взлетала на краешек нашего круглого стола в воображаемой поддержке воображаемого партнёра! Точно так я изображала балет, пока однажды за этим занятием меня не застукал папа. Вместо аплодисментов я была подвергнута осмеянию. Эх, папа! Он даже передразнил меня, изображая деревянными ладонями крылья моего лебедя! Так я получила одну из первых сердечных ран.
Словом, на балет Ангел меня не благословил.
Родители же никогда со мной не сюсюкали, и даже особой ласковости не проявляли. Может, она в той части витража, которую я не помню?.. Просто это были мои родители, с которыми надёжно, которыми защищена и ограждена от всего плохого. Чего же ещё!?
Но я отвлеклась…
Игры нашего двора
И так, я сбегаю по ступенькам во двор. Там уже обязательно есть кто-то из нашей дворовой команды.
Вот они – моего раннего детства: прежде всего, целых трое Мясниковых. Они – с нашего, второго этажа: Вовка – ровесник Вовки Клименкова – круглолицый, курносый. Наташка, сестра его, рыжая, веснушчатая, с резким мальчишечьим голосом и резкими повадками (старше меня на год). Светка, сестра их, писклявка и плакса, годом младше меня. Далее – Мишка Фунтиков, тоже сосед по площадке, из квартиры напротив, кажется, мой одногодка с младшей сестрой Валькой. Вот их я внешне совсем не помню.
Второй подъезд: Люда Марченко со старшей сестрой Леной и Наташа Исаченко с младшей, Эллой – наиболее мною уважаемые девочки. Мальчишки: Сашка Тимофеев и Колька Жуков – кажется, мои одногодки. Также Ирка Стефаненко с младшей сестрой и ещё Олька Талаева, большая девица. Тонька Чубарева – она из соседнего дома. Наверняка, кого-нибудь забыла. Что-то слишком много девочек получается. – А теперь представьте себе всю эту команду и мамино «не бегай!». Не-мыс-ли-мо!
Пыль взвивается от сандалий, когда, играя в прятки, мы срываемся врассыпную. Главное, чтобы «жмурка» – не ты!
Младшие обычно бегут в стандартные закутки. Что их искать-то? Старшие проявляют изворотливость. Старшие – это мальчишки, соседские Вовки. Вот за ними и стоит бежать! Чаще всего мы ищем укрытие за нашим домом-кораблём, под окнами которого, вдоль тротуара, утопая в траве, как в волне морской, густо переплетены кусты сирени, молодые паростки американских клёнов, (их у нас почему-то было очень много). И попробуй – отыщи нас в дебрях! Главное же – наш дом, в отличие от соседнего, можно было обежать вокруг (проходы с улицы во двор были с обеих его сторон) и, подкравшись к «жмурке» с неожиданной стороны, быстренько застукаться: «Сам за себя!»
Помните?
– Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать!
– Пора-не пора, иду со двора!
– Кто не спрятался, я не виноват(а)!
И ещё:
– Корыто-не-корыто – мои глаза открыты!
А подсказки?
– Топор-топор, сиди как вор и не выглядывай во двор!
– Пила-пила, лети как стрела!
Где тут колени выдержат? Они часто были сбиты, и корки подолгу с них не сходили. Я корки безжалостно сдирала, отчего заживало лишь дольше.
И в классики, и в фанты, и в скакалку – во все девчоночьи игры играли с нами и мальчишки. Футбола не помню. А вот «ножичек» – опасная «мальчуковая» игра! Чертится круг, делится на равные части по количеству участников (двое-трое), и играющие, стоя в кругу, бросая ножик в территорию соперника, «прирезают» себе чужие участки в зависимости от того, как нож воткнулся в землю, по плоскости его лезвия. Доходило до того, что играющий едва мог уместиться одной ногой в своих владениях. Я, конечно, «в ножики» не играла. Это – игра для Вовок. Я же стояла у очерченного круга, разинув рот. И однажды ножик воткнулся в мой резиновый сапожок. – Всё-таки, осень?
Никогда в жизни я не была таким общительным, таким общественным ребёнком, как в том дворе! Мне даже не верится сейчас, что моё ранее детство было столь активным. Всю последующую свою жизнь я оставалась преимущественно отшельницей-домоседкой в компании книг.
Другие соседи
Вы заметили, что сегодня в лифте мы чаще едем молча, время от времени делая про себя открытия: «Тоже – сосед?! И этот – из нашего?!» И всегда неудобно в лифте спрашивать: «Вам – какой?»
В том, старом нашем доме все знали друг друга вплоть до приходящих гостей. Жильцы словно получили свои ордера на вселение прямо из рук утопистов Анри Сен-Симона и Шарля Фурье для демонстрации теории об идеальном обществе социальной справедливости.
О! Что за пёстрое собрание профессий представляли два наших подъезда! Мой папа – следователь (отличное рабочее название для кино или романа!) Мама по образованию – клубный работник и библиотекарь. Правда, профессия эта была ещё до моего рождения и до знакомства с папой, а жаль! С каким бы удовольствием я пропадала в библиотеке!
Но Ангел мой судил тогда по-другому: после переезда в городок Костюковичи кем только не работала моя мама: и паспортистом в милиции, и вечерним кассиром банка (банк-то был рядом с нашими домами), и просто кассиром Отдела коммунального хозяйства. Я перебывала на всех её работах, кроме банка, пожалуй. Словом, оба родители мои – служащие. Соседи наши, Клименковы (вы уже знакомы с ними) – кочегары. Отец выводка Мясниковых – заведующий городским Домом Культуры. Родители Мишки Фунтикова – строители.
Фунтиковы эти были самыми шумными в подъезде. Едва по праздникам и выходным родня их дружной толпой втекала в словно безразмерную квартиру, вскоре уже играл баян, и фунтиковские голоса вылетали в распахнутую форточку вперемешку с мелодиями фунтиковских пластинок. Надо же: те времена никто не жаловался и не звонил в милицию! Терпимы все были. И жили все в абсолютно одинаковых квартирах: прямо по Фурье и Сен Симону.
На первом этаже, под тёть Марусей, обитала супружеская пара врачей, бездетных, и потому меня они не занимали. Правда, у дяди доктора Передкова был собственный мотоцикл с коляской, и даже гараж. По-моему, это был единственный личный транспорт на два наших дома! Тем доктор и запомнился. Ещё на первом – районный военком с несколько высокомерной, элегантной и гордой женой Тамарой Тихоновной и с двумя их взрослыми дочерьми, длинноногими красавицами и модницами Томкой и Галкой. Они носили идеальные длинные волосы и идеальные прямые платья-мини, по моде свингующих шестидесятых. Под заведующим Домом Культуры – семья Гершон с сыновьями-музыкантами (трубач и кларнетист, Лёник и Лазик). Кроме того, что это были взрослые парни, носили пышные шевелюры и неизменные чёрные футляры с инструментами, ничего о них добавить не могу. Я даже не заметила, как Гершоны уехали, а на их место вселилась новая семья, из «простых», и наша дворовая команда пополнилась Иркой Панкратовой, девицей хитрой и нагловатой.
– Дай понюхать киселя, – говорит сидящая напротив меня в нашей крохотной кухоньке Ирка, не сводя с меня глаз и намекая, что и ей бы не мешало налить. Я этикету не обучена , гостям не наливаю, да и мама не разрешала водить домой посторонних. А я-таки привела. Вот и «расхлёбываю кисель»: не избавиться от хитрой Ирки ну никак!
В соседнем подъезде ордера на вселение раздавал, очевидно, утопист Томмазо Кампанелла. Он населил свой «Город Солнца» следующими персонажами: отец Люды Марченко – партийная номенклатура. Отец Наташки Исаченко – судебно-медицинский эксперт, мама – врач.
Ну, вот можете ответить: почему Люда Марченко никогда не была для меня Людкой? Как и Юра Клименков никогда не был Юркой. Определённо, некое необъяснимое разделение людей в нашем восприятии существует с детства, и Кампанелла в этом смысле ничего поделать не может.
Родители Ирки Степаненко и Ольки Талаевой – работники почты, которая расположена где-то вдали, по нашей же улице. Кстати, Степаненко – единственная на два дома семья, у которой было пианино. Факт удивителен тем, что ни Ирка, ни младшая её сестра музыкой не занимались. Квартира их соседствовала с нашей спальней, укладывались там за полночь, и, засыпая или видя десятый сон, можно было услышать вдруг за стенкой резвый, бойкий топот детских ног, внезапное скорое и беспорядочное «климканье» по клавишам: клим-клим-клим и – негрозный окрик отца Толика или не литературный – Юльки, матери. Если бы пианино было у Мясниковых, было бы понятно! Но у Мясниковых был … баян.
Наконец, самое яркое семейство соседнего подъезда: Ицковы. Ида Борисовна, дама средних лет, всегда хорошо одетая – сотрудница того же банка, в котором работала мама. Муж Иды – Вена – простой рабочий льнозавода. Чудны дела твои, Господи!
– Вена, иди чай пить, – корректно произносит Ида Борисовна. Вена мгновенно вскипает в ответ:
– Всё чай да чай! Чайник побью!
Вена, пожалуй, не прочь выпить, а тут «всё чай да чай».
К тому же, Ида экономно ведёт хозяйство: двести грамм колбаски на двоих. А Вене после смены на заводе это – тьфу! И потому он имеет сильно расшатанные нервны. Он несколько сутул, жилист, худ, как все неврастеники, одет без изыска. Его реакция на Идин чай вполне оправданна.
Супруги – бездетны. За все перечисленные факты в совокупности Вену не сильно одобряют родители Иды, живущие вместе с «молодыми». Тёща постоянно подвергает зятя презрению и остракизму.
– Сумасшедший, – спокойно, одной нотой, произносит она в ответ на Венины истерики.
Однажды, похоже, в выходной день, Вена вылетел из своего подъезда и с криком «Я повешусь!» скрылся в сарае.
Мой отец с дядей Васей сидели на скамейке у нашего подъезда (редкий случай: папа всегда – на работе; значит, точно – выходной). Дядя Вася тревожно, в сомнении:
– Может, сходить? А то вдруг повесится.
– Сиди, – саркастически усмехается папа - психолог.
Через десять минут.
– Всё-таки пойду, гляну, как он там?
– Ну, глянь…
Дядя Вася осторожно приоткрывает дверь сарая. Вена, как ни в чем не бывало, заговорщицки кивает:
– Заходи!
И далее деловито:
– Закурить есть?
Как и мой отец, никто из Ицковых за Веной не побежал. Очевидно – привыкли.
Моя мама дружила с Идой Борисовной, но, конечно, не так близко, как с тёть Марусей. Когда у меня начали проявляться первые проблемы с сердцем (неожиданные обмороки), Венина тёща компетентно посоветовала маме:
– Сходите с Вашей девочкой к Басиной (врач). У неё есть трубка. Она послушает и скажет.
Но Басина ничего не сказала.
Время спустя, когда я гостила у бабушки Паши в Княжицах, точный диагноз мне не поставил и обычный сельский фельдшер Павлович (это – отчество). Но, будучи приглашён бабушкой по случаю очередной моей простуды, он чутким ухом своим уловил шумы в сердце. Они оказались впоследствии ревматизмом с повторяющимися атаками. Вот вам и трубка Басиной.
Что до белого моего дома, полагаю, я рассказала вам достаточно о некоторых его персонажах. Эти детальки моего детского витража ослепительно озаряет странное солнце памяти.
На реке
Наши с Клименковыми связи были неразрывны и прочны, как канаты. Вместе мы отмечали праздники, ходили по выходным с тёть Марусей на луг к реке Жадуньке за щавелем, набирая его в матерчатые авоськи. Я, скорее, крутилась под ногами, чем помогала. Но что это была за радость – летний луг!
Речка протекала через городок, извиваясь среди обширного девственного простора. Дорога к ней вела от нашего дома под уклон: сначала по тротуару, мимо банка и продовольственного магазина на углу, выходящего на перекрёсток Ленинской и Интернациональной (вход со ступенями – прямо с угла здания). Затем – через дорогу, мимо книжного магазина и далее уже – немощёной в то время, песчаной улицей Ленинской – к мосту через Жадуньку. Идти к реке всё вниз и вниз было легко и весело. А там: направо ли, налево ли – не помню.
Совместные с соседями «пикники» отличались предельной простотой: незамысловатую провизию складывали отнюдь не в плетёные английские корзинки, а всё в те же матерчатые авоськи. И вместо аристократических пледов брали с собой простые жаккардовые покрывала и шли на речной берег – загорать и купаться.
Детское ощущение цветочно-травяного раздолья под солнцем, незнакомых каких-то ароматов, щекотания высокой муравой обнажённых щиколоток, коленей, стрекотание кузнечиков, трепание подола платья и чёлки под разогретым воздухом – всё это и было счастливое детство. Вот он – яркий осколок витража! Впиталось всё это так прочно, очевидно, старательно компенсируя отсутствие воспоминаний более ранних, мозаичные осколки которых отсутствуют начисто.
Срываешь на ходу травину с мохнатым венчиком и загадываешь: петушок или курочка? И тянешь венчик двумя пальцами вверх вдоль стебля. Если венчик сложился ровной метёлкой – это курочка, если выбивается над метёлкой хохолок, значит – петушок. Раскрыл пальцы – и метёлка из них моментально рассыпалась, разлетелась по ветру.
Не успевали, дойдя до места, разостлать покрывала, как Вовка командовал:
– Ну, давайте уже будем есть!
Нет ничего вкуснее на свежем воздухе сальца со свежим хлебом, со свежим огурчиком! Что ещё мы тогда ели? Не помню. Вовка стремительно, с аппетитом подрастающего щенка, поглощал всё, что глоталось, заглатывал жадно и быстро и был таков: неизменно испарялся с невесть откуда взявшимися знакомыми пацанами. С нами ему становилось не интересно. Я же, маленькая, ела медленно и держалась взрослых.
Вовка был мой антагонист во всех отношениях, не только в еде. Мы с ним даже в разные школы ходили (это, когда я уже пошла). Он – в школу номер один, ближнюю к дому, старую кирпичную трёхэтажку в центре города, посреди большого тенистого парка, окружённого металлической витиеватой оградой на кирпичных столбиках. Я же пошла в новую, школу номер два – огромную, тоже трёхэтажную, но в форме гигантской буквы «П», где-то на отшибе, в районе только ещё будущих новостроек. Иногда случалось нам идти вместе (став школьницей, я меньше сидела на руках тёть Маруси, и отношения наши выровнялись). У калитки Вовкиной школы мы расставались, и я тащила свой портфель в несусветную даль. Не помню вообще, чтобы меня в школу водили. Сама. С первого класса.
И так, мы – на реке. Папа мой отличный пловец: нырял, как утка, отфыркивался, уверенно загребал и на спине, и не боку. Он вырос на небольшой реке Лахва, в деревне Княжицы, но это не помешало ему подружиться с водой. А вот меня научить плаванию не смог. Бывает такое: врождённая водобоязнь в освоении плавания, как врождённая «столбобоязнь» при обучении езде на велосипеде. Это – мои собственные боязни. Когда я была совсем взрослой, мой сын взялся обучать меня езде на велосипеде. Кольцо автодрома я освоила быстро и испытывала истинное наслаждение под ослепительным летним солнцем, врезаясь в разогретый воздух, освежаясь тугим его встречным потоком. Счастливым цирковым мишкой я нарезала бесконечные круги… Но едва мы свернули на дорогу, ведущую домой, я поняла, что панически опасаюсь не разминуться с каждой парой лип на моём пути. Меня охватывало состояние, близкое к панике.
Возможно, с водой тоже было что-то врождённое? Ну, вот не держит она меня, и всё! Топор. А возможно, причина в том, что однажды, зайдя в воду нашей неширокой, спокойной Жадуньки, я слегка оступилась у самого берега, попав ногой в невидимую ямку? Я стала заваливаться на бок: «тонуть»! (Прямо огненно-красное стекло мозаики!) Помню, как тянула руку к маме, ощущая, что не могу противостоять воде, и миг тот, пока ухватилась за её ладонь, и сейчас чудится мне «замедленной съёмкой», и меня охватила тогда паника, схожая с велосипедной. Видимо, с тех пор во мне навсегда укоренилась эта водобоязнь. Впрочем, в бассейне, лет в двадцать пять, я научилась-таки держаться на воде, и даже загребать кролем и брассом. Но мне непременно нужно видеть дно и быть уверенной, что я достаю его ногами. Мама, выросшая на довольно большой реке Проне, тоже не плавала.
Но в таком случае объясните мне, почему моя мама отлично ладила с велосипедом, и даже лет в семьдесят умудрилась продемонстрировать моему сыну свои навыки. Правда, случился казус – упала. Так в семьдесят же!
А я – ни к воде, ни к колесу! Так уж распорядился мой Ангел. Может, уберегая от чего-то в будущем?
Красное и чёрное
Нет. Это не роман Стендаля. И не пылкая Испания. Это – очень яркие стёклышки из витража моей жизни. Впрочем, какая же классическая триада без белого?
Клименковы всегда были нашей палочкой-выручалочкой в сложных ситуациях.
В тот раз у мамы, наверное, случилась командировка (она отвозила готовые паспорта в соседний район, туда, где не было паспортной службы). Я – почему-то не в саду. Может быть, карантин?
– Муся, пусть она побудет сегодня у вас на работе? – сдают меня с рук на руки нашим кочегарам. Почему-то, в белом платье. Учудила мама!
Весь день я увлечённо перебираю в котельной крупные, с гладкими блестящими гранями брикетины, карабкаюсь на пик по угольной куче (Чёрное). Мне никто не мешает. Тётя Маруся и дядя Вася – в рабочих спецовках. А я – новогодняя снежинка. Огонь (Красное) шипит подобно разъярённому змию, когда в раскрытую пасть гигантской топки дядя Вася забрасывает уголь широкой лопатой. «Шшу – шшу!», – вгрызается лопата в угольную гору. Из топки взлетают сияющей мошкарой суетливые искры. Чёрная пыль вздымается столбом на фоне алого пламени. Кузница мифологического Гефеста! Везувий! Последний день Помпеи! Восторг и полнота впечатлений! Вечером мама забирает из адского чрева совершенно чумазого, довольного чертёнка. Здесь – преимущественно Чёрное.
А вот корь – это сплошное Красное. Мне жарко! Очень жарко! И не от кафельной стены нашей печки. От температуры. Я – горю. Затемнённая спальня – почему-то красного цвета. Это сейчас я знаю, что симптом кори – слезотечение и светобоязнь, поэтому шторы в комнате надо завесить, создать затемнение. Но почему они – красные? – Или мне только казалось в горячке болезни, что они – красные…
Болезни. Болезни…
Вот начало одной из них – этой ли, другой ли (всё слилось в моём детстве в бесконечные болезни): иду из школы, меня трясёт мелкой дрожью, зубы выбивают дробь от озноба. Захожу по пути на работу к маме. Она, потрогав лоб, отправляет меня с наставлениями домой. На мне – мягкая болоньевая курточка, белоснежная в сине-красные фигурки-иероглифы снаружи, с синей молнией, ярко алая – внутри, с алыми трикотажными манжетами. Я очень любила, когда она нараспашку: тоже Красное… Именно так шла я в ней, когда мне повязали в школе алый пионерский галстук.
Кто вообще придумал, что детство наше было бесцветным и убогим? Да, колесить по двору не выпускали в нарядной одежде. Но я ведь отлично помню свои колготки «под кобру», мягонькую розовую кофточку с собачкой на кармашке, великолепный трикотажный костюм-тройку цвета бирюзы, с юбочкой плиссе. Да всё было у нас замечательно!
И ещё про Красное. Когда у мамы сильно болела голова (мигрень – наш наследственный бич), бабушка Паша советовала: «Плотно увяжи голову красным платком». Почему именно красным? Я, всю жизнь страдавшая мигренями, так и не испробовала бабушкин способ.
Квартира. Стихи и … мои слёзы
Все квартиры в нашем доме, как помните, были двухкомнатные.
Крохотная прихожая с кладовой справа от входа, небольшая кухонька, тоже направо. Прямо – проходная комната – зал, далее – спальня. В кухне – плита с духовкой для готовки, от неё и тепло. Газа тогда не было. В зале, прямо напротив входа – печь-голландка (грубка), облицованная гладким белым кафелем, от пола до потолка. В спальне – её, печи, белая кафельная спина. Дрова – в том самом сарае, что во дворе, напротив наших окон.
Стены, без обоев, с так называемым рисунком-накатом, кажется что-то голубое на белом, какие-то цветочки, волны, полоски. Такое покрытие было дешевле обоев и наносилось на века. Стены были рифлёные, шероховатые на ощупь. И прохладные.
В спальне – две кровати, моя и родительская, на стене над кроватью – незамысловатый коврик с оленем. У стены напротив – платяной шкаф с зеркалом и небольшая кушетка с изголовьем возле кафельной стены.
В зале – полупусто. Небольшой раскладной диван под бордовым жаккардовым покрывалом, круглый стол светлого орехового дерева под скатертью, с четырьмя венскими стульями того же желтоватого оттенка, белый буфет с простенькой посудой, тумбочка под телевизором. Кажется, ещё одна тумбочка, с радиолой. Впрочем, и сам зал невелик.
За круглым столом, приходя из школы, я делала уроки. За ним трудились мы вместе с мамой над моими заданиями: вырезали карточки для кассы буков и слогов, я выводила ручкой свои первые буквы в прописях, а мама аккуратно подчищала неудачные хвостики лезвием, затирая шершавую поверхность листа. Подчистка. По этой части она была мастер. Я унаследовала все её приёмы, так же подчищая хвостики, когда учился писать мой сын. Наверное, всем мамам хочется, чтобы их дети были идеальны во всём, и в первых буквах – тоже.
Думаю, что за этим столом мне читали и мою любимую книгу – волшебный, иллюстрированный сборник стихов для детей Льва Квитко, в переводе Самуила Маршака, Сергея Михалкова и других поэтов, 1966 года издания. Как и с телевизором, тут не обходилось без слёз. Например, над стихами про Жучка, попавшего в водоворот городского ливня, я ожидаемо пускала слезу вот тут:
Несет его, крУжит
И гонит вода.
Тяжелые капли
По панцирю бьют,
И хлещут, и валят,
И плыть не дают.
– Мне жалко жучка, – хлюпала я носом.
Зато строки:
Жучка я поймал,
Посадил в коробок,
И слушал, как трётся
О стенку жучок.
Но кончился ливень
Ушли облака,
И в сад на дорожку
Отнёс я жука. –
Были моим счастливым апофеозом! – Спасён!
А вот из стихотворения «В лагерь»:
Солнце светит всё приветней,
Мы уедем в лагерь летний…
Оно со временем обернулось моими слезами обманутых ожиданий.
Ах, как мне нравились эти картинки про лагерь в книжке! И сама я тоже поехала туда однажды. Путёвку в лагерь имени Зои Космодемьянской приобрела для меня моя тётя, тоже Зоя, по фамилии Ридель. Далеко от дома, далеко от моего маленького городка. Поехала один единственный раз в жизни. Потому что когда через три дня тётя добросовестно приехала меня навестить (возможно – поторопилась), я взмолилась во слезах: «Заберите меня отсюда, или я сама убегууу!» Лагерь реальный показался мне совсем не таким замечательным, как книжный.
Много позже, когда моя подруга по школе (в другом городке) Лариса Красовская, съездив в «Артек», красочно живописала мне жизнь другого лагеря, во мне шевельнулся червь зависти. Я жадно всматривалась в фотографии с видами далёкого Крыма, с весёлыми детьми в красивой форме. Но червь шевельнулся и утих по мере того, как утихли Ларины рассказы.
А в книге моей кроме «Жучка» были сплошь весёлые стихи:
Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки:
Много ли щетинки…
«Скок, лошадка! Стук-стук дрожки
Мы поедем к бабке Мирл
По кривой дорожке…
Что за дрожки? Что за странное имя у бабки? Почти как мой «синий вуг» (про него будет чуть позже). Но чем непонятнее – тем интереснее. И стихи заучивались наизусть сами:
Я разломал коробочку
Фанерный сундучок,
Совсем похож на скрипочку
Коробочки бочок….
«Анна-Ванна», «Кисонька», «Скрипка», «В гости», «Лошадка» и много-много других. И очень яркие, содержательные и добрые иллюстрации. Сияют, сияют стёклышки моего витража!
Как жаль, что книга эта пропала! Очевидно, при переезде в другой городок мама посчитала, что школьнице она уже не нужна, ведь я училась тогда в четвёртом классе. А я всю жизнь вспоминаю именно ту, Льва Квитко! И имею мечту отыскать её двойника. Это, как незакрытый гештальт (простите избитое выражение!)
Была в моей, уже более поздней, школьной жизни, ещё одна книга, библиотечная. И я не успокоилась, пока, не помня ни названия, ни автора, став взрослой, вычислила-таки её и отыскала такую же, и купила, и не только перечитала, но и сочинила стихотворный экфрасис (пересказ). «Джек-Соломинка» Зинаиды Шишовой. Сейчас та книга – на моей полке. Тот гештальт я закрыть сумела.
Сейчас вдруг задумалась: а почему я не помню других книг? – Вероятно, их у нас, в той квартире, просто не было? Это тем более удивительно, что моя последующая детская и взрослая жизнь протекли под неизменный шелест страниц. В нашем доме (не в этой квартире, а в том, настоящем, будущем, отдельном доме, в который мы переселились, переехав в другой городок) у нас собралась настоящая библиотека, перечитанная мной вдоль и поперёк. А тогда, в первой квартире, видимо, мы просто не успели обзавестись книгами. Возможно, элементарно не хватало денег молодой семье. Возможно, не распробовали вкус чтения…
Впрочем, ну, как не было?! Помню же я:
Лев рычит: «Я всех сильней,
Я – могучий царь зверей!»
Надо львом смеётся Светка:
«Ну-ка, выберись из клетки!»
Или:
Повстречались кони с пони,
И заржали дружно кони:
«Грива есть и даже хвост,
Но какой невзрачный рост!"
Я и картинку помню: кони забавные такие, одетые, словно стиляги, с длинными гривами, как у хиппи. Были! Были и другие книги! Просто Лев Квитко – ярчайшее стёклышко моего детского витража.
Фотографии из альбома
Фотографии тоже помогают раскручивать спиральку памяти, заполнять витраж.
Вот, к примеру, про ёлку. Зиму не помню, а ёлку – помню. На Новый год она красовалась на нашем круглом столе. В деревянной крестовине, сделанной собственноручно папой, в неизменном серебристом дождике, в ватных снежинках, с золотисто-апельсиновой «макушечкой» и в игрушках, которые сейчас покупают за дорого в антикварных отделах. А мы…мы свои растеряли. Мама никогда не берегла старого…
Как-то, будучи взрослой, я подарила им с отцом искусственную ёлочку, небольшую, милую и мохнатую. В комплекте преподнесла и подходящие по стилю небольшие винтажные деревянные игрушками. На следующий год игрушек не оказалось в наличии. Мама объяснила: «Я подумала: какое-то старьё, и выбросила их»…
И так, под Новый год стол занимала ёлка, а в «меж ёлочный» период за этим столом, в зале, мы принимали наших друзей Клименковых.
Тут же, в зале, на раскладном диване спала моя бабушка Паша, приехавшая однажды к нам в гости на очередной Новый год. Есть в семейном альбоме фотография: прилежно сложив руки на коленях, обе смотрим в объектив. Я – неизменно в белом платье, с улыбкой, и бабушка – торжественно и строго. Фотограф, конечно, папа.
Какое счастье, что хоть наснимал он нас тогда, пользуясь служебным положением – фотоаппарат в работе следователя вещь неотъемлемая! И кое-что уцелело в домашнем коричневом мамином альбоме, подаренном ей подругой юности. Впрочем, и там мама время от времени проводила свои генеральные чистки: «Кому надо это старьё, эти неизвестно чьи лица?» И часть нашей жизни канула безвозвратно.
Но не вся!
Вот, к примеру, мы посреди нашего дворика с Наташей Исаченко и Тонькой Чубаревой. Тонька напоминает маленькую разбойницу. Сорванец в пальтишке и тёплом клетчатом платке, закутанная по-взрослому, она смотрит с улыбкой не в объектив, а на нас с Наташей. Кажется, её только что придержали во время беготни по двору, и она готова вновь улепетнуть от нас. Зато Наташа – маленькая принцесса: чёрненькое пальто с тонкой, изящной белой опушкой, аккуратная чётная шапочка с белой полосой и беленьким помпоном-кистью, полоска белых гольф между штанишками и ботиночками. На мне – тоже круглая вязаная шапочка, с пупсиком на макушке, натянута поверх белого платочка. Я – в таком же коротеньком, как и у моих подруг, пальтишке. Мода на мини распространялась и детскую одежду. Ни одна девочка того времени не носила платье или пальтишко ниже колена. Даже до колена было далеко. Из-под коротеньких штанишек у меня тоже смешно выглядывают белые гольфы.
На другом фото я в парке, том самом, что через дорогу. В прежних пальтишке и шапочке (похоже, всё в один день снимали). Сижу на скамье, нахохленная, словно зимний воробей, смешно вобрав голову в плечи, а за мной, прилежно уложив руки на спинку скамьи, словно на парту в школе, стоят два рыцаря: улыбчивые, круглолицые, в кепках с козырьками – Вовка Мясников и Колька Жуков.
А вот мы с мамой у нашей ёлки: она – в строгом чёрном платье, (как сейчас сказали бы, в «маленьком платье от Коко Шанель»), рукав три четверти, с блестящей брошью под у-образным вырезом, а я рядом – стою на венском стуле, в белом платье снежинки, в белых гольфах, с короткой своей стрижкой. Кстати, я никогда не носила в детстве ни кос, ни бантов. Короткая чёлка и боковые пряди на уровне уха. Такие причёски носили тогда многие девочки.
Платье, конечно, шили к детсадовскому утреннику. Явно в нём я коротала потом время на угольной куче городской качегарки: не пропадать же платью, когда ребёнок так скоро из всего вырастает! И не только платье шили «к ёлке»: мама мастерила мне корону. Обтянутый марлей картон с тонкой подложкой из ваты, расшитый узором из мелких ёлочных украшений, покрыт наклеенными блёстками. В качегарку её, правда, не надели. Да и на фото у ёлки я – без короны. Но помню её отлично!
Мы обе с мамой – улыбаемся, словно нас заставили сказать «сыр». А в это время сбоку, на подоконнике, за ёлкой, притаились две тарелки с праздничным холодцом. Под подоконником – и того лучше! – подвешена пара колечек домашней колбаски – вялится. Эх, папа! Тоже мне – фотохудожник! А ещё над моим балетом потешался.
Словом, зал – центр нашей крохотной Вселенной … Вся жизнь квартиры – в нём.
И ещё я непременно должна поведать о нашей кладовой. Там, на полках, я тайком искала (и отыскивала!) коробку с пастилой, заботливо припрятанную мамой к празднику. Это, конечно, не картошка из чужого чугунка, но тоже – большой повод для маленькой детской исповеди.
Самое раннее
Самое ранее моё воспоминание о себе – смутное, возможно, внушённое маминым рассказом: она тянет за собой санки, везёт меня в сад. Мороз. Я закутана по самые глаза. Снежная утренняя тишина. Тропинка, очень узкая, бежит над крутым оврагом. По другую сторону – новый городской кинотеатр. И вот – санки на бок, а я – мешком, вместе с валенками, шубкой и шапкой – под откос, в сугроб…
Но есть и явно собственные воспоминания. Например, музыкальные занятия. Савелий Максимович играет нам на баяне, повторяя: «На носочках, на носочках». Мы бежим по кругу, словно цирковые пони. Остановились, делаем «ковырялочку»: руки в бока, одна нога – в пол, другая – с пятки на мысок, с пятки на мысок. Наверное, музыкальные занятия мне очень нравились, раз я помню их так ярко.
Вот и до «синевуга» добрались. Неотъемлемая часть музыкальных занятий – пение. Петь я тоже любила. Однако незнакомые и не совсем понятные слава порой складывались у меня в собственные, ещё более непонятные.
Так, строку «В синеву, в синеву песенка лети» я исполняла так: «Синий вуг, синий вуг, песенка лети-и-и-и».
Во-первых, существительное «синева» в отличие от прилагательного «синий» мне было незнакомо. Соответственно, во-вторых, я понятия не имела, кто такой этот «вуг», даже если он и синий. И недоумевала, почему песенка должна была лететь от неизвестного мне «синевуга». В-третьих, в слове «лети» звук «и» исполнялся мной не протяжным легато, а именно долгим и отрывистым стаккато: «и-и-и-и». Смысл второй строки был понятнее: «Веселей, веселей солнышко свети-и-и-и!» Но с тем же овечьим «и-и-и» в конце.
А Лёня Кузнецов с Витей Путята на музыкальных занятиях вечно дурачились: один, подхватив другого за ногу, изображал игру на балалайке. Оба смешно скакали («балалайка» – на одной ноге) и умудрялись при этом корчить мне дикие рожи. Мне – прилежной, серьёзной девочке – эта их дурость была не понятна. Сейчас я бы сказала с достоинством невесть откуда пробивающейся во мне аристократки: «Она (дурость) мне оскорбительна». Ольга же Семёновна про Витю Путята говорила проще и конкретнее: «Гадость эта». Тоже справедливо…
В свободное от музыкальных занятий, рисования и лепки время я прочно, словно пригвождённая к стульчику, терпеливо сидела на нём и обеими руками прижимала к себе большую детсадовскую куклу с фарфоровым лицом и хлопающими ресницами, в буклях-кудряшках из пакли, в белом платье. Ольга Семёновна знала, что кукла – в надёжных руках: я ни за что и никому её не дам, и никто её не испачкает и не повредит. Я смотрю на чёрно-белый портрет коротко стриженой девочки в платьице (не синем ли?) с белым воротником и белыми пуговками, с этой куклой – в нашем семейном альбоме. Позади меня, над головой – шарики снежинок из ваты на тонких нитях. Не придуманная, реальная кукла...
Помню тихий час в детском саду. Ряды раскладушек и неизменную мантру Ольги Семёновны: «Все – на бочок; ручки – под щёчку».
И ещё пенка в молоке, и компот из сухофруктов, и… Больше не помню.
Школа и просто слёзы
Когда я рыдала из-за Аяврика, я и не предполагала, сколько придётся трудиться в жизни моим слёзным желёзам.
Первой неприятностью оказалось то, что меня посадили за одну парту с Колей Ларченко. (Странно, что он для меня – не Колька). Я сразу решила, что он, простите – какой-то дурачок! Этот Коля страшно отвлекал меня – прилежную ученицу, мешал слушать, толкал под руку, что-то постоянно бубнил. Мало того, он увязывался за мной после уроков, буквально преследовал, неся какую-то околесицу. Однажды мы с ним возвращались из школы под дождём, без зонтов, которых ни у кого из нас не было, но и тогда Коля оставался Колей – не отставал и не обгонял. И досаждал. Я жаловалась маме, просила её поговорить с учительницей, чтобы нас рассадили. Может, он просто был в меня влюблён? Бывают ли влюблены в первом классе? Я, кажется, любила Сашу Соколовского. Но не долго. Он был сыном военного, и они вскоре уехали. Выяснить же про Ларченко мне было не суждено – в конце четвёртого класса уехали мы. Но подозреваю, что нас всё-таки рассадили.
Вторая неприятность случилась, когда учительница задала домашнее задание по математике, но никто его почему-то не записал и не выполнил. Она прошлась по рядам и выставила в дневниках по «паре» буквально каждому. Представляете? – Мне, такой примерной – и пару!
Я ревела всю дорогу до дома. Родители оказались во дворе, у сарая, пилили дрова для нашей печки. И прямо там, в этом самом дворе, я, ещё наподдав слезы, уже не заскулила, как по Аяврику, а взвыла:
– Папочка! Мамочка! Накажите меня! Я двойку получилааа…!
Впрочем, за учёбу меня никогда не наказывали. Не было повода. Так и оставшись примерной отличницей, я закончившая школу с золотой медалью. Мама даже на школьные собрания почти не ходила – не было необходимости.
Но речь всё-же о слезах. О слезах в лагере имени Зои Космодемьянской я уже упоминала. Они были коротки. Меня просто забрали из лагеря в срочном порядке.
Самые же буйные свои слёзы я пролила в больнице, куда впервые попала без мамы. Это был, должно быть, третий класс. Сейчас я думаю, что с детства мои нервы были расстроены. Не раз я с лёгкостью впадала в истерический плач. Мне казалось, что палата была огромная (конечно, так казалось), словно армейская казарма. Не путаю ли я её с пионерлагерем? Я была там из самых младших – зашуганная диковатая девочка из провинции. Дворовые баталии меня никак не закалили. Их просто не было. Мы все дружили, и конфликтов я не помню. А в палате чем-то меня очень задели «большие» городские девицы. Мне кажется, что я тогда выплакала всю свою годовую норму слёз, если таковая бывает.
В больницу я попала с теми самыми шумами в сердце (ревматизмом) после очередной внезапной потери сознания посреди квартиры. И вот я, «сердечница», рыдала там едва ли не до сердечного разрыва.
Зато после больницы я уже никогда не занималась физкультурой: ни в школе, ни в университете. Меня освободили пожизненно от повинности ловить этот круглый, скользкий, ненавистный мяч и соревноваться в беге на скорость, когда перед страхом подвести команду обморок впечатлительному ребёнку обеспечен. И кто только придумал эти соревнования! Вместо физкультуры я даже после вынужденного удаления миндалин регулярно проходила сезонные курсы уколов бициллина, весьма болезненных и чувствительных. Сейчас мне кажется, что более суровых уколов мне в жизни не ставили.
В больнице, кстати, я не только рыдала. Там я впервые слушала отрывки из романа Виктора Гюго «Отверженные», который нам читала вслух в беседке, на свежем воздухе (то было лето) то ли нянечка, то ли воспитатель. Жан Вальжан, Козетта, Гаврош… Мне думается, для третьего класса это было несколько преждевременное чтение. Впрочем, мать Марины и Анастасии Цветаевых ознакомила их с «Божественной комедией» Данте (и не только!) в гораздо более раннем их детстве, чем мой третий класс. Я же «Божественную комедию» взялась читать в глубокой-глубокой зрелости. Такое вот отставание в развитии…
Возвращаюсь к своей первой школе.
Взамен уроков физкультуры я пела (помните, всё началось с детсадовского «синевуга»?) Пением это назвать сложно: при отличном слухе голосок мой был слаб, плохо поставлен. Тем не менее, с высокой школьной сцены (вероятно, это был третий, максимум, четвёртый класс) мне доверили исполнить песню о храброй партизанке Женьке. Даже сейчас я помню, как блеяла юным барашком: мне нравилось брать высокие ноты. Вряд ли меня слышали дальше второго ряда. Суть же – в ином. Суть в том, как я не испугалась и не умерла прямо ввиду публики!? Как я не грохнулась замертво, подобно Белоснежке, вкусившей отравленного яблока, или Джульетте, испившей яда!
Однако, восхищение отважной Женькой и, возможно, удачная акустика актового зала вылились в мою последующую любовь к пению, воплощённую уже в другой школе, в другом городке, в школьном хоре, где меня записали «в первую партию». А в студенческом хоре… – что может быть прекраснее и торжественнее «Гаудеамуса»!
Потрясения
Потрясений я помню два.
Первое, не произошедшее (к счастью!) у меня на глазах непосредственно, но обсуждаемое соседями тихими, скорбными голосами, и с трудом укладывающееся в моей детской голове. Младшая сестра Наташи Исаченко, Элла, попала под машину. Это произошло прямо напротив нашего дома. Отец привёз её, возможно, из сада, и, остановившись возле нашего парка, на противоположной стороне улицы, отвлёкся на мгновение. А Элла побежала через дорогу к дому… Она погибла. Похороны я не помню (возможно, была в школе?). Оно и к лучшему. Но то, что малышки Эллы вдруг не стало, что она больше никогда не появится среди нас – то было первым серьёзным событием, взорвавшим мою детскую безмятежность. Впрочем, оно – это событие, как-то скоро изгладилось из памяти. Вот только имя Элла… С ним я не рассталась. Оно созвучно с моим собственным. И я сохранила его для своей героини волшебных рассказов. Может быть, там, на небесах, светлая душа Эллы порадуется?
Второе происшествие, по масштабу не сопоставимое, но зато виденное и слышанное… нет, не собственными глазами и ушами, а сердцем и душой, и оттого оказавшееся гораздо более тяжёлым для моего детского восприятия. Машина сбила недалеко от нашего дома, у той самой полукруглой площади, собаку. Не на смерть. Она лежала на дороге и страшно выла от боли. Этот вой навсегда поселился где-то в потайном уголке меня, и страдания животных (любые, любых!) для меня невыносимы до мления в руках и сердце, словно его (сердце) пытаются оторвать от моей плоти.
Что до происшествий, то с кем они не случаются. Например, мама моя никогда не проявляла ко мне излишней, а может быть, и необходимой ребёнку нежности. Это – не упрёк. Зная историю её собственного не простого детства послевоенного ребёнка матери-инвалида – это простая констатация факта. Тётя Маруся при её необразованности гораздо лучше умела приласкать и подержать на коленях. Мама, мне кажется, просто не умела. И резковатой бывала в действиях.
Однажды она мыла пол, а я сновала туда-сюда по квартире в угаре той детской неугомонности, которая порой накатывает не ко времени.
– Не бегай, – строго произносит мама свою знаменитую фразу, отжимая тряпку. Понятно же – я ей мешаю. Но шило изнутри сверлит.
И когда я в очередной раз метнулась за чем-то в спальню, мама наподдала мне мокрой тряпкой по худому, искавшему приключений, заду. И я, представляете?! – я приземлилась аккурат в таз с водой, что стоял посередине зала. Происшествие? Мелочь? – Да! Но памятная. И смешная сейчас. А тогда – не помню. Видимо, был общий лёгкий шок.
В другой раз, снова от маминой тряпки, как ни странно, пострадал папа. Она вновь … мыла пол. На этот раз – в прихожей. А папу, привезя домой, прислонили к стене прихожей знакомые. Понятно? – Словом, папа был не в форме. Только нет, не подумайте, что папа пил! Но с кем подобное не случалось? Работа у следователя нервная и подхода требующая. И выхода. Так что порой не обходилась без ста грамм. Да и было в тот раз явно не сто. Словом, папу доставили. И приставили к стенке. Стоит он в прихожей, пошатывается, лицо такое доброе-предоброе, с блаженной улыбкой. И стоит он … на краю маминой тряпки. Мама, как и я, но уже взрослая, пьяных на дух не переносила. И сердито так тряпку из-под папиных ног – дёрг! И папа, мой любимый папа! – плавно съехал по стене вниз…
Нет! Я не скулила, как по Аяврику! Я просто вопрошала про себя в невероятном детском своём потрясении: такой большой – и упал!?
– Мне жалко, мне жалко папочку!..
Но однажды я понесла наказание за свою неугомонность от самого папы. Надо отметить, что папа всю жизнь сохранял армейскую и курсантскую привычку умываться холодной водой, а в молодости – ещё и делать зарядку. В то утро мне почему-то было особенно весело оттого, как, стоя среди зала, папа размахивает своими руками (не всё же ему над моим балетом измываться!). Я была в спальне, чтобы не путаться под ногами, дверь была прикрыта. Но меня разбирал тот глупейший, неудержимый смех, который порой накатывает беспричинно. И желание подсмотреть, что там он ещё такое выделывает, было неудержимо. Я тихонько приоткрываю дверь, просовываю любопытный нос свой в щель, и в этот момент папа, не видя меня, резко выбрасывает руки в стороны, угодив одной из них в дверь. Дверь, соответственно – влепляет мне в лоб. Отметина, представьте, сохранилась…
Милый поезд, тошнотворный самолёт, а также деревни
Изредка мы с родителями выбирались из маленького нашего городка в большое путешествие в далёкий город Могилёв. Там жили две мои тёти с мужьями, а ещё дальше Могилёва, в деревне Княжицы – бабушка Паша. До деревни добирались с пересадкой: следовали красивым оживлённым шоссе, уже автобусом. Княжицы – та самая деревня и есть, в которой сельский фельдшер Павлович уловил чутким, опытным ухом шумы в моём сердце.
Деревня – это в первую очередь бабушкин дом, бревенчатый, с высокою крышей, в четыре небольших окошка попарно на север и восток, с просторными, но тёмными сенями, слабо освещёнными малым подслеповатым окошком, и обширным, но низким погребнём. Пожалуй, слова этого не знает никто, кроме нашей семьи. По крайней мере, я его больше нигде не слышала. Это такая пристройка-сарай к дому, в виде прямоугольного треугольника, крыша которого начинается примерно под основанием крыши торцевой стороны самого дама, а завершается практически у земли. Дверь входа в погребень за счёт этого крутого скоса крыши, соответственно, очень низкая. Под этой самой «поехавшей набок» крышей и расположен собственно погреб, а свободное пространство вокруг занято домашней утварью. Дом бабушкин был старый-престарый: уже тогда, в моём детстве, ему было лет сто.
Любимые и незабвенные вещи бабушкиного дома:
Взятая в раму вышивка над кроватью – пухлая девочка держит в руках большой кувшин с молоком. Кувшин наклонился, и молоко проливается на землю. Девочка опасливо косится на лужу и на котёнка, который, встав на задние лапы, тянется к кувшину. Вышивала, будучи юной девушкой, моя тётя Зоя (Ридель).
На противоположной стене, меж двух окошек, тоже в раме – портрет молодого кучерявого красавца – моего дедушки Владимира Лаптева, пропавшего без вести на фронте.
Далее – большой жёлтый двустворчатый шкаф с мутным от времени зеркалом, в малом отсеке которого, на полке – всегда сласти, купленные бабушкой Пашей для меня, а позже и для моего двоюродного брата Юрки (сына второй моей тёти, Тамары). Мы буквально не отходили от этого шкафа.
– Стоят весь день, как в очереди в магазине, – сказала однажды в сердцах бабушка и стала закрывать шкаф на ключ. Смешная. Мы-то отлично знали, куда она его прятала …
Во вторую очередь деревня – это Храм, на самой высшей её точке, на холме. Перед фасадом бабушкиного дома, над кронами маленького сельского сквера возвышается благородный старец, величественный, ни на один храм в наших краях не похожий, особенно поражающий воображение размерами относительно окружающих его домишек, с белоснежными когда-то стенами, но давно утративший эту белизну, весь в трещинах, словно в кровавых рубцах.
Изначально это был католический костёл. Этим и объясняется непохожесть на привычные глазу православные церкви.
На самом деле, судьба Храма необычна и печальна. Рождение костёла (сперва – деревянного) исчисляется 1681-м годом. В 1780-м году он (уже величественный, каменный) был освящён во имя святого Антония Падуанского, а в 1865-м году преобразован в православный Храм в честь Александра Невского. Внешний вид его данное событие несколько видоизменило: над притвором, по западному фасаду классического католического сооружения появились центральный, православный купол-«луковка» над колокольней и две «луковки» – над боковыми башнями.
Богослужения в Храме прекратились спустя три года после моего рождения, так что я помню его ещё в довольно хорошем состоянии. Но больной самостоятельно уже не выздоровеет. Горько наблюдать его медленное умирание. И мне уже не узнать, о чём думала бабушка, сидя у своего дома на скамье под липами, посаженными моим отцом, и глядя на этот вдруг опустевший, обезголосивший Храм. А ведь звук его колокола разносился когда-то на десятки километров окрест.
Ещё деревня – это три гигантские берёзы перед бабушкиным домом, тоже посаженные моим, юным ещё папой. Между двумя из них устраивали для меня незамысловатые верёвочные качели и я…
Я взлетала на них выше всех трёх куполов старой церкви!.. Так мне сейчас кажется. Выше колодца на краю бабушкиного сада – точно.
Три берёзы, две шлейки-качели,
Над вершиной берёз – облака,
И колышет девчоночье тело
Чародейная чья-то рука.
День-деньской – ни подружек, ни кукол,
Лишь сиянье июльского дня;
Только церкви стареющей купол
Выше неба и выше меня…
Ах! Что-то за время было!
В дальний лес, по грибы, через широкую стрелу шоссе, по бескрайнему, звенящему стрекочущими кузнечиками полю, мы ходили с папой либо с тётей и дядей. Таких ласковых лет, таких дней, самой такой жизни уже просто не существует. Васильки, колокольчики, ромашки, неизвестные алые и фиолетовые венчики, куриная слепота, пахучая полынь вдоль полевой дороги, золотистые ячменные или пшеничные колосья (уж этого определённо не скажу) – волнующееся море колосьев. Вот оно – лето моего детства! Не стёклышко, а настоящий магический кристалл в моём витраже!
Огромный бабушкин сад с «райскими яблочками» медуницами, молоко от бабушкиной козы, толстые блины из печки. Это тоже деревня.
А вот мимолётные встречи с приезжими, как и я, моими московскими троюродными кузенами и кузиной – Серёжей-Наташей-Димой (перечислила по старшинству), были для меня, страшно дичащейся провинциалки, почти пыткой. Серёжа Кондрашов – мой ровесник. Его двоюродные, родные между собой Наташа и Дима Петровы – чуть младше меня. Они приезжали в другой дом, к нашим родственницам, бабушкам, сёстрам моего пропавшего без вести деда. Звали их Лиза, Надя, Уля. Точнее – все мои кузены были внуками одной бабушки Лизы. И приезжали они из Москвы к сёстрам бабушки Лизы – вдовой Ульяне и никогда не бывавшей замужем Надежде.
Это – отдельная, странная и не простая для меня история. Лёгкая, незатейливая дружба с деревенскими, кареглазыми, смуглыми нездешней смуглотой, сестричками Людкой-Инкой Бережными, живущими по соседству с бабушкой Пашей, давалась мне просто, практически, как с детворой моего белого дома-корабля. Я была годом и двумя старше их, и для них – городская, в авторитете. Московские же мои кузены, хотя и были не старше меня, но казались мне какими-то инопланетными существами, небожителями. Я чувствовала, что говорю не так, как они, одета не так, как они, не знаю того, что знают они. И потому я их мучительно стеснялась и усиленно избегала.
Людка с Инкой моё настроение чувствовали и, я думаю, немного ревновали меня к этим моим столичным родственникам. Потому, завидев в окне бабушкиного дома их, идущих к нам, в сопровождении кого-либо из своих бабушек, ехидно оповещали меня:
– Вун, вядуть ужо! (местный диалект).
От этого «вядуть» сердце моё трусливо сжималось: отбыть повинность и поскорее быть свободной!
Как жаль, что наши отношения не сложились! Разве могла я тогда им, этим милым детям, что-то объяснить? Впрочем, меня тоже изредка водили к ним («родниться», как говорила моя тётя). Славное слово, смысл которого я стала понимать очень-очень поздно. Приветливый дом их, с зарослями настурций вдоль дорожки, с высоким крылечком перед верандой, с амбаром во дворе – всё мне у них нравилось.
Настурция. Крыльцо. И день увековечен
Пигментиками солнц. И тополиной свечкой,
Что, устремляясь ввысь с густыми небесами,
Макушкой головы к Вселенной прикасаясь,
Взирает на цветок. – Он огненной ладошкой
Вновь приоткрыл исток и день, в том дальнем прошлом,
Где, прячась от родства, дичась и неохотно
Шагала я в места с настурцией дремотной…
Это признание написано спустя вечность.
Мы, (я и кто-то из них – Серёжа-Наташа-Дима) даже сообща (разумеется, в сопровождении взрослых) исследовали как-то тайные уголки нашего заброшенного Храма. Но дружба не сложилась. Вообще, я всегда чувствовала себя несколько лишней, ненужной. У Серёжи была младшая сестра Марьяша. Дима с Наташей – тоже брат с сестрой. У двоюродного моего Юрки была младшая сестра Ленка. И только я – одна.
Когда умерла бабушка Паша и все мы, родственники, собрались в её доме после кладбища, Юрка с Ленкой внезапно исчезли. Оказывается, они ещё раз пошли на могилу бабушки. Меня не позвали. И я в очередной раз ощутила печаль по своей «никомуненужности».
Ах, как же далеко я отклонилась от маршрута повествования!
И так, до бабушки, до этого летнего моего рая, мы добирались поездом. До сих пор я испытываю к поездам нежность. Звук поезда волнует меня в ночи, когда в молчаливом воздухе отчётливо и далеко разносится «татах-татах, татах-татах». Так колёса отстукивают мои бессонницы. А когда поезд торопится средь бела дня через мой большой Город, хочется помахать ему рукой, как в детстве. Так однажды и случилось: машинист «кукушки», перегоняющей вагоны на сортировочную станцию, просигналил мне, стоящей над пролегающей недалеко от моего офиса железнодорожной насыпью. Я любила выходить туда летом и подолгу смотреть на пересекающиеся, раздваивающиеся, убегающие за поворот рельсы. Он просигналил – и я помахала в ответ.
Городок моего детства назывался Костюковичи, а станция почему-то – Коммунары. Тогда, из окна нашей квартиры, поезд слышен был где-то за линией горизонта.
Знакомо ли вам волнительное чувство, когда выходишь из здания вокзала на ночной перрон, поджидая медленно подползающий состав, который пыхтит своё усталое предостановочное «чуххх…тссс», замирая, наконец, перед платформой. А тебя бьёт мелкая-мелкая дрожь – то ли нервная, то ли от перепада температур (после вокзала на ночном перроне всегда зябко). Торопливо устраиваешься в купе у окна, на жёстком диване (мы ездили в плацкарте) и в нетерпении ждёшь этого волнительного «дёрг»! – толчка, после которого освещённое жёлтыми (непременно жёлтыми!) фонарями, ночное здание станции, всё в таинственных тенях сонных деревьев медленно отплывает из квадратной рамы окна, и за ним вдогонку торопливо устремляются какие-то безликие станционные строения, тоже оставаясь не взятыми нами с собой. Фонари мелькают всё быстрее, быстрее, быстрее, и перрон вдруг обрывается. За окном, после заключительной яркой вспышки возникает непроницаемая тьма (поезд отправлялся ночью). И равномерное, монотонное «ту-тух, ту-тух» изредка прерывается лишь неожиданной, скорой монотонной нотой «си», когда поезд пролетает над малой речушкой. А вот большие реки Проня и Днепр – это звук долгий, звенящий, и опоры мостов в виде гигантских букв то ли «А», то ли «Л» скоро-скоро мелькают перед глазами. И тебя мерно покачивает на полке. «Ту-тух», «ту-тух»..
Другая поездка, уже с мамой, без папы – к другой моей бабушке – Наде. Не доезжая Могилёва, тем же поездом – город и станция Чаусы. Каменное здание вокзала, круглая водонапорная башня красного кирпича. Странно, что вокзал в Костюковичах я совсем не помню, видимо оттого, что из него выходишь к поезду, и он у тебя за спиной. А вот в Чаусы ты приезжаешь, и он тебя – встречает: «С приездом!»
Но нас с мамой никто не встречает, потому что встречать некому. До бабушкиной деревни Скоклево – девятнадцать километров, мы с мамой добираемся туда на автобусе. Старенький такой, допотопный, мне видится сквозь дымку прошлого столетия, что он – голубой. С выдающимся вперёд «рыльцем» под лобовыми стёклами и небольшим салоном в несколько окошек – «ПАЗ». Набит «Пазик» пассажирами, как сельдями – металлическая консервная банка. Мы с мамой – без мест, условно «стоячие», потому что на самом деле мы полулежим: нас заваливает и жмёт на водительский отсек толпа напирающих «попутчиков». И я выдаю:
– Как в душегубке!
Поверите? – Понятия не имею, откуда я взяла это слово!
Мама молчит. Должно быть, припоминает, как преодолевала в детстве эти девятнадцать километров пешком, нося на продажу на Чаусский вокзал домашнее масло вместе со взрослыми соседками. Школьница, моя мама заменяла свою маму, мою бабушку Надю, ноги которой практически отнялись задолго до моего рождения, и она едва передвигалась по дому и около, худенькая, в долгополой юбке, опираясь на палку, с усилием подтягивая по очереди свои не слушающиеся ноги. Я только такой её и помню.
А может быть, мама вспоминала, как, будучи студенткой, приезжала на выходной из города и по лютому морозу, в капроновых чулочках, шла эти девятнадцать километров, чтобы побыть с бабушкой хоть денёк, помочь по хозяйству. Вспоминала ли она о своих обмороженных в кровь коленях?
Других возможностей приехать к бабушкам тогда не было.
Зато бабушка Надя, сидя со мной на деревянном полке возле печки, тихо-тихо рассказывала мне то ли сказки, то ли быль про русалок, которые защекотали на смерть какого-то проезжего молодца. Наверное, она вспоминала в эти минуты свою юную жизнь на отцовском хуторе, среди собственного леса, поля, луга… Может быть, она про ту, свою лесную жизнь и рассказывала? Может, и водились тогда русалки? А сейчас она жила в наполовину лишь обитаемом доме на самом краю села, за которым начинался глубокий ров с высоким холмом вдоль – послевоенные противотанковые окопы. У этой бабушки меня не оставляли, были мы там с мамой совсем недолго, и друзей там у меня не было. Были там ещё две старые бабушки: Марья и Арина, наши родственницы.
– Не тисни, не тисни котика,– громко говорит мне глухая Арина. Я вцепилась в маленького котёнка, не оторвать... Тоже витражное стёклышко…
А бабушку вскоре увезли к Балтийскому морю – забрал старший мамин брат.
– Но где же самолёт? – спросите вы.
Извольте! – Из Костюковичей в Могилёв летал в те времена самый настоящий самолёт. Правда, маленький, почти как автобус «ПАЗ», и назывался он «АН-2».
За нашим городком был самый реальный аэродром, а приземлялись мы в аэропорту Луполово, практически в центре Могилёва.
Боялась ли я летать? С папой, конечно, нет! Но вот ощущения… Их не компенсировал ни вид игрушечных деревенек, ни аккуратные, разноцветные квадратики полей, лесов, ни ленточки рек, ни завитки и изгибы просёлочных дорог, ни стрела шоссе, ни змейка железной дороги. Все мои воспоминания о перелётах – это сплошной серый бумажный пакет, уткнувшись в который, я выворачивала наизнанку своё детское нутрецо. Даже слово «душегубка» на ум не приходило. Просто выползала на свежий воздух белая, словно мел, и зеленая, словно бабушкины Надины русалки.
Словом – это вам не купе с милыми пейзажами за окном, с затейливыми домиками станций. Зато быстро. Уткнулся в пакет, пострадал над ним – и ты уже в Могилёве.
Много лет спустя мне приходилось летать далеко и на больших самолётах. Не тошнило. – Кукурузник», однако.
Переезд. Конец раннего детства
Когда я завершила третью четверть четвёртого класса, в один из первых каникулярных дней приехал мой папа (он уже примерно год работал в другом городе), и мы стали собирать свои небогатые пожитки. Нам предстоял переезд, поскольку в том, другом городке со странным названием Круглое папе выделили, наконец, служебное жильё. И не какую-нибудь квартиру, а самый настоящий дом, с отдельной комнатой для меня – детской, с верандой, с садом. Дом, в котором будет много места для книг, и можно будет завести кота! Вещей было немного, дорога была длинная, даже дальше, чем к бабушке Паше.
Мы распрощались с нашими дорогими Клименковыми, и ещё лет тридцать, не меньше, мы получали от тёти Маруси письма и открытки с её знаменитыми каракулями за подписью «Моня».
Я выросла, закончила Университет и однажды приехала по делам в город моего детства. Белый дом по-прежнему стоял в центре, напротив парка. Я переночевала у сильно постаревшей тёти Маруси. Дядя Вася давно умер. Юра и Вовка разъехались: один – в Питер (Юра закончил мореходку), другой – кажется, в Краснодар (ближе к родине тёти Маруси).
Дом показался мне маленьким, почти игрушечным. Двор – и того меньше. Никого из прежних друзей я не встретила.
Минуло ещё полжизни. Незабвенной тёти Маруси тоже уже нет на этом свете. А мне хочется туда, в моё детство. Витраж всё ещё видится…
2.10.2024
Свидетельство о публикации №124100204065
Алла, написано просто великолепно, тонко, душевно, с философским взглядом на жизнь. Большое спасибо, дорогая... Л.
Любовь Самарина 04.10.2024 20:49 • Заявить о нарушении
Сто раз твой ( мой) глаз прошёлся по каждому предложению. Но пока не опубликуешь, не замечаешь ни стилистических, ни даже порой и грамматических, подчёркнутых красненьким, ошибок и помарок.
Вот сейчас в издательстве зависло моё "Малиновое Королевство". Вчера поинтересовалась. Ответили: "Ждём, корректор перечитывает".И я прямо порадовалась)
Словом, когда я распечатала экземпляр, оформив в виде книжечки, для родителе, я села ещё корректором орудовать...
Всё начиналось с фразы "На самом деле, дом из белого кирпича был невелик". Потом сто раз и её ( фразу)перекроила и словно окунулась в волшебный колодец...
Писалось легко в голове и мучительно в шее и спине.
Я счастлива, что выдохнула эти воспоминания.
У каждого они есть. И у всех - интересные.
Заказала на днях по интернету "Дневник" Марии Башкирцевой. Художница, умершая в 24 года. Думаю, ты о ней знаешь, в отличие от меня . Её работы есть в Третьяковке. Я же случайно набрела. Прочла кусочек и заболела. И вот, невестка получила вчера мою книгу и я горю от нетерпения встречи с ней!!! Тоже воспоминания...
То, что твои богаты и разнообразны - уверена. Ты бы тоже могла их выдохнуть...
Ещё раз спасибо! Обнимаю Любочку с любовью!
Алла Никитко 05.10.2024 11:02 Заявить о нарушении