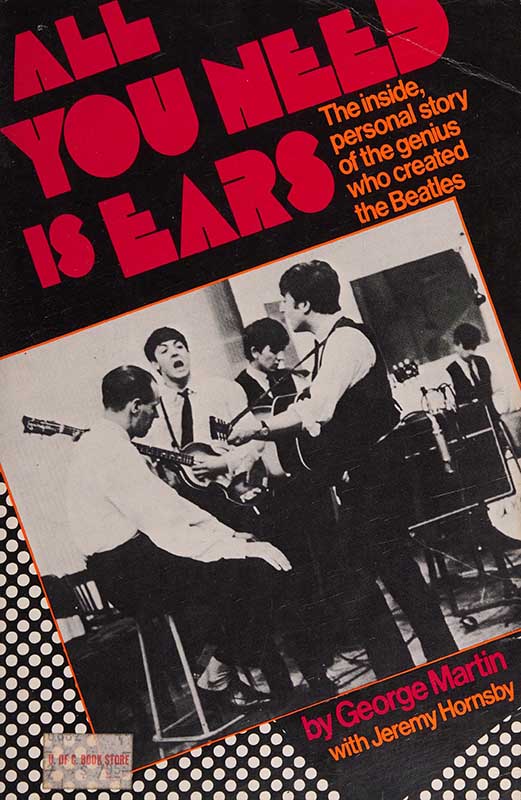Всё, что вам нужно, это уши
***
Hallo. И снова привет! Кажется, это вполне разумный способ начать любую автобиографическую книгу, но в данном случае он особенно уместен, потому что «Hallo» была первой частью сознательно записанного звука. В 1877 году Томас Эдисон, пытаясь улучшить новое изобретение г-на Белла — телефон, решил использовать короткую иглу для вибрации в задней части диафрагмы вместо куска железа Белла. Затем, как позже описал Эдисон: «Я пел в трубку телефона, когда вибрации голоса направили тонкое стальное острие мне в палец. Это заставило меня задуматься. Если бы я мог записать действия точки, а затем отправить ее на какую-нибудь поверхность, я не видел бы причин, по которым эта штука не могла бы говорить». Он был прав. Он провел полоску вощеной бумаги под иглу и крикнул: «Привет!» Когда он пропустил бумагу под иглу во второй раз, о чудо, в ответ послышалось «Привет». Это был не совсем квадрофонический звук, но это было начало. Позже в том же году он запатентовал свой фонограф, в котором канавка для записи была вырезана в фольге, обернутой вокруг цилиндра. Он доказал, что это сработало, с помощью бессмертной фразы «У Мэри был ягненок». Зародилась звукозаписывающая индустрия. Сегодня, спустя сто лет, любопытен тот факт, что история звукозаписи разделилась на четыре почти точные четверти века. Первые двадцать пять лет, вплоть до начала нового столетия, были заняты безумной международной суетой, когда каждый пытался найти эффективные способы донести новую игрушку до публики. Именно в этот период Эмиль Берлинер изобрел плоский диск, который мы знаем сегодня, и машину для его воспроизведения, которую он назвал граммофоном.
Но первые настоящие прорывы произошли в 1901 году, когда были представлены цилиндрические пластинки, изготовленные из твердого термопластика, и в 1904 году, когда были выпущены первые двусторонние диски. Так началась вторая четверть века, которую можно было бы назвать акустическим периодом. Теперь, когда были созданы удовлетворительные механические средства воспроизведения звука, поиски были направлены на улучшение качества этого звука, как в методах записи, так и в методах воспроизведения пластинок. Например, большая работа была потрачена на поиск наилучшей теоретической и практической формы рупора, размер и конструкция которого оказывают глубокое влияние на качество воспроизведения звука. Однако это все еще было механическое воспроизведение - до 1925 года, когда, как по сигналу, наступила электрическая эра записи. Теперь вместо того, чтобы диафрагма физически активировала записывающую иглу, ее вибрации преобразулись в электрические импульсы, передающие сообщение игле. Разумеется, когда дело дошло до проигрывания пластинки, то же самое применялось и наоборот. Эти методы были усовершенствованы и максимально развиты в течение следующих двадцати пяти лет, вплоть до 1950 года, который стал годом, когда молодой невинный Джордж Мартин присоединился к звукозаписывающей индустрии. Именно в это время начиналась четвертая четверть века, эра электронной записи. Вот тут мне повезло. Именно здесь Бог выбрал для меня абсолютно правильное время. И именно поэтому эта книга, как и все остальное, представляет собой рассказ о тех двадцати пяти годах записи истории. Удивительно то, что цикл вот-вот начнется заново. Сейчас, когда я пишу, мы подходим к самому концу четверти века записи на электронную ленту. К тому времени, когда эта книга будет прочитана, мы перейдем в следующую эпоху – цифровую запись. Но это для последней главы.
Я проснулся от требовательного звонка колокольчика в моем ухе. Казалось, это не лучший способ начала любого дня. На мгновение я задумался, где же я нахожусь, затем вспомнил, что это была спальня в парижском отеле, и было не утро, а середина ночи. Непосредственной задачей было остановить этот адский звонок, и, потянувшись к телефону, я прошептал сонное и сомнительное «Hallo» в его сторону. — Джордж, извини, что разбудил тебя, но мне просто нужно было сообщить тебе новости. Голос Брайана Эпштейна звучал очень взволнованно и немного пьяно. Казалось, еще рано находиться в таком состоянии. Вскоре я понял, почему он такой. «Я только что оставил ребят праздновать, и они так же взволнованы, как и я», — сказал он, сделав паузу на мгновение, чтобы создать напряжение. Я ничего не говорил. Было слишком раннее утро или слишком поздний вечер, чтобы сформулировать предложения. Потом он сказал это. «Мы номер один в Америке в чартах следующей недели. Это совершенно определенно. Я только что разговаривал по телефону с Нью-Йорком. Вот и все. Наконец мы добились этого благодаря песне «I Want to Hold Your Hand». После года очень жесткого взяточничества мы наконец прорвали стены крупнейшего рынка звукозаписи в мире. Я забыл о какой-либо мысли о большом сне. Это не было трудностью. Весь последний год сон был достаточно редким товаром. Я просто лежал и думал о том, что было и что может быть дальше. Но что имело значение сразу же, так это две причины, по которым я приехал в Париж с «Битлз». Во-первых, они должны были дебютировать во Франции в Парижской Олимпии, и я хотел там побывать. Во-вторых, нужно было быстро записать с ними пластинку в парижской студии EMI. К концу 1963 года мы покорили Англию, во всяком случае в музыкальном плане. Теперь, как и Америка, мы пытались добиться успеха на континенте. Сотрудники EMI в Германии уволены – кто знает? - из какого-то патриотического рвения настаивал на том, что «Битлз» не получат там больших продаж, если их пластинка не будет исполнена на немецком языке. Ребята подумали, что это чепуха, и я сам не поверил ни единому слову, но в то же время я не хотел давать немецким сотрудникам EMI никаких оправданий за то, что они не продают пластинки «Битлз». Итак, после некоторых споров я убедил Джона и Пола перезаписать «She Loves You» и «I Want to Hold Your Hand» на немецком языке. Текст был предоставлен немцем, который пришел на запись, чтобы убедиться, что с акцентом все в порядке. Я не знал об акцентах, но видел, что слова были почти дословными переводами. «Sieliebt dich, ja, ja, ja» звучало именно так, как это сделал бы Питер Селлерс. Запись была запланирована на день, свободный от репетиций в «Олимпии», и когда я приехал в студию, я не ожидал, что они придут вовремя. Даже в те далекие времена они не славились своей пунктуальностью. Но через час я решил позвонить в их отель. Никто из них не подходил к телефону. Вести переговоры был назначен Нил Аспиналл, их гастрольный менеджер, и он сообщил мне, что они решили, что, в конце концов, они не хотят записывать пластинку и не приедут. Назвать мою реакцию гневной — это все равно, что назвать Эверест большим холмом. «Скажи им, — крикнул я Нилу по краснеющему парижскому телефону, — просто скажи им, что я приеду прямо сейчас, чтобы сообщить им, что именно я о них думаю». Я бросил трубку. Это был первый раз, когда мальчики меня поддержали; и особенно меня раздражало то, что у них не хватило смелости поговорить со мной самим. Я помчался обратно в отель «Жорж Синк», где у них был экстравагантный номер, и ворвался к ним в гостиную. Сцена была прямо из Льюиса Кэрролла. Не хватало только Белого Кролика. За длинным столом сидели Джон, Пол, Джордж, Ринго, Нил Аспиналл и Мэй Эванс, его помощница. В центре, разливая чай, стояла Джейн Ашер, красивая Алиса с длинными золотистыми волосами. При моем появлении вся картина взорвалась. «Битлз» разбежались во всех направлениях, прячась за диванами, подушками, фортепиано и всем, что могло их укрыть. — Вы ублюдки, — крикнул я. «Мне плевать, записываешь ты или нет, но меня волнует твоя грубость!» Одно за другим из укрытий битлов появлялись лица битлов, похожие на непослушных школьников, с застенчивыми улыбками. Раздался шепот «Прости, Джордж». Если бы они хотели быть обаятельными, как тогда, невозможно было долго сохранять гнев, и уже через несколько минут я успокоился и присоединился к чаепитию - правда, в каком обличии, мне трудно сказать: Безумный Шляпник, возможно. На следующий день мы сделали запись. Но, конечно, они были правы. Пластинки «Битлз» на английском языке должны были продаваться миллионами во всех странах, включая Германию. Никогда больше они не записывали пластинку на иностранном языке. А сейчас тем более в этом не было необходимости, потому что Америка пала. Для меня это был целый мир с того момента, когда я впервые осторожно положил указательный палец на среднюю «до».
Думаю, мне было шесть, когда у нас появилось пианино. Я сразу в него влюбился, пошел и шумел на нем. Тогда пианино было тем, чем сейчас стал телевизор: не просто предметом мебели, а предметом семейных встреч, и нам удалось приобрести его благодаря добрым услугам дяди Сирила, который занимался торговлей фортепиано. Он был тем, кто всегда играл на пианино на вечеринках. На Рождество в доме моей бабушки в Холлоуэе, Лондон, собирались семейные посиделки, человек тридцать. На этих собраниях она декламировала жуткие стихи — «Зеленый глаз Маленького Желтого Бога» и тому подобное. Чтобы соответствовать ее игре, мои дяди пели отрывки из «Песни пустыни» и тому подобного. Все внуки должны были что-то сделать, небольшой танец или стихотворение, и вскоре моим «вещем» стала мелодия на фортепиано.
Моя сестра Ирен, которая на три года старше меня, начала брать уроки игры на фортепиано у «тети» – на самом деле сестры жены дяди – и я решил, что тоже хочу их. К восьми годам я убедил свою семью, что я достаточно музыкален, хотя никто из них таковым не был, и наконец получил уроки: восемь из них, если быть точным. Через восемь недель моя мать поссорилась с учителем, и у меня больше не было уроков, пока я не стал подростком. Так что я просто взял его сам. Начало музыкальной жизни было довольно резким. Я родился в 1926 году, незадолго до Великой депрессии, и первым домом, который я помню, была квартира в Дрейтон-парке, напротив прачечной «Санлайт». Я называю это квартирой, но это были всего лишь две комнаты на верхнем этаже и мансарда наверху. Электричества не было: по обе стороны от каминной полки стояли газовые фонари. Кухни не было: мама готовила на газовой плите на лестничной площадке. Ванной не было: мы купались в жестяной ванне. Единственным источником воды была закругленная угловая раковина на полуэтаже, а единственный туалет на первом этаже использовался совместно с тремя другими семьями в доме, но, по крайней мере, у нас не было недостатка в мебели. Мой отец был плотником, и он делал нам столы, серванты, шкафы, кровати и игрушки для нас с Ирэн. Но никогда не стулья. По какой-то причине он никогда не делал стулья. Он был прекрасным мастером и любил дерево. Его жизнь была чувственной любовью к дереву. Он мог увидеть кусок дерева, взять его в руки и провести целую вечность, просто поглаживая его, просто наслаждаясь его ощущением. Он был очень простым человеком, но в его руках был огромный талант. Он был самым честным человеком, которого я когда-либо знал. Во время Депрессии он был без работы восемнадцать месяцев. В конце концов он получил работу по продаже газет в Чипсайде, в лондонском Сити, и я помню, как пришел к нему, стоял там на морозе и очень жалел его. Я думаю, что он, возможно, получил эту работу по линии моей матери, которую мы всегда считали чем-то более великим. Мужчины, мои дяди и дедушка, управляли фургонами Evening Standard по Лондону и зарабатывали неплохие по тем временам деньги. Я всегда считал их своими богатыми родственниками. Я был зеницей ока моей матери. Она была католичкой, и когда мне было пять лет, меня отправили к моей сестре в монастырскую школу в Холлоуэе. Три года спустя я перешел в начальную школу Святого Иосифа в Хайгейте, а это означало, что мне нужно было доехать на трамвае номер 11 от Дрейтон-парка до самого Хайгейта. Наверное, это была лучшая часть всего этого. Затем, в 1937 году, когда мне было одиннадцать, я выиграл стипендию в колледже Святого Игнатия в Стэмфорд-Хилле. Им управляли иезуиты, и Чарльз Лотон гордился своим самым знаменитым стариком. Через два года разразилась война. Мою школу должны были эвакуировать в Уэлвин-Гарден-Сити, место, о котором я никогда не слышал, но которое, как я понял, находится в пустошах крайнего севера. Мой отец к тому времени работал станочником по дереву в восточном Лондоне. Моя сестра бросила школу и пошла работать клерком в страховую компанию Sun Life of Canada, а их, в свою очередь, эвакуировали в Бромли, в графстве Кент. Казалось, что вся семья распадется, поэтому мои родители решили забрать меня из-под опеки иезуитов и последовать за моей сестрой в Бромли. Там меня определили в среднюю школу Бромли, в которую много лет спустя пошел Питер Фрэмптон. Но хотя мое образование оказалось довольно подвижным праздником, мой интерес к музыке продолжался непрерывно. Я продолжал играть на фортепиано самостоятельно; как только вы заинтересуетесь чем-то подобным, вы сможете узнать об этом, даже не заходя в библиотеку и не ища информацию. Фортепиано — отличный инструмент для познания музыки, взаимоотношений между одной нотой и другой. Я помню, как был очень взволнован, когда обнаружил новый аккорд, и особенно, когда однажды я понял, что существует естественный цикл аккордов. Я узнал, как пройти через все это и вернуться к тому, с чего начал. Тогда я этого не осознавал, но мне посчастливилось обладать даром идеального слуха, и это, должно быть, помогло. Мне также удалось выяснить, например, что во всем диапазоне было всего три уменьшенных аккорда и что они имели разные обращения. Я начал играть на слух такие вещи, как «Liebestraum» и различные пьесы Шопена. Откуда взялся этот подарок, я не знаю. В семье определенно не было профессиональных музыкантов. Они просто предположили, что «Джордж — самый музыкальный». . . пусть он этим занимается». Не то чтобы я был в музыкальной пустыне. В школе у нас были концерты Симфонического оркестра BBC с Адрианом Боултом, а в самом Бромли было очень большое музыкальное общество. Раньше они устраивали танцы, и мне особенно запомнился один из них, когда приходил выступать оркестр Squadronaires. Я слонялся по сцене, и когда один из них спросил, являюсь ли я сам музыкантом, я воспользовался своим шансом и сказал легкомысленно, хотя и дерзко: «О да, я играю на пианино, то же самое, что и вы». Полагаю, они думали, что это просто подростковая бравада и что они всегда могут снова меня отшвырнуть, но все равно сказали: «Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать, подойди и попробуй». Это было единственное приглашение, которое мне было нужно, и это было невероятное чувство — сидеть там и играть с ними «One O’Clock Jump». Музыка была частью моей жизни. Единственным моим выходом было маленькое любительское драматическое общество под названием «Дрожащие», которое было одним из мирских мероприятий Церкви в Бромли. Это было очень весело — играть в пьесах Ноэля Кауарда и так далее, и никто, кроме игроков, не обращал на это особого внимания. Это не научило меня многому в драме; но The Quavers тоже устраивали небольшие танцы, и мы с друзьями сказали, что организуем для них группу. Мы называли себя «Четыре рассказчика мелодий», а затем расширились и стали «Джордж Мартин и четыре рассказчика мелодий». Слава! Мой отец сделал нам набор пюпитров в форме двойной буквы Т, и мы играли под стандарты Джерома Керна, Коула Портера и других, например, «The Way You Look Tonight». Квикстепы всегда были самыми популярными, и мы всегда заканчивали «Вальсом спокойной ночи». Нашим саксофонистом был мальчик по имени Терри Хайланд, которого я встретил много лет спустя в лондонском отеле «Астория». Он все еще играл на саксофоне. Мы нашли один или два варианта реализации наших талантов, помимо хмеля The Quavers, и стали играть один или два вечера в неделю; На заработанные деньги я заплатил за уроки игры на фортепиано в Бромли у шотландца по имени Уркхарт. Мне было пятнадцать или шестнадцать. У мистера Уркхарта было чудесное фортепиано Bosendorfer, и именно тогда я по-настоящему проснулся от музыки. Я вдруг понял, что у меня есть талант - хотя, честно говоря, осознание было несколько безграничным: я романтизировал о том, что, если бы у меня была соответствующая подготовка, я был бы еще одним Рахманиновым. Я разобрался с этим несколько позже, когда до меня дошло, что репутации Рахманинова со стороны Дж. Мартина ничего не угрожало, но тогда я действительно мнил себя писателем-классиком. Высшим достижением, по моему мнению, было бы написание музыки к фильмам. Я даже не осознавал, какой это чертовски тяжелый труд. Но если это были мои фантазии, то пришло время мне решить, что делать на самом деле. Конец школы. Начало большого мира. Пока я учился в школе, мои родители всегда пытались убедить меня в важности работы, связанной с охраной. Я всегда хорошо разбирался в математике и рисовании, и теперь мама предложила: «Почему бы тебе не заняться архитектурой?» Мой отец сказал: «Почему бы тебе не пойти на государственную службу?» Тогда тебя никогда не выгонят с работы. Понятно, что для него это было первостепенно, поскольку он страдал от такой сильной безработицы, но у них обоих было чувство, что они хотят, чтобы я добился большего, чем у них, смесь родительской гордости и амбиций из разряда «Наш Джордж куда-то ходит». Но я был без ума от самолетов, и я и мой друг хотели стать авиаконструкторами. У него получилось, у меня нет. Я пытался попасть в «Де Хэвилленд», но они требовали 250 фунтов наличными от любого, кто присоединится к их программе обучения. Это был 1942 год, и авиационные компании были слишком заняты выпуском уже имеющихся у них самолетов. Их интерес к начинающим молодым дизайнерам был, мягко говоря, минимальным. Несмотря на это, меня приняли в одну фирму Short & Harland в Белфасте. Но это означало бы уехать из дома на работу в Северную Ирландию, а мне это не нравилось. Так что я не стал архитектором, не поступил на государственную службу и не стал авиаконструктором. Вместо этого я пошел работать к мистеру Коффину на Виктория-стрит. Мистер Коффин был геодезистом, и качество его работы, безусловно, соответствовало его имени. Через шесть недель скука взяла верх над моим щедрым вознаграждением в 2 фунта 5 шиллингов в неделю, и я объявил, что ухожу. Мистер Коффин хотел, чтобы я остался. Он даже предложил повысить ставку, но я ответил таким тоном сожаления, какой только мог: «Нет, сэр, боюсь, это совсем не моя чашка чая». От метафорических чашек чая я перешел к реальным чашкам чая. Я подал заявление о приеме на работу в военное министерство, которое, заставив меня сдать экзамен, приняло меня в свои ряды без униформы как «временного секретаря третьего класса». А это означало чайный мальчик. Это было на Итон-сквер. Они были очень милыми людьми и позволили мне собрать кое-что, а также заварить чай. Департамент занимался финансовой стороной военной машины, такими как оснащение полка новой полевой артиллерией или разрешение потратить пятнадцать фунтов на новую столовую для столовой. Моя работа не была героической, но я продержался там около восьми месяцев, до того дня летом 1943 года, когда я вошел в призывной пункт в Хизер-Грин, недалеко от Бромли, и сказал им, что хочу присоединиться к военно-воздушным силам флота. Они спросили мое имя, и я правильно понял, поэтому они сказали: «Хорошо, ты в деле». Мне было семнадцать. Я пошел домой к матери и объявил: «Я вступил в авиацию флота». Она была бледна и явно расстроена. — Нет! она сказала. Но я это сделал. Сначала меня отправили на HMS St Vincent, тренировочную базу в Госпорте, и первые восемнадцать месяцев у меня не было настоящего отпуска, потому что мы готовились к вторжению во Францию, и все южное побережье было изолировано. Я не мог поехать домой, а мои родители не могли приехать в Госпорт, но по какой-то причине и им, и мне разрешили поехать в Винчестер. Там примерно каждые три месяца мы встречались и пили чай с пирожными. После курса радиосвязи в Истли меня внезапно, с, казалось, неприличной поспешностью, переправили в Глазго, а оттуда, без паузы, на голландский лайнер, ставший военным кораблем, «Нью-Амстердам», направлявшийся в Нью-Йорк. Судно было, мягко говоря, переполнено. Это был круизный лайнер, рассчитанный на полторы тысячи пассажиров, а нас было восемь тысяч. Три тысячи из них были немецкими пленными, отправленными в Канаду; нас обслуживали в столовых, которые, как и кухни, работали круглосуточно, в четыре приема на каждый прием пищи. Даже сон был организован по вахтовому принципу, и нам, морякам, была поставлена ночная вахта. Мы разложили гамаки на палубе и «спали» под открытым небом — не то чтобы выспались, потому что ночь была временем уборки корабля. С полуночи до рассвета мы чистили палубы и коридоры. Я обнаружил, что из двух кусков мыла на мокрой палубе получаются отличные коньки, и мы катались по коридорам, пока нас не поймали. Две недели в этом плавучем общежитии-закусочной привели нас в Нью-Йорк, откуда, после недели восхищения небоскребами, мы отправились в Тринидад, чтобы пройти летную подготовку. К тому времени я был ведущим военно-морским летчиком, начав свою карьеру в качестве военно-морского летчика второго класса, что, в свою очередь, было, как я полагаю, на голову выше временного клерка третьего класса. В любом случае, мы оставались в Тринидаде до тех пор, пока не получили крылья, что означало наше повышение до старшины. Первый полет я совершил на Vickers Supermarine Walrus, биплане-амфибии, который трясся как сумасшедший. Признаюсь, я был до некоторой степени напуган, тем более, что это, казалось, подтвердило все худшие мои ожидания. Что-то в моей внешности, довольно худощавое и бледное, сделало меня объектом всех насмешек в Госпорте, таких тактичных фраз, как: «Ты увлекаешься самолетами!» Никогда не был в таком, да? Кор, когда ты туда поднимешься, тебя тошнит как собака! Ужасные вещи! Но вскоре мне это понравилось, и это было, конечно, захватывающе, особенно если учесть широкий ассортимент авиационного оборудования, которому мы доверили свою жизнь. На самом деле все это было довольно зоологически. Помимо Stinson Reliants, которые представляли собой одномоторные монопланы с высокорасположенным крылом, существовали Walrus, Grumman Goose (также амфибия), Fairey Albacore и Fairey Swordfish, несущие одну торпеду и один пулемет Lewis. установлен сзади. Я был наблюдателем, а на Тринидаде нас учили, помимо прочего, воздушной артиллерии, потому что наблюдатель был не только капитаном самолета, но и должен был уметь делать все остальное: радио, радиотелеграфию, навигацию и все остальное. артиллерийская и торпедная стрельба. Вообще-то в реальном бою нам не положено было вести артиллерийскую стрельбу, потому что был телеграфист-наводчик, который должен был за этим присматривать, но мы все равно должны были уметь это сделать, на всякий случай, если его подстрелят ; Никакая мысль не могла бы быть более отрезвляющей. К счастью, полет не полностью лишил меня возможности заниматься музыкой. Мы организовали пантомиму для местного театра, и я позаботился о музыке, хотя погода в Тринидаде вряд ли была той, что ассоциируется со временем пантомимы. А если в беспорядке и звучала песенка, то это всегда было «Дай нам мелодию, Пинчер», и я должным образом соглашался на то, что считалось Джоанной. Я не понимал, почему Мартинов всегда называли «Пинчерами», точно так же, как Кларков всегда называли «Шнобби», пока мне не рассказали о традиции, которая гласит, что она восходит к некоему коммандеру Мартину, военно-морскому офицеру эпохи Нельсона, который несколько дерзко «захватил» несколько судов противостоящего флота, тем самым одним махом пополнив Королевский флот. Из Тринидада мы вернулись в Гринвич на двухдневный курс ввода в эксплуатацию, в ходе которого нас познакомили с важными военными деталями, например, как правильно держать нож и вилку. На официальных обедах в прекрасном Расписном зале мы продемонстрировали свой вклад в этот жизненно важный вклад в военные усилия. Научить нас быть джентльменами было поручено старому офицеру, страдавшему одержимостью толстой кишкой. Он постоянно говорил нам, как важно регулярно ходить в туалет и следить за тем, чтобы кишечник работал правильно. Это, утверждал он, является основой хорошего здоровья (я полагаю, предполагается, что нельзя быть офицером и джентльменом и быть нездоровым), и он беспрестанно читал нам лекции на эту тему. «Если ваш кишечник чист, ваш ум чист». К счастью, у меня никогда не было проблем в этом плане, поэтому я мог чувствовать себя в безопасности. Вооруженные таким образом джентльменскими манерами, мы были назначены на должность, и я сразу же пострадал. Все мои товарищи, с которыми я прошел всю эту подготовку, были произведены в младшие лейтенанты. Но я был еще слишком молод для этого высокого звания, поэтому был произведен в гардемарины. К сожалению, мид-корабль получал меньшую зарплату, чем старшина, которым я был, и, поскольку они датировали наши комиссионные задним числом, когда мы получили свои крылья в Тринидаде, мне фактически пришлось возместить им разницу. Мне казалось, по меньшей мере, трудным, что мне приходится вносить вклад в военные действия как финансово, так и физически. Но это было типично для многих моментов моей жизни; Кажется, я всегда проигрываю в таких сделках. И даже когда три месяца спустя я наконец получил свою нашивку, это все равно меня раздражало. Из Гринвича мы отправились в Берскоу, в Ланкашире, чтобы изучить новое чудо радара — летающие барракуды (подробнее о зоологии). Это было облегчением. На Тринидаде не было радара, и когда ты взлетал с авианосца, ты был один. Через два с половиной часа вам пришлось снова искать корабль, полагаясь на свое навигационное чутье и на ветер. Вы сами находили ветер, выясняли, что он делает с самолетом, а затем ориентировались по точному расчету. Результат неудачи в этом предприятии был очевиден, и мы стали чрезвычайно хороши в мореплавании! Как выяснилось, я вообще почти не ходил пробовать прелести Берскоу. Мои пианистические блуждания по Вест-Индии были отмечены офицером по развлечениям, в результате чего, когда я вернулся в Англию, меня пригласили выступить в программе BBC под названием «Navy Mixture». Итак, мичман Мартин отправился делать свое дело. Я сыграл пьесу, которую сочинил для фортепиано, небольшую трехминутную пьесу с образным названием «Прелюдия». Неважно, это было мое первое настоящее «гостевое место». Стэнли Блэк дирижировал оркестром, а конферансье был некий старшина Джек Ватсон. На самом деле шоу вели люди из ВМФ; они принадлежали к DNE, департаменту военно-морских развлечений, командиром которого был драматург Энтони Кимминс, удостоенный звания капитан-лейтенанта. Также выступал лейтенант Джон Пертви, который подошел ко мне после выступления и сказал: «Нам понравилось то, что вы сделали». Вы когда-нибудь думали о присоединении к DNE? — Не совсем, — сказал я. — Я как раз собираюсь в свою оперативную эскадрилью. Видишь ли, я летчик. «Да, я все об этом знаю, — сказал он, — но могу предложить вам работу в сфере развлечений на флоте». — Хорошо, что это? Я спросил. «Это корабль, который будет путешествовать по Тихому океану во всех зонах боевых действий, принося помощь несчастным парням, которым приходится сражаться. Он называется «Агамемнон» и отправляется из Ванкувера. Это вспомогательный корабль. «Что такое, — спросил я с некоторым недоверием, — вспомогательный корабль?» «Ну, для начала, у него есть возможность производить три тысячи галлонов пива в день. И там проводится развлекательная вечеринка. Идея в том, что всем ребятам раздают вкусности и развлекают их. Ты бы очень хорошо вписался в одну из наших концертных вечеринок. Я обдумал это предложение, и должен сказать, оно было весьма заманчивым. Но это означало бы оставить всех моих друзей в эскадрилье и вообще ликвидировать авиацию флота. Поэтому я отказался. Я часто задаюсь вопросом, что бы произошло, если бы я согласился, потому что, оглядываясь назад, очевидно, что это имело гораздо большее отношение к моей будущей карьере, чем полеты по небу кусков металла и проволоки. Решение остаться летчиком, а не превращаться в развлечение, привело меня к Рональдсуэю на острове Мэн, где мы проводили дополнительные учения и сформировали оперативную эскадрилью. Нас собирались отправить на восток, поскольку война в Европе закончилась. Но пока я еще был в Рональдсуэе, на Японию сбросили бомбу, и я знал, что моя маленькая война окончена, хотя мне даже не пришлось в гневе сделать ни единого выстрела. Признаюсь, я не был слишком разочарован. Наш эскадрон расформировали, мы устроили славную и пьяную прощальную вечеринку, а меня отправили в бессрочный отпуск - и я поехал домой к маме. Но я все еще служил в ВВС флота, и некоторое время спустя мой большой приятель, входивший в Совет по назначениям ВМФ, спросил, не хочу ли я поехать в Шотландию, чтобы стать офицером по переселению, что вряд ли является самой требовательной из всех должностей. . Я согласился и поехал на поезде на север, в Донибристл, в Файфе, чуть выше Эдинбурга, недалеко от Форт-Бридж. Там мне предстояло провести пятнадцать месяцев. Это была 782-я эскадрилья Королевской военно-морской воздушной службы, и моя работа заключалась в том, чтобы следить за тем, чтобы рядовые во время демобилизации имели работу. В противном случае мне пришлось попытаться оказать им помощь в этом направлении, рассказав им обо всех доступных схемах обучения, чтобы подготовить их к грубому шоку от повторного входа в реальный мир. Я тоже, конечно, теперь, когда война закончилась, предпочёл бы сразу воссоединиться с человечеством, но ничего не мог с этим поделать, поэтому пришлось извлекать выгоду из плохой работы, утешаясь комфортной кают-компанией жизнью. и множество хороших друзей, которых я приобрел среди Крапивников и моих коллег-офицеров. На станции было хоровое общество, для которого я писал небольшие отрывки и в хоре которого пел, боюсь, без особых успехов. Среди Ренов в хоре была девушка, их ведущее сопрано, у которой был очень красивый голос, похожий на голос Изобель Бейли. Ее звали Шина Чисхолм, и наша общая музыкальная основа привела к более широкому спектру взаимных интересов. И это было к лучшему, потому что моя работа по своей сути была самоустраняющейся. Итак, поскольку число мужчин, подлежащих демобилизации, сократилось, мне дали и другую работу. Я стал офицером по транспорту, а затем и офицером по выпуску. Таким образом, в начале 1947 года я приехал освободиться от войск Его Величества. Но что я собирался с собой делать, я понятия не имел. Это был случай «врач исцели сам себя». У меня не было никакого образования, о котором можно было бы говорить. Меня ничему не обучали. Стать авиаконструктором было уже поздно. Итак, казалось, что есть только одна возможность, и в отчаянии я обратился к музыке. И тут в дело вмешался мой фея-крестный отец. Еще в Бромли, когда у меня был оркестр и я все еще считал, что мы с Рахманиновым были нога в ногу, я пытался совершенствоваться, учась читать по нотам. Это было очень болезненное дело, потому что в молодости я не делал этого должным образом. Помимо чтения, я пытался писать отрывки из музыки и записывать их на бумагу. Затем, примерно через три месяца после того, как я присоединился к ВВС флота, я отправился на концерт в Портсмуте, который давал пианист по имени Эрик Харрисон. Оно проходило в зале одного из клубов Юнион Джек. После приятного вечера, слушая Шопена и Бетховена, я посидел здесь, пока все не ушли, а затем сел, чтобы насладиться игрой на фортепиано, для чего у меня было не так уж много возможностей. Примерно через полчаса я внезапно осознал, что в комнате есть кто-то еще. Это был Эрик Харрисон. — Во что это ты играл? он спросил. «Одна из вещей, которые я пишу сам». — О, ты сочиняешь, да? «Ну, я стараюсь, — сказал я, — хотя у меня не было особой подготовки». «Я думаю, вам следует что-то с этим сделать», — сказал он. Несколько растерявшись, я спросил его: «Как, например, что?» «Ну, — сказал он, — вам следует послать несколько своих сочинений в Комитет по развитию новой музыки». — Боюсь, я даже не знал, что такое существует. «Это небольшая некоммерческая организация», — сказал он мне. «Они проводят ежемесячные встречи. Мой тезка, Сидни Харрисон, входит в комитет. Он очень хороший человек, и я уверен, что он вам поможет». Я подумал об этом и, наконец, набрался смелости и отправил ему написанную мной композицию в стиле Дебюсси под названием «Фантазия». Но у меня не было реальной надежды услышать в результате очень много, поэтому я был поражен и обрадован, когда получил в ответ очень длинное письмо от Сидни Харрисона. Должно быть, оно заняло три страницы с рисунками. Он поблагодарил меня за то, что я прислал ему статью, а затем приступил к ее подробной критике и анализу. Не то чтобы он разорвал его в клочья. Он просто сказал мне, что в этом плохого, что это очень производное, что я должен попытаться сделать что-то более оригинальное и так далее. В то же время он очень обнадеживал. «Вы должны продолжать делать это больше», — написал он. «Продолжайте писать больше музыки и продолжайте присылать ее мне, и мы будем переписываться». Именно это и произошло. Сидни Харрисон стал моим крестным феей по почте. Я посылал ему музыкальное произведение, и он писал в ответ что-то вроде: «Хорошая идея. Постарайтесь познакомиться со своим морским оркестром и написать для них пьесы». Мы никогда не встречались, но переписка продолжалась на протяжении всей моей карьеры в авиации флота. В своих письмах он всегда писал где-то о том, что «Вам действительно надо постараться серьезно заняться музыкой». Итак, теперь, когда решение почти было принято за меня из-за отсутствия альтернативы, я подумал, что пришло время увидеть Сидни Харрисона во плоти. Я рассказал ему о своих сомнениях, но он был непреклонен. «Нет, — сказал он, — тебе действительно следует изучать музыку как карьеру, потому что у тебя есть талант». — Но послушай, мне двадцать один, — сказал я. «Могу ли я теперь действительно заняться музыкой?» «Конечно, можешь», — сказал Сидни, профессор игры на фортепиано в музыкальной школе Гилдхолл в Лондоне. «Ты можешь пойти и проучиться три года в музыкальном колледже. Я скажу тебе, что делать. Ты приходишь в Ратушу и играешь свои сочинения директору, и если они ему понравятся так же, как и мне, ты в деле. Мое интервью с директором, Эдриком Канделлом, конечно же, организованное Сидни, состоялось в феврале 1947 года. Я проигрывал ему свои отрывки. Он задал мне несколько вопросов. Затем он сказал: «Очень хорошо. Приходите и начните в следующем году». Под этим он имел в виду следующий учебный год, начинающийся в сентябре. Я, конечно, поблагодарил его, но также высказал свое основное беспокойство. «Приходить учиться в Ратушу – это нормально, но как мне за это платить?» «Вы должны знать, будучи офицером по переселению. Как человек, служащий на флоте, вы имеете право на дальнейшее образование. Мы подадим заявку на грант для вас. Итак, получив правительственный грант в ближайшем будущем, я уволился из военно-морского флота и начал искать работу, чтобы заполнить месяцы до сентября. Обнаруженная «работа» была связана с Федерацией черной металлургии на Парк-лейн, и она была настолько скучной, что в ретроспективе мое пребывание у мистера Коффина казалось почти сверкающим. Это было упражнение на терпение: проверка увлекательных подробностей ведомостей заработной платы и отработанных часов. Единственный способ сохранить свой разум живым — стараться делать это как можно эффективнее. Дурак я. Я забыл, что на нас наступил Новый Порядок. Однажды мне удалось проверить семьдесят два таких листа, и в 5.30 я аккуратно сложил их все на своем столе. Тут же ко мне подбежал разгневанный коллега. — Ты пытаешься быть смешным? он спросил. 'Что ты имеешь в виду?' - сказал я, не найдя ничего комичного в этом месте, не говоря уже о себе. — Знаешь ли ты, что в среднем в этом месте около тридцати таких? Вы пытаетесь выставить нас идиотами? Я прикусил язык от очевидного возражения и просто сказал: «Нет. Я просто пытался сохранить свой разум живым, вот и все». Он пристально и недоверчиво посмотрел на меня, а затем произнес ужасную угрозу: «Тебе лучше посмотреть, приятель». Это было мое первое настоящее знакомство со сложностями трудовых отношений, и я должным образом замедлил темп, чтобы соответствовать своим коллегам по работе. В конце концов, однажды я мог бы мечтать о потрясающей задаче одного старшего сотрудника офиса. Налоговая обязанность этого человека заключалась в том, чтобы разделить розовые, белые и синие бланки на стопки. По его мнению, здесь была только одна загвоздка. Он был дальтоником. Поэтому время от времени скука облегчалась, когда несчастный мужчина поднимал вверх розовый листок и кричал: «Синий!», на что мы отвечали: «Нет!»; и снова, пока он не понял это правильно. В этот период высокой интеллектуальной активности я жил дома с родителями, но, к сожалению, между мной и моей матерью дела пошли ужасно плохо. Мы всегда были очень близки, и мое отсутствие на флоте было для нее большим бременем. Моя дружба с Шиной, которая к тому времени уже была бывшей Рен, закончилась. Моя мать сильно возражала против нее, говоря, что она преследовала меня только по неправильным причинам, что было довольно глупо, учитывая то немногое, что я мог предложить кому-либо в то время. Но это превратилось в одержимость моей матерью, которая, очевидно, делала для меня только то, что считала лучшим. Затем однажды я обнаружил, что она вскрывала мои письма. Завязалась яростная ссора, и я с порывом юности немедленно покинул дом. Я поехал погостить к друзьям в Уиннерш в Беркшире. Я все еще был там с ними, когда наконец попрощался с Федерацией железа и стали и ее розовыми комбинезонами и вошел в дверь Музыкальной школы Гилдхолла, вооружившись грантом в размере 160 фунтов стерлингов в год. Но мне пришлось остаться в Уиннерше только на первый срок, потому что 3 января 1948 года, в мой двадцать второй день рождения, мы с Шиной поженились. В каком-то смысле нас к этому подтолкнуло отношение моей матери. Это было почти заявление о неповиновении. Моя мама приехала на свадьбу, но, к сожалению, наши отношения стали далекими. В прошлом году она сильно упала и ударилась головой, и я думаю, что она на самом деле не была самой собой, человеком, с которым я всегда был так близок. Через три недели после нашей свадьбы она умерла в больнице от кровоизлияния в мозг. Я был разбит. Мое горе усугублялось чувством вины. Вряд ли это было благоприятное начало нашего брака. Вдобавок ко всему, у Шины была нервная диспепсия и своего рода агорафобия — она не могла оставаться одна на улице, где бы она ни находилась. Эта проблема усугублялась тем, что ей было трудно найти жилье. Дома было невозможно получить, и единственный способ найти квартиру - это целую вечность ждать в списке муниципального совета. В отчаянии я разместил объявление во всех лондонских газетах вокруг Уиллесдена. Там было написано: «На землю с шишкой. Офицер ВВС флота не может найти себе места для проживания». По счастливой случайности, объявление увидел человек, чей сын служил в ВВС флота, и предложил нам место в Актоне. Это было дешево и ужасно, и это был наш первый дом. Я пробыл в Ратуше три года, изучая композицию и все, что с ней связано – дирижирование и оркестровку, теорию музыки, гармонию, контрапункт и так далее. Я, конечно, взял фортепиано, потому что это был мой естественный инструмент, но надо было учиться и второму, и мне предложили взять в руки духовой инструмент. Поэтому я подумал обо всех и, наконец, остановился на гобое, решение было принято по разным причинам. Во-первых, я не очень любил латунь. Кроме того, существовал чисто экономический вопрос. В конце концов, мои три года скоро истекли, и если я собирался быстро найти работу, мне нужно было что-то, что я мог бы освоить достаточно хорошо, чтобы играть профессионально - и желательно инструмент, на котором не было бы слишком большой конкуренции! Все играли на кларнете, поэтому выбор сводился к выбору между гобоем и фаготом. Гобой был дешевле и менее громоздким в переноске, а хороших исполнителей на гобое было очень мало, поэтому оркестры, скорее всего, довольствовались кем-то вроде меня. Итак, это был гобой: один из самых сложных инструментов для игры, тот, который называют «злой ветер, который никто не дует хорошо». Моя жена и я жили на стипендию женатого студента в размере 300 фунтов стерлингов, и я помогал восполнить этот счет, сочиняя отрывки из музыки и играя по вечерам на гобое. Хотя я бы никогда не стал великим исполнителем. У меня нет для этого темперамента. Я всегда ужасно нервничал и до сих пор нервничаю, когда мне приходится выступать. Я был достаточно напуган, когда мне пришлось идти играть свои фортепианные пьесы перед Эдриком Канделлом; но, по крайней мере, я их знал. Экзамен по гобою был чем-то другим. Это происходило перед двумя самыми выдающимися гобоистами страны, Теренсом МакДонахом и Питером Грэмом. В комнате были только они двое и я, и мне было страшно. От ужаса я так сильно вспотел, что он потек по моим пальцам, и они поскользнулись на клавишах. Никакого контроля над этим не было. Этот гобой стал в моих руках живым угрем. Тем не менее, когда пришло время покидать Ратушу, мне нужно было как-то зарабатывать на жизнь, и я делал это игрой на гобое. У меня были разные задания, но это была внештатная работа, и я действительно был не очень хорош. Раньше я играл с оркестрами в парках, на эстраде перед рядами пожилых дам в шезлонгах, которые, казалось, всегда вставали, когда я начинал играть. Я не мог их винить. Мне была незнакома большая часть музыки, особенно когда речь шла о чем-то вроде увертюры к The Silken. Лестница с ее сложной партией гобоя я изрядно растерялась. За каждое выступление я получал около двух фунтов десяти шиллингов, и можно сказать, что в моей музыкальной жизни это была работа садовником. Слава и богатство как гобоиста не лежали на горизонте, и вскоре стало ясно, что мне придется устроиться еще и на повседневную работу. Поэтому я пошел работать в Музыкальную библиотеку BBC в Ялдинг-хаусе на Грейт-Портленд-стрит. Это требовало определённых музыкальных способностей, сортировки партитур и так далее, но это всё равно была работа клерка — оценка не указана. Затем, в сентябре 1950 года, проработав в корпорации пару месяцев, я получил письмо от человека, который спрашивал меня, не хочу ли я рассмотреть возможность работы на него. Его звали Оскар Пройсс, и на фирменном бланке говорилось, что он был в EMI по адресу на Эбби-Роуд.
Небо и палитры. Большая часть этой книги посвящена музыке, и это кажется хорошим моментом, чтобы сделать паузу и описать мои чувства к музыке в целом, а также к написанию музыки и оркестровке музыки. Если бы мне нужно было выделить одно произведение, которое действительно пробудило во мне интерес к музыке в детстве, то это был бы «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси. Мне было пятнадцать, когда я услышал ее в исполнении Симфонического оркестра BBC под дирижированием Адриана Боулта в моем школьном зале. Слушая это, я не мог поверить, что люди издают такой невероятно красивый звук. Я мог видеть этих людей в своих обезьяньих куртках, соскребающих куски кишок конским волосом и дующих в забавные инструменты с кусочками трости на концах. Но механические вещи, которые я видел, просто не имели отношения к звуку, похожему на сон, который я слышал. Это было настоящее волшебство, и я был полностью очарован. У меня пробудилось любопытство, я раздобыл миниатюрную партитуру произведения, посмотрел на нее и увидел, как она сделана. Я видел, какие биты были на флейтах, а какие на кларнетах, видел, где появляется валторна, особые эффекты сфорцандо на струнах и так далее. Я посмотрел на него, проанализировал его, и сегодня я точно знаю, как работает это музыкальное произведение и почему оно такое умное. И несмотря на то, что я знаю эти вещи технически, я все равно считаю, что это самое волшебное и чудесное музыкальное произведение. Но хотя сегодня я и сам могу писать такую музыку, я не делал этого первым. Дебюсси сделал это. Настоящее чудо музыки и оркестровки состоит в том, что вы действительно можете нарисовать звук, но ни один современный художник, достойный его соли, не пытается подражать Боту Тичелли. Классическая музыка была моей первой любовью, и меня часто спрашивают, чем я занимаюсь в поп-сфере. — Разве это не что-то вроде упадка? это типичный вопрос. Но типичный ответ — «Нет!» по разным причинам. Начнем с того, что «классическая музыка», которую люди называют, когда используют этот термин, — это старая музыка, музыка, которая была написана по крайней мере пятьдесят, а чаще по крайней мере сто лет назад. Конечно, есть современная «классическая музыка». Но для большинства людей это звучит крайне диссонансно, и лично я не знаю никого за пределами профессии, кто бы действительно любил это слушать. Справедливости ради надо сказать, что большинство композиторов, пишущих современную «классическую музыку», находятся в заячьем положении. Они не могут использовать стили, которые уже сложились, потому что тогда их обвиняют в романтичности, чувственности или производности. Так что единственный выход — это писать новые звуки — и помните, что даже двенадцатитоновая гамма сейчас старомодна и сама по себе считается почти романтической. В результате современный «классический» композитор либо пишет вещи, которые терпеть не может большинство слушателей, либо возвращается к написанию симфоний, которые мог бы написать Брамс. И какой в этом смысл? Таким образом, «классическая музыка» становится улицей с односторонним движением; и именно здесь поп-музыка вступила в свои права, потому что она может быть по-настоящему творческой. Более того, многие «классические» композиторы, очевидно, пользовались популярностью. Шуберт, например, писал «поп-музыку» в том смысле, что его песни исполнялись для удовольствия простых людей. Даже Бетховен писал для групп и так далее. В то же время к ним есть определенное почтение просто потому, что они заложили основу нашей основной музыкальной культуры. Но если бы Бах был жив сейчас, я абсолютно уверен, что он бы работал над музыкой так же, как мы работаем сегодня в бизнесе. Прежде всего, он был рабочим и ремесленником и не пользовался в свое время особым почитанием. Он был действительно трудолюбивым; он проделал сотни миль, чтобы попытаться встретиться с Генделем, потому что он так много слышал об этом знаменитом человеке, который был любимцем Лондона и другом короля. (Бедняга Бах никогда с ним не встречался; он скучал по нему всего на день.) Он жил комфортно, но никогда не роскошь, что неудивительно, поскольку от двух своих жен он стал отцом двадцати детей. Не было другого выбора, кроме как усердно работать, руководить хором, играть на органе и постоянно писать музыку для своего покровителя, герцога, где бы он ни находился в то время. Герцог говорил: «Мне нужна кантата на воскресную неделю, потому что у тети жены день рождения». Бах говорил: «Мне понадобится время, чтобы написать это, ваше герцогство». Но это никогда не помогало, потому что ответом неизбежно было бы: «Извини, Иоганн, но мне это нужно на этот день, а ты ведь хочешь поесть на следующей неделе, не так ли?» Итак, Бах приходил домой и думал: «О, черт!» Что я сейчас напишу? Ах, я знаю. В том струнном квартете, который я написал три месяца назад, была хорошая мелодия. Я могу вынуть это и отдать сопрано. Он буквально делал это, зажимая свой материал, переставляя его, а затем говоря себе: «Этого достаточно». Он никогда не узнает, что я написал это раньше. И когда он преподнес герцогу свою кантату, тот, конечно же, не узнал ее и обрадовался. 'Большой. Ты сделал это снова, Иоганн. Потрясающий.' Бах просто продолжал штамповать это, записывая, как современный киносценарист, которому нужно уложиться в крайний срок - и, Бог знает, у Баха их было много. Так что независимо от того, будет ли он сегодня регулярно занимать первое место в хит-параде, я совершенно уверен, что он будет там выступать. Единственное, чем он не стал бы заниматься, — это панк-рок, потому что он был музыкален, а панк-рок — нет — это вообще было отдельное явление. Конечно, сегодня есть композиторы, работающие в «классическом» стиле, и весьма успешно; но обычно по особым причинам. Возьмем, к примеру, Хачатуряна, который недавно умер после того, как всю жизнь писал чрезвычайно популярную «классическую» музыку. Полагаю, я называю его музыку «классической», а не что-то еще, потому что он писал симфонии и потому, что он писал для оркестра, а не для рок-группы. Но одна из главных причин этого заключается в том, что в России развитие электроники в музыке, инициированное Западом, считают буржуазным и декадентским. У них мало рок-групп, а те, что есть, — точные копии наших; Вот почему за железным занавесом на наши рок-записи такой спрос. Так что если в России и будут поощрять музыканта, то не в этом направлении, а по стопам Чайковского, Бородина и т. д. Естественно, Хачатурян, если у него вообще есть талант, будет склонен писать для симфонических и балетных оркестров. Это нормально, потому что у них есть выход для этой музыки. Но на Западе чистая экономика работает против больших оркестров. Обычно никто не может позволить себе, чтобы его музыку играл оркестр. Композиторы, конечно, получают комиссионные, но выходом большого оркестрового стиля почти всегда является музыка для фильмов. Суровый факт заключается в том, что если я, как композитор, говорю: «Я пишу только для симфонического оркестра», ответом обязательно будет: «Не повезло, приятель». Вы никогда не услышите, как ее играют, не так ли? Хавергал Брайан доказал это огромным списком написанных им симфоний, лишь немногие из которых когда-либо были исполнены. Те же ограничения применяются и при записи музыки. Когда я начал работать в EMI, моей работой было записывать классическую музыку. Но именно переход к творческой поп-работе сделал эту работу по-настоящему стоящей и гораздо более интересной. Возможно, меня не будут помнить за это через сто лет, но меня наверняка не будут помнить за то, что я сделал еще одну запись Пятой симфонии Бетховена. Было сделано так много записей такого рода работ, что нет возможности внести что-то новое. Нет ни одного классического исполнителя, который бы создавал музыку так, как это делают многие поп-исполнители. Большая часть поп-музыки зависит от аранжировки и оркестровки — вещей, которым очень трудно научить. Старик, который учил меня в Ратуше, давал мне упражнения. Он говорил: «Теперь на следующей неделе я хочу, чтобы вы взяли вторую часть Хаммерклавирной сонаты Бетховена и написали ее для симфонического оркестра». Я тратил целую вечность на то, чтобы записать одну часть симфонии, но беда была в том, что я никогда не слышал ее исполнения, поэтому я никогда не знал, как будет звучать моя оркестровка. Но у него был опыт, чтобы знать, и он просматривал это и говорил: «О, да, очень хорошо. Мне нравится, что. Мне нравится, как ты там использовал струны. Но я бы не стал ставить там фагот на третью. Из-за этого дно становится слишком толстым. Он говорил мне, что мне следует и чего не следует делать, но, поскольку я никогда этого не слышал, я никогда не мог по-настоящему усвоить его учение. Сегодня я что-то слышу в своей голове, но тогда я не мог. Конечно, я писал и играл на фортепиано свои пьесы, но это совсем другое. Это было что-то вроде музыкального рисования пальцами, которое во что-то превратилось. Но это пальцы пишут за вас, и, конечно, вы слышите, как это происходит. Я могу часами сидеть и болтать на пианино и ничего не играть. Это похоже на автоматическое письмо: пальцы идут своим путем. Это не состав мозга. И это не оркестровка, которая в любом случае отличается от композиции. Оркестровка — это вопрос придания цвета уже существующим линиям, и это просто вопрос опыта. Есть определенные вещи, которые, если вы сделаете их одним способом, дадут определенный звук, но при незначительной модификации будут звучать совершенно по-другому. Никакие лекции не подскажут вам правильный метод, чтобы вы могли применять его автоматически. Конечно, есть определенные основные правила, которым можно следовать, чтобы не упасть прямо в музыкальный люк, но настоящее мастерство, техника первоклассного оркестратора, можно приобрести только с опытом. Это не имеет ничего общего с музыкой в чистом виде. Композиция — это умственное упражнение в музыкальной линии и гармонии, и независимо от того, исполняется ли она на синтезаторе или в составе оркестра из ста человек, это все равно одна и та же музыка. Базовая конструкция не меняется. Оркестровка дает ему жизнь. И как бы вы ни решили это сделать, окраска полностью меняет то, как аудитория воспринимает основную фразу. Это сильно поразило меня, когда появились «Битлз». Было много людей, которые не могли усвоить свои мелодии, потому что не могли слышать музыку из-за шума. Они думали, что «Битлз» — шумная и неприятная группа, точно так же, как люди (и не без оснований) думали о панк-роке. Среднестатистический человек средних лет услышал их и сказал: «Боже, какой ужасный шум», и не прислушался ни к музыке, ни к гармонии, ни к словам. И только когда они стали более популярными, когда такие артисты, как Мантовани, начали записывать оркестрованные версии своих песен с приятным, сладким звучанием, тот же самый человек средних лет начал говорить: «О, это хорошая мелодия». Это Битлз, да? Они пишут хорошую музыку, не так ли? То, что слышал этот человек, было в точности теми же мелодиями, теми же гармониями, теми же основными линиями, сделанными так, чтобы ухо среднего возраста могло их усвоить. Но со временем это стало чем-то большим, чем просто вопрос мелодий и гармоний. Фактически мы превратились в композиционную команду, творческую команду, создающую музыкальные образы, которые никто раньше не делал и не делал тогда. Я не говорю, что результаты были эквивалентны баховской мессе си минор, но, по крайней мере, они были творческими, они не были бесплодными, они не были воспроизведением чего-либо, что делалось раньше. Оркестровка – это одежда. Вы можете взять струнный квартет Бетховена, который для некоторых покажется сухим, как пыль, и одеть его по-другому. Это была бы та же музыка, но теперь этим людям было бы приятно ее слушать. И, конечно, именно это и происходит; примерно каждые пару лет кто-то наряжает классическую вещь в новые наряды, и, о чудо, она попадает на вершину хит-парада. На оркестровых занятиях в Ратуше мне приходилось делать и обратное — то есть брать оркестровую пьесу и переводить ее для фортепиано. Конечно, многие известные композиторы поступали так. Рахманинов превратил «Картинки с выставки» Мусоргского в фортепианную пьесу, и теперь она стала знаменитой частью репертуара. Удивительным человеком был Равель, о котором мы всегда думаем как о пышных оркестровках. Он был очень прекрасным пианистом и — за исключением, я думаю, его Фортепианного концерта — свои сочинения он всегда писал прежде всего как фортепианные. Потом он их организовал. Мне это очень любопытно. Если я пишу оркестровую пьесу, я пишу непосредственно для оркестра. Но Равель, который был одним из величайших оркестраторов всех времен и музыкантом, которым я восхищаюсь больше всего, проделал, как мне кажется, необычную операцию почти со всем, что он написал. Но у каждого человека есть свой лучший способ работы, как, без сомнения, поступали и другие мастера оркестровки, такие как Дебюсси, Чайковский (который впервые начал использовать оркестр в описательной форме), а в этом столетии Стравинский, который действительно знал, как обращаться с оркестром. оркестр. Сегодня оркестровка стала высокоразвитым искусством, особенно в мире кино, где можно найти много прекрасных оркестраторов. Когда я начинал, я, возможно, рисовал небольшую пьесу на фортепиано и думал: на кларнете это могло бы быть неплохо. Но если бы я сейчас пишу музыку к фильму, я бы подошел к определенному разделу и подумал: «Ах, я бы хотел использовать там отвратительный звук тромбона» или «Это та часть, где не нужны никакие струнные». все, просто ударный элемент. Я склонен думать об оркестровке как о написании картины. Художник может сделать блестящий контурный набросок острым углем — Пикассо, например, делал прекраснейшие штриховые рисунки. Но когда дело доходит до оркестровки, вам нужно заполнить все тонкие цвета, придав картине трехмерную форму. Лишь спустя много времени после того, как я покинул Ратушу, я начал получать ясную мысленную картину того, чем обернется эта звуковая картина. Мне приходилось много писать и слышать, как оркестры играют то, что я написал. И даже при этом факт в том, что каждый раз, когда вы пишете партитуру, никто не может быть абсолютно уверен, как она будет звучать. У вас может возникнуть какая-то идея, но вы никогда не знаете наверняка. Таким образом, вы учитесь идти на риск, риск, который возникает из воображения – краеугольного камня хорошей оркестровки. Но обо всем этом я ничего не знал, надев свою старую военно-морскую шинель и поехав на велосипеде на Эбби-Роуд на интервью с Оскаром Пройссом.
Эбби-Роуд Т снова была моей феей-крестным отцом на работе, как мне предстояло узнать после того, как я припарковал свой велосипед возле огромного старого, выкрашенного в белый цвет особняка на Эбби-Роуд, который был превращен в студию EMI. У Оскара Пройсса был большой уютный кабинет в передней части здания с толстым ковром, мягкими креслами, угольным камином и роялем. Он сидел за старым столом с откидной крышкой в углу у окна, лицом к своей секретарше, молодой и привлекательной девушке с явно прохладными манерами - по крайней мере, по отношению ко мне. Мой первый вопрос к нему, естественно, был: «Откуда вы узнали мое имя?» «Я давно искал помощника», — сказал он. — Я рассказал об этом одному из моих коллег, Виктору Карну, и спросил его, знает ли он кого-нибудь подходящего. Он сказал мне, что нет, но поспрашивает. Виктор Карн, как выяснилось, был большим другом Сидни Харрисона, и когда он спросил Сидни, знает ли он кого-нибудь, Сидни ответил: «Есть молодой человек, который только что закончил обучение в Ратуше. Его зовут Джордж Мартин. Итак, Виктор, обаятельный человек, который был большим другом Джильи и выполнял всю оперную работу EMI, рассказал Оскару, а Оскар сказал мне, что я получил эту работу за баснословную сумму в 7 фунтов 4 шиллинга 3 пенни в неделю, что было всего на 1 фунт 8 шиллингов, на 100 больше, чем я получал, будучи студентом-музыкантом. Оскар был главой Parlophone, который был лишь одним из лейблов под эгидой EMI, наряду с HMV, Columbia и Regal Zonophone. Все эти ярлыки существовали до войны, но когда она пришла, некоторые из них были уничтожены, чтобы помочь другим. Парлофон пострадал больше всего. Первоначально это был немецкий лейбл, музыка которого была взята из каталога Lindstrom I, а его торговая марка, которую люди часто принимают за знак фунта, на самом деле является немецкой буквой L. Но это было совпадением с тем фактом, что все лучшие новинки Оскара исполнители, такие как Виктор Сильвестр, Равич и Ландауэр, были взяты из Parlophone и переданы на лейбл Columbia. Пар лофон почти полностью исчез, но теперь, в 1950 году, Оскар пытался восстановить его, хотя он все еще был слабым. Он сделал многое. Он был администратором и при этом делал все записи. Лейбл был группой из одного человека, но охватывал весь мир музыки. Там были классические пластинки, джаз, легкая оркестровая композиция, песни, танцевальная музыка с участием таких исполнителей, как Айвор Мортон и Дэйв Кэй, фортепианная музыка, «Organ, Dance Band и Me» Билли Торберна, а также периодические комедийные записи, такие как классический «Смеющийся полицейский». '. Несмотря на все это, Оскар, безусловно, нуждался в своем помощнике, которого он бросил в самый дальний конец. С моим прошлым меня считали очень «двенадцатидюймовым» — это отсылка к старым шеллаковым пластинкам того времени со скоростью вращения 78 об/мин, на которых популярная музыка записывалась на десятидюймовых дисках, а классика — на двенадцатидюймовых дисках. «Правильно, — сказал Оскар, — первая работа, которую вы можете сделать, — это позаботиться о классической концовке». Полагаю, учитывая то, что я классический музыкант, это казалось достаточно логичным. Мне поручили руководить группой музыкантов под названием «Лондонский ансамбль барокко» под управлением доктора Карла Хааса. Доктор Хаас был прекрасным стариком, доктором музыки. Он сильно пострадал на войне, никогда не чувствовал себя хорошо и, кроме того, всегда был разорен. Но если бы у него были с собой хоть какие-то деньги, он бы пошел покупать мне подарки, например коробки шоколадных конфет с ликером, или приглашал меня на обед. Он брал взаймы у одного человека, чтобы иметь возможность сделать подарок кому-то другому, а затем, вероятно, наоборот. Его щедрость соответствовала той проблеме, которую могло вызвать его имя. Я помню, как однажды он пришел навестить Оскара; Вошел комиссар от двери и сказал: «Господин Пройсс, снаружи стоит человек, который называет себя мистером Арсом». Это правильно? Мистер Арс? Замечательно, что можно сделать с устремлением – или с его отсутствием! Хороший доктор был музыковедом, а не великим дирижером, и он обладал огромными познаниями в музыке барокко в то время, когда она была еще очень немодной. Он убедил Оскара сделать записи музыки в стиле барокко со своей группой, которая на самом деле представляла собой собрание лучших музыкантов Лондона, игравших в основном в студии, хотя я думаю, что они время от времени давали концерты. В основном они играли на деревянных духовых инструментах, и мне, гобоисту средних достижений, было интересно записывать людей такого уровня, как Фредерик Терстон на кларнете, Деннис Брэйн на валторне, Джек Браймер, Теренс МакДона и Джеффри Гилберт. Мы записали такие вещи, как Серенада Дворжака для духовых инструментов, серенады Моцарта, много Баха и марши Бетховена: пьесы, которые сегодня стали очень популярны, но тогда о них практически не слышали. Записи, конечно, были моно, поскольку стерео не существовало, но я все равно очень гордился тем, чего мы достигли. И всякий раз, когда мы использовали небольшие струнные группы, их неизменно возглавлял Жан Пунье, очаровательный здоровяк. Его любимым занятием была рубка дров в загородном доме, и его огромные руки выглядели совершенно неспособными издавать те ловкие и красивые звуки, которые он извлекал из своей скрипки. Помимо удовольствия услышать, как на самом деле следует играть на деревянных духовых инструментах, я также получил на этих занятиях ранний урок записи. При аккуратном размещении инструментов можно было записывать, используя только один микрофон. Естественная акустика студии придавала записям прекрасный звук, и я понял, что для получения естественного звука следует использовать как можно меньше микрофонов - принцип, который, я считаю, действует и сегодня. Однажды, когда ансамбль был в полном разгаре, доктор Хаас отправился на вечеринку. Там он познакомился с Петром Устиновым, который в то время в качестве своего партийного произведения делал впечатления от оперных певцов и так далее. Он обнаружил, что Устинов не только очень увлекался музыкой барокко, но и хорошо разбирался в ней. Поэтому он решил создать Лондонское общество барокко и пригласил Питера стать его президентом. Карл был дирижером, я — секретарем, а это было Лондонское общество барокко: нас было всего трое. Время от времени мы встречались на Эбби-Роуд, приятно обедали, болтали о музыке в целом и решали, что запишет ансамбль. Во всем этом была некая элегантность восемнадцатого века. Так я познакомился с Устиновым, а потом и записал его. Когда я поступил в EMI в 1950 году, я вошел в мир, в котором уже было много противоречий. Впервые долгоиграющие пластинки были изобретены CBS в Америке, и в июне того же года Decca выпустила свою первую пластинку. Но шишки из EMI по глупости отказались признать, что это будет жизнеспособная форма записи. Они сказали, что никому не нужна утомительная работа с очень долгоиграющей пластинкой, что это будет слишком дорого, и что они будут довольны тем, что будут придерживаться своих синглов на 78 об / мин. Я вообще не мог этого понять. Я записывал классические пластинки, и нет ничего более раздражающего, чем необходимость нарезать музыкальные фрагменты на крошечные отрезки длиной в четыре с половиной минуты каждый. Мне нужно было спланировать музыку, которая должна была играть, просмотреть партитуру и решить, где делать паузы. Они были совершенно произвольными, иногда даже в середине движения. Когда в музыке не было естественного перерыва, мне приходилось снова играть последний аккорд первой стороны, чтобы начать вторую сторону, чтобы она не звучала странно. Это было абсурдно, но это нужно было сделать, потому что мы были ограничены абсолютным максимумом в четыре и три четверти минуты. У разных продюсеров были разные паузы для одного и того же музыкального произведения, что также зависело от темпа, в котором дирижер вел оркестр, и было интересно услышать, где другие люди делают эти паузы. Это было хорошее развлечение, но не хороший бизнес. Тем не менее, EMI опубликовала заявление, в котором говорилось, что они будут уведомлять за шесть месяцев о любом отклонении от стандартных записей. Человеком, ответственным за это катастрофическое решение, был сэр Эрнест Фиск. Я говорю «катастрофически», потому что они потеряли два года, и я считаю, что это решение имело фундаментальное значение для их последующей потери репертуара на Columbia Records в Америке. В 1953 году они уступили этот каталог компании Phillips, а в 1957 году они также уступили каталог RCA-Victor компании Decca после пятидесяти семи лет сотрудничества. Сэр Эрнест Фиск был австралийцем и фанатиком велоспорта, который ни от чего не получал столько удовольствия, как от езды на велосипеде по Гайд-парку, и он войдет в историю как председатель, который задержал выход EMI на долгоиграющий рынок звукозаписей, велосипед или нет. велосипед. Чего история, возможно, не помнит, так это того дня, когда меня чуть не уволили из-за того, что я не знал, как он выглядел, поскольку он работал в головном офисе в Хейсе. Я работал с хором в первой студии на Эбби-Роуд, где был большой орган. Органист опаздывал, заставляя ждать меня, инженеров и хор. Я не знал этого конкретного органиста. В двадцать одиннадцать утра, когда сеанс должен был уже идти полным ходом, я поднялся наверх и стал ждать появления неизвестного музыканта. Из двери вошел мужчина с куполообразной головой, одетый в черное пальто и полосатые брюки, с музыкальным футляром в руках. Я в ярости бросился к нему и сказал: «Давно пора. Ты понимаешь, что мы тебя ждали? Вы заставили всех ждать последние двадцать минут. 'О чем ты говоришь?' он спросил. — Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, — сказал я. — Заседание должно было начаться в десять, а вы заставили нас торчать. 'Ты знаешь кто я?' — холодно спросил он. Страшное сомнение начало терзать Мартина. «Да, ты органист. . . не так ли? «Нет, я не органист. Меня зовут Фиск, и я председатель этой компании». Ужасающая тишина. Казалось, что меня ждет большое будущее. Я придумывал униженные оправдания и пытался провалиться сквозь половицы, пытаясь сохранить свою анонимность насколько это возможно. Следующие несколько дней я была в страхе и трепете, потому что действительно была с ним очень груба. К счастью, я больше ничего не слышал, так что, полагаю, мне следует поблагодарить его за это. Управляющий директор группы, напротив, носил прозвище «Японский генерал». Разговоры его были крайне скудны. Я редко разговаривал с ним, поскольку большую часть прямого общения с «Богом» осуществлял Оскар, но если бы я брал трубку, когда он звонил, он просто говорил: «Миттел здесь». Тогда наступит молчание, но молчание, содержащее невысказанное требование говорить. Так один говорил. Затем следовало еще одно долгое молчание. Он просто не говорил ни слова. Я думаю, что в то время, хотя звукозаписывающие компании владели довольно значительной частью доходов EMI, индустрия развлечений все еще рассматривалась советом директоров как слегка подозрительная. У меня сложилось впечатление, что они скорее будут делать велосипеды, чем граммофонные пластинки. И я думаю, они были в ужасе от капитальных затрат, связанных с выпуском пластинок. Но у них не было оправдания тому, что они не знали своей потенциальной ценности, по той простой причине, что все им об этом говорили - Оскар, Леонард Смит и Норман Ньюэлл из поп-группы Колумбии, а также Уолтер Легг, руководивший классической частью Колумбии. Уолтер Легг был примадонной классического мира того времени. Он был женат на Элизабет Шварцкопф и приложил руку к управлению первоначальным филармоническим оркестром, что, очевидно, не принесло ему никакого вреда. Это были лишь двое из многих артистов, записывавшихся под его руководством. Он был чем-то вроде индивидуалиста, и я всегда восхищался им, поскольку он действительно привнес глоток свежего воздуха в ту дурацкую компанию, которой в то время была EMI. Не менее неординарным человеком был и сам Оскар Пройсс. Полагаю, когда я присоединился к нему, ему было около шестидесяти; он начал в возрасте четырнадцати или пятнадцати лет учеником инженера, вскоре после того, как все это начал Эдисон. Он изготавливал диафрагмы и иглы для первых типов фонографов, в том числе для старых цилиндрических машин, потому что в те времена инженер, производивший настоящую запись, изготавливал свои собственные машины. С годами он поднимался по карьерной лестнице, пока, наконец, не стал руководителем телефонной компании Parlo, так что у него был огромный опыт. В течение моего первого месяца в Parlophone мое обучение заключалось в том, чтобы идти по его стопам и пытаться усвоить как можно больше его опыта. Затем, через некоторое время, он начал помогать мне делать что-то самостоятельно. Он мог бы сказать: «Джордж, возможно, завтра я не буду в курсе событий». Вы начнете сеанс, ладно? И я должен был быть там в любой момент и организовать музыкантов и инженеров, чтобы мы успели сделать наш первый дубль до того, как Оскар прилетит и скажет: «Это чертовски плохо; мы что-нибудь с этим сделаем». Мне пришлось заставить себя представиться музыкантам, а затем более или менее сообщить им, что я главный. Я не сомневаюсь, что в те первые дни они считали меня чем-то вроде хулигана, но у меня был авторитет (пусть даже и без большой зарплаты!), и им приходилось меня терпеть. Одной из самых страшных из всех этих сессий была моя первая запись с Сидни Торчем и оркестром Queen's Hall Light Orchestra. Это было в студии номер один на Эбби-Роуд, представляющей собой пещеру площадью около полакра. Даже несмотря на то, что стоял прекрасный старый комптоновский орган (на котором, судя по всему, Фэтс Уоллер делал свои единственные органные записи), пол по-прежнему оставался огромным. Оскар сказал мне, что его не будет до 11 утра, то есть через час после начала сеанса. Я думаю, он сделал это намеренно, чтобы посмотреть, как я справлюсь. Моим главным воспоминанием является долгая, почти бесконечная прогулка по студии и через собравшиеся оркестры из сорока пяти музыкантов к тому месту, где на трибуне стоял Сидни Торч. Должно быть, это было похоже на чувство, которое испытывает игрок с битой, когда он впервые идет к складке у Лорда. — Доброе утро, мистер Факел, — пропищал я пронзительным голосом. «Меня зовут Джордж Мартин, я ассистент Оскара, поэтому я начну сеанс». Я чуть не обмочился от страха при виде очевидной дерзости, но, к счастью, Сидни отнесся к этому весьма любезно. Он доброжелательно улыбнулся и сказал, что все в порядке, и более или менее дал понять, что, если я не буду мешать ему, он не станет мешать мне. После этого мы неплохо поладили, но он мог быть до крайности вспыльчивым. Я видел, как он, когда оркестр не подчинился его воле, швырнул палочку прямо через всю студию (длинный бросок!) и крикнул: «Ради бога, господа, поймите это правильно!» Между тем мне пришлось быстро учиться и учиться на своих ошибках. Один из самых ранних из них произошел в самом начале, в 1950 году, когда меня послали посмотреть фильм, в котором Марио Ланца пел тему «Be My Love». Будучи все еще придерживающимся классических взглядов, я был полностью оскорблен пением этого человека, просто отрыгнул его с грубой силой и чертовым невежеством. Я ненавидел каждую минуту этого и написал резкий отчет, который читался как что-то, вышедшее из-под пера авангардного музыкального критика. Я сказал, что это банальная песня, что в ней есть все клише, имеющиеся в книге, и что она слишком рассчитана. Поэтому мы ничего с этим не сделали. В своей озлобленности я упустил из виду простую возможность того, что эта песня может стать хитом. И, конечно, так оно и было. Еще один урок я получил, когда Оскар начал давать мне занятия по джазу, а также по классической и легкой музыке. Группа, о которой идет речь, принадлежала Хамфри Литтелтону, и когда они исполняли один из своих номеров, я почувствовал, что стал очень критично относиться к басисту. Все, что мы услышали, это глухой стук. Я некоторое время наблюдал за этим музыкантом, а затем сказал ему: «Как ты думаешь, ты мог бы играть ноты более четко?» После молчания, короткого, но потрясенного, он дал ответ, который невозможно распечатать, но суть которого заключалась в том, что, по его мнению, я мало об этом знаю, - и это было правдой. Не испугавшись, я запутался: «Похоже, будто ты играешь в боксерских перчатках». Это тоже было правдой, но Хамф взорвался. Назвав меня именами, о которых я раньше не слышал, он потопал из студии. Очевидно, мне нужна была помощь высочайшего уровня. Я разыскал Оскара в его офисе и рассказал ему, что произошло. Это немедленно спровоцировало второй взрыв, на этот раз со стороны Оскара. «Идите и приведите Хамфа обратно в студию и извинитесь перед всеми, кого это касается», — приказал он. А затем поворот ножа: «Если ты потеряешь нас, хм, ты потеряешь работу». На Эбби-Роуд я обнаружил, что мой недовольный художник бродит взад и вперед. Съев большие порции скромного пирога, я сказал ему, как мне жаль, что я поступил так глупо, и в конце концов убедил его продолжить сеанс; таким образом гарантируя, хотя я тогда и не упомянул об этом, мою дальнейшую работу. Позже мы с Хамфом стали крепкими друзьями и вместе записали много пластинок, например «Bad Penny Blues». Но урок был усвоен. В музыкальном плане я был прав. Дипломатически я ошибался. Тактичность является непременным условием работы продюсера. Приходится проводить тонкую грань между, с одной стороны, подчинением любой прихоти художника, и, с другой, бременем собственной тяжести. Мне пришлось научиться добиваться своего, не давая исполнителю осознать, что происходит. Надо было вести, а не вести. Я думаю, что сейчас, как и тогда, это, пожалуй, самое важное качество, необходимое продюсеру звукозаписи. Другим, менее важным качеством была способность удерживать спиртное. Это было особенно необходимо при работе с шотландскими художниками. Компания Parlophone имела свое место на шотландском рынке. Это был звукозаписывающий лейбл Шотландии, выпускавший восемь барабанов, приспособления и так далее. Оскар записывал Роберта Уилсона, а также были аккордеонные дуэтисты Микки Эйнсворт и Джимми Блю, для записи которых мне пришлось поехать в Шотландию. Они были большими любителями виски. Мы начинали запись в десять утра, и примерно через полтора часа они печально говорили: «Мы мучаемся от ужасной жажды, Джордж». Давай выпьем немного. Итак, мы оставляли все и шли к бару на углу (в Шотландии всегда был бар на углу). Там они заказывали себе порции, всегда двойные, чистого виски. Это никогда не был обычный Johnny Walker или Bell's, а всегда Pride of Methlane или что-то в этом роде, неизвестных брендов с эффектом огненной воды. Мне приходилось есть с ними этих малышей, которых они швыряли мне со стойки бара, как отчаянные в каком-нибудь вестерне. Что же касается их собственных напитков, то, как только стакан доходил до их рук, он тут же опрокидывался и швырялся обратно бармену с настойчивой просьбой: «А, давайте еще». Любопытно то, что их это никогда не касалось. За сеанс они выбрасывали по полбутылки каждый, и единственным результатом было то, что их пальцы летали по клавиатуре еще быстрее. В этом отношении им соответствовала Энни Шанд, пианистка, у которой была небольшая группа в Абердине. Я записал ее в Абердинском театре, и в середине сеанса она внезапно остановилась и начала копаться в своей сумочке, из которой извлекла большую бутылку виски. — Кому-нибудь здесь понравится малышка? — спросила она, открывая лекарство. «Ви», конечно, означало «чрезвычайно большой», как и ее сумочка, которую она держала специально как своего рода личный бар. Для Энни виски был естественной пищей жизни. Вдобавок ко всему этому, по контракту у нас был великий Джимми Шэнд (не имеющий никакого отношения к Энни). Я много работал с ним и увлекся шотландской музыкой – этого нельзя было не сделать. В те времена шотландские танцы были очень популярны, в том числе и в Англии, и Джимми даже меня вовлек в них. Каждый раз, когда я приезжал туда, мы записывали около восьмидесяти четырех наименований, двенадцать или четырнадцать в день, и накапливали их на год, выпуская по несколько штук каждый месяц. Джимми был застенчивым и замкнутым человеком и, что необычно для шотландского музыканта, трезвенником, который говорил с явным файфским акцентом. Он был очень добрым, хотя и довольно подозрительным к людям в целом, что, возможно, было результатом общего недоверия шотландцев к «иностранцам». Но у нас было одно замечательное общее дело. Я приобрел свой первый автомобиль с двигателем в виде старого мотоцикла Ariel VB 600 с боковым расположением клапанов и коляской. Оказалось, что Джимми, обожавший все механическое, особенно фанатично относился к мотоциклам. У него была потрепанная старая машина, за которой он ухаживал с большой любовью, и его большим отдушиной, вдали от непрекращающихся звуков собственной музыки, он летал по сельской местности Файфа со скоростью около девяноста миль в час, надев кепку назад к передний. Еще был наш «латиноамериканский» шотландец Роберто Инглез, настоящее имя которого было Боб Инглес. Он действительно привез свои угли в Ньюкасл, потому что он был крупнейшим продавцом латиноамериканских музыкальных пластинок в Латинской Америке. Он играл на том, что он называл «пианино одним пальцем», с очень низким регистром, и имел очень пышные оркестровки, гораздо более сложные и сентиментальные, чем Эдмундо Рос, используя струны и даже валторну, на которой играл Деннис Брэйн. для него. Его экзотическая «обложка» могла оказаться лучше, чем он думал. Однажды он проводил сессию в студии номер два на Эбби-Роуд, когда его посетили девушки-дилеры и показали, как делаются пластинки. Они стояли с широко раскрытыми ртами и широко раскрытыми глазами в аппаратной, когда в микрофоне раздался сильный гласвежский акцент Боба.
«О, — сказала одна из девушек, — значит, он действительно иностранец, не так ли?» Боб был одним из первых людей, чьи записи я пытался «подключить». Еще во время моего раннего образования Оскар решил, что мне следует заняться продвижением пластинок, а это означало пойти на BBC и попытаться добиться того, чтобы пластинки крутили. Я вряд ли добился ошеломительного успеха. Я отнес одну из пластинок Боба Джеку Джексону и попытался убедить его проиграть ее в его «Субботнем вечернем шоу» с участием кота Тидди. Он был очень добр ко мне, но, к сожалению, его не тронули мои уговоры. «Принесите мне что-нибудь Гая Митчелла, или Митча Миллера, или кого-нибудь в этом роде, и мне будет интересно», — сказал он. Беда в том, что мне нечего было предложить, и я так и сказал. «Послушай, сынок, — сказал он, — я не хочу быть с тобой недобрым. Если вы сможете принести мне пластинку, подходящую для моей программы, я бы с удовольствием ее сыграл. Но Роберто Инглез! Я имею в виду . . .!' Я чувствовал себя очень раздавленным. Одним человеком, который проигрывал мои пластинки в «Выборе домохозяек», был Годфри Уинн, и я с ним очень подружился. Я помню, как однажды пригласил его на обед в какой-то шикарный ресторан на Эбери-стрит и заплатил за него пять фунтов. Я, как обычно, поехал туда на мотоцикле, чтобы сэкономить на такси. После обеда он предложил подвезти меня обратно в студию на своем автомобиле, Бентли или чем-то в этом роде. Что я мог сделать? Выставив пятерку за еду, я вряд ли смог улучшить свои усилия произвести впечатление, признавшись, что приехал на мотоцикле - хотя в наши дни, конечно, это сочли бы довольно шикарным. — Нет проблем, — сказал я. — Я легко поймаю такси за углом. И все равно спасибо, Годфри, но на самом деле проблем нет. Этого было недостаточно. Каким бы добрым человеком он ни был, он настоял на том, чтобы найти такси и проводить меня в него, после чего мне пришлось проделать фарс, постукивая по стеклу позади водителя и говоря: «Студия Сент-Джонс-Вуд, пожалуйста». Пройдя сотню ярдов по дороге, когда Годфри благополучно убрался с дороги, мне пришлось снова яростно стучать по стеклу, крича: «Выпустите меня!» Выпусти меня!' Я не сомневаюсь, что водитель решил, что я сошел с ума. Но я не мог подвести имидж EMI. Это было важно и, возможно, было одной из причин, почему у меня не получалось записывать пластинки. Я был овцой среди волков и даже не осознавал этого. В те дни вокруг тампонного бизнеса был большой скандал, и самые разные люди брали на себя махинации. Но это было не в стиле Оскара. Он был очень честным человеком, и вопрос об ударах слева никогда не поднимался, так что я никогда толком не осознавал, что происходит. Кроме того, по моему мнению, EMI тоже были очень честными. Работать в EMI тогда было примерно так же, как в Rolls-Royce в 1930-е годы. Они ужасно гордились своей вывеской «По предварительной записи», этикеткой HMV в виде собаки и граммофона и так далее. Они платили ужасно, но тогда предполагалось, что ты будешь иметь привилегию быть членом компании, как сегодня на BBC, но даже в большей степени. Что касается формальности, то это было похоже на работу на государственной службе. Все были в костюмах и галстуках; не было того, чтобы слоняться в джинсах, как сегодня. В студии нельзя было даже снять галстук, а инженеры носили белые халаты, что делало их похожими на ассистентов хирурга. Я помню одного, Питера Бауна, который сейчас был на пике своей карьеры, у которого был только один костюм, и это был костюм дембеля, которым его наградила благодарная нация; ему приходилось носить эту ужасную вещь на работу каждый день. Этот кодекс распространялся и на художников. Даже джазовые барабанщики играли в воротниках и галстуках. Это был довольно глупый снобизм, который мог привести к смехотворным результатам. Был случай, когда к главному входу появился Эдди Фишер, огромная звезда. Он должен был поставить рекорд, но был одет в форму американской армии. К сожалению, он не был офицером, поэтому комиссар отправил его к задней двери. Таков был статус «других чинов» в те времена! Но к большим звездам не часто относились подобным образом. Тогда в них было гораздо больше гламура . Они приехали на огромных машинах, а из закусок им был копченый лосось и шампанское. Знали, когда в студию приезжала звезда – в воздухе витало это предчувствие. А когда придет кто-то вроде Джейн Морган, она будет выглядеть просто потрясающе. Она будет безукоризненно накрашена, одета в блестящие меха и украшена бриллиантами. Теперь все это прошло. Большие звезды приходят в старых джинсах и ничем не отличаются от остальных. Часто больших звезд по прибытии развлекала секретарь Оскара Джуди Локхарт-Смит. Одним из тех, кто всегда ждал от него порции виски, был Роберт Уилсон, шотландский тенор. К несчастью, наш ночной сторож тоже пристрастился к капле и, взяв ее, доливал в бутылку воды, чтобы довести уровень. Джуди, сама того не зная, однажды налила Уилсону стакан этой разбавленной жидкости, и он сделал один глоток и выплюнул ее. Он не мог поверить своим вкусовым рецепторам! Джуди, как я уже говорил ранее, долгое время оставалась по отношению ко мне явно прохладной. Я нашел ее привлекательной, но немного высокомерной и явно принадлежащей к высшему классу, и ее первый взгляд на меня был таким, как будто я был чем-то, что принесла собака. Я был потомком. Мы работали вместе в своего рода непростом перемирии, с изрядной долей взаимной апатии, что было маловероятным началом для двух людей, у которых впоследствии был чудесный брак. Но она хорошо ладила с нашими исполнителями и помимо своей обычной работы передавала музыку во время записи для таких людей, как Кентнер, Джеральд Мур, Иегуди Менухин, Равич и Ландауэр, а также пианист Соломон. Не то чтобы это всегда было радостно. У другого нашего исполнителя, Рэя Мартина, была маленькая такса, которая однажды забрела в студию, пока Соломон записывал сонату. К сожалению, зверь не был обучен в студии и оставил под пианино небольшую кучку экскрементов. Соломон нажал ногу на громкую педаль и — хлюпнул, прямо в нее. Он ушел из студии и отказался продолжать запись в тот день. С сэром Томасом Бичемом никогда не возникало подобных неприятностей. Это был прекрасный человек, который жил неподалеку и часто записывался у нас. В таких случаях он ходил на обед в «Маквиртерс», рабочий ресторан по соседству, а не в шикарный ресторан, расположенный дальше по дороге. Там подавали самую простую еду: три шиллинга девять пенсов за обед и еще три пенса, если у вас был косяк.
Однажды он зашел туда и спросил служанку, можно ли ему посмотреть карту вин. — Никакого вина, дорогой, — сказала она. — Я пойду и принесу тебе немного Тизера. Он не возражал, потому что он был именно таким человеком. С Малкольмом Сарджентом все было совсем иначе. Всегда должны были быть сэндвичи с копченым лососем и шампанское. У него был звездный статус, и он любил, чтобы его держали отдельно от «крестьян», тогда как Бичему нравилось быть одним из них. Прозвищем Сарджента, конечно же, было «Флэш Гарри», и я помню, как однажды во время репетиции одного из произведений Бит Ховена кто-то поставил на его трибуну музыку «Я просто без ума от Гарри», пока его не было в зале. студия. Он вернулся, взял его и сказал: «Полагаю, речь идет не об одном очень известном дирижере, находящемся недалеко отсюда, не так ли?» Еще одним дирижером, с которым я работал, был Чарльз Мак Эррас. Я познакомился с ним гораздо раньше, когда мы оба выступали на гобое в оркестре «Дон Жуан» в Сэдлерс-Уэллс. Группе пришлось маршировать по сцене и играть на балконе на виду у публики, но дирижировать из оркестровой ямы. Нам приходилось одеваться в парики, дублеты и так далее, и мы получали за это дополнительные деньги, за что я был очень благодарен. В этом оркестре было два гобоя, Чарльз Маккеррас и я, с той лишь разницей, что он играл очень хорошо. Рядом с ним моя игра была, мягко говоря, посредственной, но он был очень дружелюбен и очень услужлив. В то время он также учился на дирижера в Sadler's Wells, а в свободные часы собирал всю музыку Гилберта и Салливана, большим поклонником которой он был. Затем, когда на музыку Артура Салливана было снято авторское право, он сделал блестящий ход, соединив различные пьесы из разных опер, аранжировав их для оркестра и приняв участие в постановке балета на музыку Салливана. Его название было Ананасовый Полл; это был огромный успех, и он был быстро записан Леном Смитом в Колумбии с использованием оркестра Ковент-Гардена. Оскар был в ярости. «Вы знали Чарльза Маккерраса», — сказал он мне обвиняюще. — Почему ты не получил «Ананасовый опрос»?
Я неубедительно ответил: «Я знал, что он что-то делает, но не задумывался об этом». Оскар попытался исправить ситуацию, записав его с оркестром Сэдлера Уэллса, которым также руководил Чарльз Маккеррас, но это была далеко не такая хорошая запись. Тот факт, что нам вообще разрешили это делать, был типичным для EMI. Хотя мы все находились в одном здании (у Лена Смита фактически был офис напротив нас), разные лейблы все еще оставались соперниками. Каждый месяц эти соперники встречались на так называемой «дополнительной встрече», чтобы обсудить, что они собираются записать в следующем месяце. Встречи были названы так потому, что рассматриваемые издания должны были быть включены в дополнение к каталогу. Оскар ужасно подозрительно относился к Уолтеру Леггу из Колумбийского университета и никогда не раскрывал на этих встречах, что он собирается записать в классической части, пока Уолтер не сказал свою часть. У него была веская причина. Если бы он решил сказать: «Я собираюсь записать Концертную симфонию Диттерсдорфа в следующем месяце», то, скорее всего, Уолтер Легге сказал бы: «Мне очень жаль, старина». Я сделал это в прошлом месяце. Я еще не выпустил его, потому что у меня есть запас этого и еще пары штук». Конечно, это была бы чушь, но Легг подумал бы, что записать пьесу — хорошая идея, вышел бы из комнаты, сделал пару быстрых телефонных звонков, и все было бы улажено. В конце концов Оскар разобрался в этом трюке. В дополнение к этому каждый лейбл будет проводить ежемесячные собрания издателей. Именно так нам удалось услышать большинство новых песен. У них тогда, конечно, не было оборудования для домашней записи, и обычно именно их плаггеры приходили к нам по заказу Джуди с интервалом в пятнадцать минут и пели и отстукивали свои последние песни на рояле в нашем доме. офис в стиле старой Tin Pan Alley. Мы делали заметки и сохраняли копии песен. Это было очень весело, как в старом мюзик-холле, и было в традициях Джорджа Гершвина, который делал то же самое, когда был любителем песен, - в отличие от отполированных демо-записей, которые вы получаете сегодня. Эти встречи проходили утром, а во второй половине дня я проводил тесты записи во второй студии. Каждые полчаса приходил кто-то новый, кого можно было протестировать, а в те дни Джуди знала о поп-музыке и джазе гораздо больше, чем я. Она ездила в Париж и ходила в клуб Blue Note, и вся эта сцена ей очень нравилась. Но большую часть времени ситуация была гораздо менее драматичной, чем сегодня. Это была просто еще одна работа, хотя и достаточно интересная, и люди снаружи мало о ней знали и слышали. Конечно, не было ощущения, как сейчас, что каждый хочет стать продюсером. Даже соперничество между различными лейблами EMI обычно носило довольно джентльменский характер. Мы не стали копаться в файлах друг друга, чтобы выяснить, что происходит. Было больше параллелей с Британским Лейландом, где можно было найти кого-то, кто чувствовал, что он «когда-то был человеком Остина, всегда человеком Остина». Это был «когда-то человек из Колумбии, всегда человек из Колумбии». Оскар охранял своего голубя Парлофона, как наседку, если это не смешение орнитологии. Никто не мог прикоснуться к парлофону Оскара. С другой стороны, были люди, которых перебрасывали с лейбла на лейбл, и, поскольку Parlophone потерял так много артистов во время войны, Оскар по-прежнему записывал для Columbia тех, с кем он работал в прошлом. Роберт Уилсон, например, которого он записал, на самом деле был артистом HMV. Но существовали определенные фиксированные правила. Например, телефон Parlo никогда не записывал музыкальное шоу. Это должно было быть на HMV. Эта дифференциация между этикетками распространилась и на магазины. Сегодня пластинки можно продавать где угодно. Тогда их можно было продавать только в музыкальных магазинах, и у этих магазинов были отдельные дилерские центры: один HMV, один Columbia и так далее. Более того, HMV невероятно гордились своими дилерскими центрами. Они были настолько строгими, что пластинки HMV могли продаваться только дилерами, аккредитованными HMV, и в каждом городе разрешалось продавать только одну пластинку. Они раздавали их так же экономно, как и дилерские центры «Роллс-Ройса», и казалось, что для вас будет большой честью, если вам будет разрешено разместить вывеску с собакой и граммофоном над вашим магазином. Но это было глупо, потому что они намеренно ограничивали собственную торговлю, и в конце концов она сломалась, и они начали продавать пластинки HMV через другие торговые точки. Это привело к огромному скандалу внутри EMI, и один человек, который хотел придерживаться старых методов, почувствовал себя достаточно твердо, чтобы уйти в отставку из-за этого вопроса. Оглядываясь назад, это может показаться глупым, но это подчеркивает силу чувства, которое испытывают люди, стремясь сохранить свою индивидуальность. Одно из моих первых эссе в поисках идентичности появилось в 1952 году, когда я предложил Питеру Устинову, моему коллеге по Лондонскому обществу барокко, вместе записать пластинку. В то время Питер был enfant ужасным среди британских актеров, нашим ответом Орсону Уэллсу. Поскольку он всегда развлекал людей своими забавными отрывками из устной музыки и так далее, мы решили сделать двухсторонний сингл «Mock Mozart» и «Phoney Folk Lore». Первой была мини-опера, написанная Питером за три минуты, и я назвал ее «Голоса и шумы Питера Устинова». Был аккомпанемент клавесина Энтони Хопкинса, а все партии – сопрано, альты и теноры – исполнял сам Питер. По тем временам это было довольно авантюрно. Многодорожечной записи у нас, конечно, не было, поэтому, чтобы создать четырехголосный ансамбль, ему пришлось петь самому себе. Мы сделали это путем перезаписи с одной ленты на другую, микширования по ходу дела. И, конечно же, все это было моно. Технически это означало, что мы потеряли поколения — геометрические величины, на которые возрастает отношение сигнал/шум. Возможно, здесь мне следует объяснить для нетехнических людей, что качество записи на ленту определяется тонкостью молекул на самом покрытии ленты. Отношение сигнал/шум — это количество хорошей записи, которую вы получаете на ленте, по сравнению с фоновым шумом — шипением, грохотом, потрескиванием — который возникает в результате физического прохождения ленты через записывающую головку. Это соотношение ухудшается по мере того, как вы записываете все больше и больше. Таким образом, хотя при первой записи шум, скажем, шипение, может быть вполне терпимым, он становится еще хуже, если вы затем перезапишете его на вторую кассету. И так далее. Фактически, каждый раз, когда вы это делаете, вы ухудшаете соотношение сигнал/шум в степени двойки; вы каждый раз приводите это в порядок. Если сделать две записи, шум станет в четыре раза громче. Если вы сделаете три, это будет в девять раз громче. В случае с пластинкой Устинова мы сделали четыре записи, и поэтому она была в шестнадцать раз громче. Но большинство людей не осознают этого шума, и я не думаю, что те, кто купил пластинку, даже знали, что он настолько высок - хотя сегодняшние маньяки Hi-Fi наверняка знали бы. Другая большая проблема заключалась в том, что, хотя идея петь с самим собой в теории была хороша, когда я привел Питера в студию, я обнаружил, что он не может петь под другую партию, даже под свою собственную. Он был «последователем», как и многие люди. Весь смысл пения партий синхронно с самим собой заключался в том, что он должен был услышать предыдущие голоса, которые он исполнял, а затем спеть другую строчку - но он начинал «следовать» за собой в предыдущих строках. Поэтому нам пришлось делать это понемногу. Я носился взад и вперед из аппаратной в студию, говоря что-то вроде: «Теперь послушай, Питер, спой этот отрывок — te dum te dum te dum — и начинай, когда я подам тебе такой сигнал рукой». Таким образом, он запомнит это; Я давал ему сигнал, и он подходил. Это был сложный, долгий и утомительный процесс, но в конце концов он сработал хорошо. А другая сторона была намного проще: Питер исполнял свои стандартные «вечерние пьесы» из воображаемых народных песен. Но затем дело дошло до ежемесячного собрания в EMI, и когда мы дошли до «Mock Mozart», все взгляды обратились на меня с чем-то вроде ужаса. — Что это, Джордж? 'Питер Устинов!!??' — Что, по-твоему, ты задумал, Джордж? «Это не имеет смысла. Никто никогда раньше не делал подобных записей». Оскар поддержал меня, но все они явно считали меня сумасшедшим, и мне пришлось спорить со всеми, чтобы убедить их, что у пластинки есть шанс. Вопрос о том, будет ли он вообще выпущен, был неясным; но, к счастью, я получил свою награду. Через неделю после выхода мне позвонил менеджер магазина на Оксфорд-стрит и спросил: «Эта пластинка Питера Устинова — ты ее сделал?» «Да», — сказал я, задаваясь вопросом, с каким новым нападением мне придется столкнуться. Вместо этого он сказал: «Можете ли вы помочь мне получить новые припасы?»
Я уже продал двести и больше не могу получить. (Кстати, этим менеджером был Рон Уайт, ныне управляющий директор издательства EMI.) Так что я смог с великой радостью вернуться к своим хозяевам и сказать им: «Вы выпустили недостаточно пластинок». Я думаю, что изначально они нажали всего триста. Но к тому времени, когда они начали настаивать еще больше, спрос все равно упал. Это был еще один хорошо усвоенный урок. Конечно, по сегодняшним меркам триста пластинок звучат жаленько. Но многие пластинки тогда были проданы всего по сто восемьдесят экземпляров; это все еще было экономически жизнеспособное число, поскольку затраты на запись были невысокими, а розничные цены на пластинки действительно были очень высокими. Вдобавок ко всему, мы бы не стали платить кому-то вроде Питера аванс. Фактически он получил гонорар в размере 5%, что было самой высокой суммой, которую мы когда-либо платили в те дни. С другой стороны, затраты на студию были незначительными, поскольку студии и так были. Самыми большими расходами на эту запись была аренда клавесина стоимостью около пятнадцати фунтов и аналогичная плата Энтони Хопкинсу за игру на нем. Таким образом, чтобы выйти на уровень безубыточности, нужно было продать всего две-три сотни пластинок по семь шиллингов каждая. В любом случае запись пластинки с кем-то вроде Питера была исключением, поскольку большинство артистов, особенно певцов, имели эксклюзивные контракты со звукозаписывающими компаниями. У важных художников-муравьев будут контракты сроком примерно на два года с возможностью еще на три года. Что они от этого получили, так это гарантию того, что их пластинки будут выпускаться время от времени. Некоторые получали аванс в виде гонораров, но для этого им нужно было быть очень хорошими, поскольку EMI была столь же жестока со своими артистами, как и со своим постоянным персоналом. Средний гонорар был рекордным для одного пенни, а максимальный гонорар составил 5%. Так что приверженность артистов компании была довольно низкой. Разнообразие этих художников было огромно. На той же неделе я мог бы записывать Боба и Альфа Пирсонов из знаменитого «My Brother and I», Дика Бентли и Джой Николс из «Take It from Here», оркестра Ковент-Гарден, Томми Рейли и его губную гармошку, Еву Босуэлл и Чарльз Уильямс, который дирижировал Световым оркестром Королевского зала, а также Сидни Факелом.
Чарльза, написавшего «Сон Олуэн», я особенно запомнил из-за непредвиденной удачи, которую он когда-то получил. Он написал несколько пьес для фоновой музыки и получал регулярные выплаты за свои композиции от Общества прав исполнителей. Внезапно, без всякой видимой причины, один из этих платежей составил огромную сумму, около 5000 фунтов стерлингов. Оказалось, что одно из его произведений, полурелигиозная мелодия, было подхвачено американским телеканалом и использовано в качестве своей фирменной мелодии. Ему никто не сказал! Или я мог бы записывать Фредди Рэндалла и его джаз-бэнд, потому что, вдали от священных залов классицизма, я теперь обнаружил, что записываю всех джазовых исполнителей Parlophone, несмотря на мои ранние разногласия с Хамфом. Там был Грэм Белл и его джаз-бэнд «Диксиленд», Джо Дэниэлс и его Hotshots, Джек Парнелл и Джонни Данкворт и его «Семерка». Фактически, одна из первых пластинок-хитов, которые я когда-либо записал, была с Джоном. Он назывался «Эксперименты с мышами» и был основан на мелодии «Три слепые мыши». Он и Клео Лейн стали моими очень близкими друзьями, и я сделал с ним много записей. Клео, которая на тот момент не была замужем за ним, была певицей в группе. В Джоне и Клео хорошо то, что они занимаются этим бизнесом так же долго, как и я. Они, как и я, видели все трудности. Они много гастролировали, прошли через все финансовые взлеты и падения и теперь стали великими артистами на мировой арене. Восхитительная ирония заключается в том, что вначале считалось, что у Клео слишком хороший голос, чтобы добиться успеха; вдвойне приятно видеть, как побеждает такой талант. Джон был фанатично трудолюбивым, но это могло иметь забавные последствия. Однажды он готовил что-то вроде джазового концерта для Матиаса Зайбера в Фестивальном зале и работал со своим аранжировщиком Дэйвом Линдупом, который всегда ездил с группой на гастроли. Поскольку им нужно было завершить эту работу, Джон забронировал номер в отеле и специально спросил, могут ли они с Дэйвом разделить комнату, чтобы они могли работать всю ночь. Клерк выглядел слегка сомневающимся, вероятно, питая личные подозрения о жизни музыкантов, но они поднялись наверх и больше об этом не думали.
В тот вечер они приступили к работе, как только вернулись с концерта, и примерно в четыре или пять утра Дэйв повернулся к Джону и сказал: «Я засыпаю». Я больше не могу. Мне просто нужно немного поспать. Поэтому он разделся и упал на одну из двух односпальных кроватей в комнате, а Джон продолжал работать. Около семи утра Джон тоже начал чувствовать себя немного уставшим, но ложиться спать было уже поздно, поэтому он просто собрал вещи, принял душ, оделся и пошел разговеться. И только когда он добрался до тоста и мармелада, он понял, что он не только попросил разделить комнату с Дэйвом, но и, как быстро заметил персонал, спал только на одной кровати. выглядит так, как они ушли тем утром. Джона, по понятным причинам, всегда очень расстраивали расистские высказывания, и он готов был лгать любому, кто их делал. Но он все еще может смеяться над тем днем, когда зашел в местный зеленщик за фруктами. Он увидел красивый виноград и сказал мужчине: «Я возьму пару фунтов этого винограда». Они выглядят очень хорошо. Но когда ящик вынесли, он заметил сбоку слово «Южноафриканец» и подумал про себя: зачем мне это? Поэтому он сказал: «Нет, подожди минутку. Этот виноград родом из Южной Африки, не так ли? Если серьезно, я не думаю, что они мне понравятся. Мужчина холодно посмотрел на него и ответил: «Ну, возможно, вы правы, сэр. Никогда не знаешь, какой придурок с ними расправился, да? Следующей большой записью, которую мы с Джоном сделали после «Experiments with Mice», стал «African Waltz». Ее написал подающий надежды молодой автор песен, на которого никто не обращал особого внимания, по имени Галт МакДермотт. Нам предстояло записать еще несколько его песен, в том числе «I Know a Man» с Рольфом Харрисом. Это, конечно, было задолго до того, как он написал сериал «Волосы», который сделал его миллионером. Он был всего лишь одним из тех, кто всегда околачивался возле офисов издателей на Дэнман-стрит, пытаясь продать свои песни. В те дни это было буквально то, что произошло. Сегодня всё контролируется звукозаписывающими компаниями, и даже издатели принадлежат им. Но тогда издатели были очень сильной силой. Если они брали автора песен или принимали одну из его песен, именно их распространение среди звукозаписывающих компаний и радиолюбителей давало ей шанс стать хитом. Если бы у вас не было издателя, вы могли бы вообще не писать. Поэтому авторы песен буквально торчали у дверей издателей, надеясь на интервью с людьми, которые ими управляют, как в последующие годы они делали со звукозаписывающими компаниями. Я постоянно отгонял людей – полагаю, до сих пор так делаю – потому что, если бы ты слушал абсолютно все, что тебе приносили люди, у тебя не было бы времени делать записи. Сегодня мы обычно делаем так, чтобы множество людей слушали наш материал и рекомендовали его, если он им понравился. А если это что-то особенное, мы слушаем все это сами. Другая причина, по которой издатели были настолько сильны, заключалась в том, что не было такого наплыва авторов-исполнителей, как сегодня. Сценаристы и исполнители были двумя разными типами людей. Исполнители всегда искали хороший материал, а авторы всегда старались, чтобы их песни исполняли великие исполнители. Таким образом, автор песен пытался добиться того, чтобы его принял издатель, имевший необходимое влияние, чтобы обратиться к крупному артисту. В свою очередь, артисты отчаянно нуждались в песнях номер один, и они обвинили бы нас, если бы услышали, что кто-то другой получил песню, которую, по их мнению, они должны были иметь. Например, Норман Ньюэлл, который занимался поп-музыкой Колумбии, записал хит «Moon River» с Дэнни Уильямсом. Мы на Parlophone его вообще не записывали, так что Ева Босуэлл, одна из наших артисток, вполне могла наброситься на меня и потребовать: «Почему я не посмотрела «Moon River»?» Почему я это не записал? И у нее были бы для этого все основания. Фактически, «Лунная река» стала предметом большой оплошности со стороны моего помощника Рона Ричардса. Я отправил его посмотреть фильм, чтобы сообщить, есть ли в нем хорошая музыка. Он высидел все это, а потом прислал мне записку, в которой говорилось, что «была кое-какая музыка, но ничего стоящего»! Но мы все совершаем эти ошибки. По мере того, как я глубже погружался в бизнес, я начал знакомиться с журналистами, диск-жокеями и так далее, и особенно дружил с Ноэлем Уиткомбом из Daily Mirror. Вокруг пошел слух о каких-то детях, играющих в кафе, и мы с Ноэлем решили пойти и посмотреть. Итак, однажды вечером 1957 года мы пошли в кофейню Two Ts в Сохо, чтобы увидеть новую группу Tommy Steele and the Vipers Skiffle Group. Мы сидели с кофе и смотрели, как этот жизнерадостный молодой человек выскакивает на сцену с гитарой, прижатой к тазу, и у меня сразу сложилось впечатление, что он был белокурой картонной имитацией Элвиса Пресли. Ноэль думал то же самое. У Томми было много энергии, но его голос звучал не слишком хорошо - то немногое, что я мог о нем слышать: потому что Vipers были очень громкими, а он - нет. По сегодняшним меркам этот поступок был явно матронским, но по тем временам это было довольно шокирующим, скорее похожим на музыкальную мастурбацию; движения тазом совершенно меня отпугнули, тем более что я все еще думал только голосами. Ноэль согласился: «Там ничего нет», поэтому я пропустил Томми Стила. С другой стороны, мне понравилась группа, и я подумал, что у них отличная смелость, поэтому я подписал с ними контракт на запись и записал с ними много успешных пластинок. Но отказаться от Томми Стила, очевидно, было большой глупостью, особенно после того, как на следующий день пришла Декка, подписала с ним контракт и сделала из него великую звезду. Я помню, как признался сэру Джозефу Локвуду, который к тому времени возглавил EMI, что я отказал Томми Стилу, и он явно был очень расстроен этим открытием. Мне следовало промолчать. Фактически, с тех пор я записал Tommy, и мы стали хорошими друзьями, но это не устраняет первоначальную ошибку. С другой стороны, людей могут обвинить несправедливо. Классический пример — Дик Роу из Decca. Его стали называть «человеком, отвергшим Битлз», и он несет этот крест в свою могилу. Но это совершенно несправедливо, потому что фактически все в Англии отвергли Битлз. Единственная разница с Диком Роу заключалась в том, что у него хватило ума дать им не один, а два записывающих теста. Он действительно подумывал о том, чтобы их взять. Поэтому вместо того, чтобы обвинять его в отказе от них, его следует похвалить за то, что он уделил им такое серьезное внимание, когда другие сразу же отвергли их. Примерно к 1954 году я делал практически все на Parlophone, а Оскар делал очень мало. Локвуд стал председателем правления EMI, и это было словно глоток свежего воздуха в компании. Какое-то время он был ужасно непопулярен, потому что был безжалостным человеком. Но он, конечно, подтянул EMI за шнурки и заставил ее работать. В июле того же года я сдал экзамен по вождению и отправился в мир четырехколесных автомобилей. Речь шла об автомобиле «Остин Тен Кембридж» 1935 года выпуска, который обошелся мне в целых шестьдесят фунтов. Вряд ли оно было безупречным, но в те дни оно было достаточно хорошим, чтобы сдать тест, и я был так воодушевлен его прохождением, что, вернувшись в офис, предложил отвезти Оскара домой на Аркрайт-роуд в Хэмпстеде, а не далеко от студии. Он любезно согласился, и в шесть часов мы отправились в путь. Мы счастливо ехали по Финчли-роуд и приближались к светофору возле универмага Джона Барнса, когда, как хороший водитель, которым я теперь гордился, я переключился с высшей передачи на третью. При этом рычаг переключения передач, прикрепленный к полу и довольно длинный, со сферической ручкой наверху, полностью ускользнул из моей руки. Надеюсь, с некоторым апломбом я протянул Оскару ампутированную конечность моей новой игрушки и сказал: «Не мог бы ты подержать ее на минутку?» Затем я осторожно свернул на бордюр. Я безвозвратно застрял на третьей передаче. Я был унижен. И Оскар поехал домой на такси. Если я был недоволен своим первым автомобильным опытом, то еще меньше меня устраивало то, как идут дела в EMI. Для начала стоял вопрос о заработной плате или ее отсутствии. Через три года моя зарплата выросла до нищенских 13 фунтов 9 шиллингов 3 пенса, а это означало, что после вычетов я получил домой 12 фунтов 6 шиллингов 8 пенсов. EMI всегда платила очень плохо, полагая, что, поскольку они дают вам интересную работу, вы должны субсидировать их. Даже Оскару никогда не платили хорошо, и после пятидесяти лет службы у них, в течение которых он изобрел множество вещей, которые они использовали, его наградой стала Британская энциклопедия. Это все, что ему нужно было показать.
Поэтому неудивительно, что когда в 1954 году Фрэнк Ли из Decca предложил мне работу за 1200 фунтов в год, я с радостью согласился. Моя первая дочь Алексис, известная как «Банди», родилась годом ранее, и моя экономическая жизнь была настолько напряженной, что у меня были настоящие проблемы с денежными потоками. Я пошел к CH Thomas, управляющему директору EMI Records, и сказал: «Мне понравилось здесь работать, большое спасибо, но денег просто недостаточно. Поэтому я принял еще один пост». Я сказал это, совершенно не чувствуя, что закладываю основу для торга. Я не рассматривал это как способ вытянуть из них побольше денег. В те времена у меня было довольно щепетильное моральное отношение к такого рода вещам, что, поразмыслив, может быть, было с моей стороны несколько наивно. Но Фома, обладая житейской мудростью, явно видел иное. — Тебе не кажется, что ты поступаешь довольно несправедливо? он спросил. 'Как?' «В том, что мы не позволяем конкурировать», — сказал он. — Не думаю, что это имеет значение, — сказал я, решив показать свою наивность. «Если бы вы хотели заплатить мне больше денег, вы бы это сделали». «Ну, — сказал он, — я не хочу тебя терять, поэтому я согласен на твое предложение». На самом деле, я думаю, в конце концов он дал мне всего 1100 фунтов, что не совсем соответствовало сумме, но это сопровождалось обещанием, что, когда Оскар уйдет на пенсию, я возьму на себя управление Парлофоном, если Томас добьется своего. Думаю, именно это и перевесило чашу весов в мою пользу, поскольку совершенно не было известно, что произойдет после ухода Оскара, и я сказал Томасу, что не хочу становиться каким-то старым чудаком, простым винтиком, и что Мне хотелось что-то сделать, пока я был еще молод. Поэтому я согласился, и мне пришлось позвонить Фрэнку Ли в «Декку», чтобы сказать ему, что я все-таки не приеду. Неудивительно, что он был весьма расстроен. Но хотя я остался в EMI, были и другие причины, по которым я был ими не слишком доволен. В моем дневнике на тот момент есть пометка о записке, которую я отправлял руководству. Там говорится: «Первый конкретный случай — это случай с нашим прошлогодним бестселлером «Рон Гудвин». Он особенно огорчен эксплуатацией на сегодняшний день трех его последних пластинок, которые мы выпустили - а он сделал только шесть, из которых только одна когда-либо была слышна в эфире. «Этот фактор, в сочетании с неудачным представительством Parlophone в Америке, что для британских артистов гораздо хуже, чем полное отсутствие представительства, заставил Рона отказаться подписать опцион на свой контракт, срок действия которого истекает в конце ноября. Потеря такого художника была бы катастрофой». Я был расстроен вдвойне, потому что Рон стал моим хорошим другом, настолько, что позже он стал шафером на моей свадьбе с Джуди. Он был многообещающим аранжировщиком, которого мне представил Дик Джеймс в 1953 году, через год после того, как я начал записывать Дика. Дик был вокалистом группы, как и Ева Босвелл, и был одним из первых артистов, которых я записал как свой собственный, а не как Оскар. Я записал с ним несколько успешных пластинок, например «Робин Гуд», но, имея семью, он не любил гастролировать по стране, и в конце концов он отказался от пения в мюзик-холлах и стал заниматься песнями, работая на издателя Сидни Брона, отца Элеонора. Однако в 1953 году он все еще пел и предложил использовать молодого Рона Гудвина (ныне одного из наших лучших кинокомпозиторов) в качестве аранжировщика для своих пластинок. Я был так же расстроен тем, что случилось с другим другом, Кеннетом МакКелларом. В похожей дневниковой записи говорится: «Мы лишились услуг блестящего молодого шотландского тенора, которого мы записали два года назад. Я уверен, что при правильной поддержке он мог бы добиться такого же большого успеха, как Роберт Уилсон. Я уверен, что компания очень скоро пожалеет о его уходе. Он предпочитает лейбл Decca, потому что они гораздо более активны в поддержке и рекламе. «В объяснении он жаловался: «На HMV или Columbia дела обстоят не так уж и плохо, но вы никогда не увидите никаких следов Parlophone ни в одном из ведущих музыкальных магазинов». Хотя мы внешне это отрицаем, я твердо верю, что это правда». Эта заметка была сделана в конце 1954 года, но я впервые встретил Кеннета в 1947 году, когда он изучал лесное хозяйство в Абердинском университете, где моя первая жена пела в хоре. Пока я учился в Ратуше, он учился в Королевском музыкальном колледже в Лондоне и часто приезжал к нам в Актон, где, помню, он помогал мне построить камин. После того, как я присоединился к Parlophone, я убедил его приехать и пройти тест на запись в Abbey Road. У него был очень красивый голос, и в период с 1951 по 1955 год я записал с ним восемь песен; ни один из них не имел большого успеха, отчасти из-за общего отсутствия поддержки, а отчасти, я полагаю, из-за связей Оскара с Робертом Уилсоном. Уилсон по-прежнему оставался королем в глазах Оскара, а поскольку Парлофон обладал фактической монополией на шотландскую музыку, он был голосом Шотландии, и с этой позиции Кеннет в конечном итоге должен был вытеснить его. Но Оскар собирался уйти на пенсию, и если я получу его работу, я действительно рассчитывал на Кеннета. Я ему сказал: «Я готовлю для тебя контракт. У нас будут отличные пушки. Я надеюсь использовать тебя как своего рода опору для своих планов. Представьте себе мое разочарование, когда он сказал мне, что получил предложение от Decca, от которого он не мог отказаться, и что он не хочет продолжать работу с Parlophone. Речь даже не шла о том, чтобы поднять наше предложение. Он принял решение. Он получил твердое предложение от очень хорошего и влиятельного лейбла Decca, тогда как Parlophone был маленьким лейблом в жестяной банке, который в любом случае вот-вот потеряет своего руководителя, с перспективой стать руководителем человека, который был немногим больше, чем студент-музыкант. Поэтому я не мог его винить. Затем, весной 1955 года, Оскар наконец вышел на пенсию и ушел со своей энциклопедией, а сэр Джозеф Локвуд подтвердил, что я буду новым главой «Парлофона». Это было весьма авантюрно с его стороны. Я был довольно дерзким молодым человеком без особого опыта в звукозаписывающем бизнесе. Но для меня это был невероятный шанс. Я был боссом целой звукозаписывающей компании. Я был один.
Все, что вам нужно, это уши E ONCE поехали в отпуск в Португалию, где мы арендовали виллу, расположенную прямо в доме и саду. Абсолютно красивый. Он был построен из бетона, с красивыми изогнутыми стенами и всем остальным. Самым драматичным была столовая. Он был около шестнадцати футов в поперечнике и имел форму круга — как барабан, но во многих отношениях. Пол был выложен плиткой, стены выкрашены в белый цвет, потолок был твердым, не было ни занавесок, ни каких-либо мягких покрытий. Есть в этой комнате было настоящей агонией. Каждое слово почтительно ругалось и встречалось посередине, где стоял стол. Малейший стук ножа и вилки тут же уничтожал все согласные говорящих с тобой людей, и ты не мог разобрать ни слова из того, что они говорили. С акустической точки зрения это был худший дизайн, который можно было придумать, но он не был уникальным. Меня постоянно удивляет, как архитекторы до сих пор возводят здания, не задумываясь об акустике, которая, в конце концов, является таким же важным фактором, как и красивые обои, в деле обустройства жилья. И архитекторы не одни. Многие люди в звукозаписывающей индустрии, многие потенциальные продюсеры имеют слабое представление о принципах, управляющих товаром, с которым они имеют дело, а именно, о звуке. Итак, эта глава посвящена обсуждению некоторых из этих основных принципов, большинство из которых основаны на здравом смысле. Что такое звук? Это передача волн давления. Человек воспринимает эти волны через уши — органы, специально приспособленные для их интерпретации. Волны сравнительно низкочастотные по сравнению с электромагнитными волнами радио и света и в отличие от них
Моя крестная фея Сидни Харрисон
Человек, с которого все началось, Оскар Пре
«Скажи «Ах». . . Господи, помилуй меня». Питер Селлерс и Софи Лорен
Бернард Криббинс
Майкл Фландерс и Дональд Суонн
За гранью». Ян Беннетт, Питер Кук, Дадли Мур и Джонатан Миллер не могут путешествовать через пустоту. Звуковые волны требуют среды, будь то воздух, вода, металл или что-то еще. Человеческое ухо может реагировать на звуковые волны в диапазоне от примерно двадцати герц (то есть колебаний в секунду) до примерно 20 000 герц, если слушатель молод и в хорошей физической форме. Собака может достигать частоты 25 000 или 30 000 герц, поэтому собаку можно позвать пронзительным свистком, звук которого человеческое ухо не уловит. Высота ноты в музыке определяется количеством вибраций инструмента в секунду. Например, камертон, вибрирующий 440 раз в секунду, даст вам ноту, эквивалентную средней ля на фортепиано. Более того, все ноты, которые мы используем, находятся в симпатической связи друг с другом, поэтому наша музыка так великолепно математична. Нота «ля» на одну октаву выше средней «ля» будет вибрировать с частотой 880 герц или циклов в секунду, а «ля» ниже — с частотой 220. Конечно, те ноты, которые мы выбираем для музыкального использования, не единственные. Любой цикл можно разбить на дроби, так что теоретически существует бесконечное количество нот. Но для удобства мы используем лишь некоторые из них, и наша обычная шкала делит октаву — то есть диапазон между любой одной нотой и нотой, которая ровно в два раза, или ровно вполовину, ее частоты — на двенадцать равных делений. На фортепиано это семь белых клавиш и пять черных клавиш. Любопытно, что деление октавы на двенадцать равных полутонов не является естественным делением, потому что разница между нотами не равная в реальном выражении, а процентная разница. Другими словами, отношение ля-диез к ля-диез должно быть таким же, как отношение ля-диез к си, си к до и так далее. Сегодняшний масштаб такой, какой он есть, потому что мы сделали его таким. До Баха мы следовали своему сердцу и естественным законам музыки, а музыка была сравнительно простой. Он редко выходил за пределы естественных ключей. Скрипки и клавишные инструменты всегда были настроены правильно. Ограничением было то, что вы не могли выходить за пределы ближайших клавиш, потому что, хотя инструмент звучал правильно в определенной тональности, в тот момент, когда вы переходили от нее к незнакомой тональности, он звучал фальшиво, поскольку взаимосвязь одна нота сменилась другой.
Тогда им пришла в голову идея сделать все полутона равными. Это означало изменение естественного чувства гармонии, но имело то преимущество, что позволяло музыкантам работать во всех тональностях. Именно поэтому Бах написал «Хорошо темперированный клавир» — серию фортепианных произведений, написанных специально для того, чтобы продемонстрировать, как новая система позволяет играть во всех доступных тональностях — двенадцати минорных и двенадцати мажорных. Это также была демонстрация гениальности Баха. Все эти музыкальные знания не просто заумны и неактуальны. Это может быть абсолютно необходимо в современной звукозаписи. Например, чтобы работать, записывающая машина должна двигаться с определенной скоростью. Если эта скорость вообще меняется, высота музыки меняется в соответствии с естественными законами, связывающими частоту с нотой. Проигрыватель с неравномерной скоростью будет менять высоту звука и издавать неприятное «вау», и точно так же лента в магнитофоне должна двигаться очень, очень стабильно. Сегодня профессиональные ленты работают со скоростью пятнадцать или тридцать дюймов в секунду, и существует лишь небольшой процент допуска на этих скоростях, если ноты не должны заметно меняться. Но иногда нам приходится намеренно изменять эту скорость, чтобы изменить высоту записанного нами материала. Для фильма «Сержант Пеппер» я записал один конкретный музыкальный отрывок, который вызвал некоторые проблемы. Когда я послушал, то понял, что тональность немного не подходит певцу, да и музыка звучит немного медленно. Поэтому мне хотелось ускорить процесс. Но у меня есть кое-что по поводу ключей. Я ненавижу музыку, которая «в трещинах» — другими словами, не в какой-то конкретной тональности. Поэтому я сказал: «Хорошо, если мы собираемся ускорить его, то мы ускорим его ровно на полутон». К счастью, у нас в студии было устройство, которое давало нам цифровые показания скорости магнитофона. Мы бежали со скоростью тридцать дюймов в секунду, поэтому оператор ленты спросил меня: «Если вам нужно на полтона выше, на какой скорости мне следует включить машину, чтобы добиться этого?» Достав свой маленький карманный калькулятор, я смог сказать ему увеличить скорость с тридцати дюймов в секунду до 31,78, что составило увеличение на 5,9463%. Это была скорость, с которой нужно было играть на машине, чтобы быть точно, статистически и логически, на полтона выше, даже не слушая ее. С некоторым удивлением он спросил: «Как же вы это поняли?» Ответ был таков: это может сделать каждый, потому что процентное увеличение каждого полутона одинаково. Это похоже на сложные проценты в банке: 6% на 100 фунтов стерлингов дают вам 106 фунтов стерлингов. Но 6% от этой суммы дадут вам нечто большее, чем 112 фунтов стерлингов. Это все часть основных законов гармоник. Например, каждая гамма фортепиано имеет то, что мы называем «доминантой». В гамме C доминирует G. Проще говоря, это аккорд, подготавливающий к финальному тоническому аккорду, или, проще говоря, это нота, спев которую, можно следовать только одной финальной ноте. В любой гамме эта доминанта в полтора раза превышает частоту нижней ноты. Доминантой в гамме ля является ми. Итак, поскольку средняя ля равна 440 герцам, то ми выше нее должно быть 660. И эти музыкальные истины связаны с простыми механическими законами. (Но в более спокойном масштабе эта частота равна 659,25 герц.) Вот что происходит. Возьмите скрипку или гитарную струну и дерните ее, и она произнесет определенную ноту. Теперь проведите пальцем по нему наполовину; вместо того, чтобы вибрировать, как тетива, он будет вибрировать по обе стороны от вашего пальца. Фактически, если вы очень легко прикоснетесь к нему, он будет вибрировать в форме буквы S. Нижний бит будет исчезать, когда верхний бит входит. Нота, которую вы услышите, будет ровно на октаву выше ноты, которую вы услышали первой. время. Если теперь вы поднимете палец на треть высоты струны и дернете ее, вибрация станет змеиной, и вы услышите в три раза больше исходной ноты. Он будет вибрировать в три раза быстрее просто потому, что он в три раза короче. Итак, если исходная нота была, скажем, нотой ля ниже средней ля, что составляет 220 герц, то вторая нота будет 440, то есть средняя ля, а третья будет 660. Вы обнаружите, что эта нота и есть доминанта, в данном случае нота E, о которой я говорил ранее: и это соотношение работает для любой ноты, которую вы выберете. Это вопрос естественных гармоник. Все имеет свою резонансную частоту. Например, если вы возьмете трость, например, которую вы используете в гобое, она будет вибрировать по-своему, уникально. А логические математические законы, применимые к длине струн, применимы и ко всем инструментам. Духовой инструмент — это всего лишь длинная трубка. У вас есть мундштук на одном конце, чтобы он резонировал, и чем длиннее рупор, тем ниже нота. Вот почему органная труба должна иметь длину шестьдесят четыре фута, чтобы воспроизводить нижнюю октаву. Обойти это невозможно. Точно так же именно поэтому у контрафагота так много трубок. Трубки идут вверх, вниз и по всему периметру, и они в два раза длиннее обычного фагота, как и должно быть, чтобы достичь нижнего диапазона. Опять же, валторна, если раскрутить все ее трубки, как спагетти, и растянуть, будет длиной около шестнадцати футов. Очевидно, с этим было бы слишком сложно справиться, поэтому они оборачивают это так, как оно есть. Трубы тоже скручены и действительно довольно длинные. Исключением является труба-пикколо, которую я использовал на записи «Penny Lane» группы «Битлз». Он играет на октаву выше обычной трубы и поэтому имеет половину длины, почти как игрушечная труба – около десяти дюймов в длину. Во всех этих случаях именно длина рупора определяет частоты, которые будет воспроизводить инструмент. Но теперь возникает вопрос, будут ли эти частоты мелодичными или нет. Что такое «быть мелодичным»? Поскольку все звуки являются вибрациями, их можно представить в виде волн, а мелодичными звуками являются те, частоты которых достаточно регулярны. Шумы – это неправильные звуки. Но идеальная волна, абсолютно регулярная, скучна. Вот почему чистый синтезаторный звук — самый скучный в мире. Это чистая нота, всегда созвучная и совершенно гармоничная. Мои чувства по этому поводу, возможно, во многом связаны с тем фактом, что я не большой сторонник быть в гармонии. Я думаю, что люди склонны иногда переусердствовать. Это может звучать как ирландизм, но я думаю, что расстроенность, при условии, что она мелодична, сама по себе является привлекательностью. В отличие от синтезатора, ни один человеческий голос никогда не бывает идеально настроенным. Никто никогда не поет точную ноту, которая имеет полностью правильную частоту, пока она длится. Голос изгибается в обе стороны от правильной частоты, и это называется «вибрато». У некоторых певцов очень широкое вибрато, поэтому, если они пытаются петь среднюю ля, вместо чистых 440 герц они будут колебаться между 430 и 450, иногда достигая 440. Они проходят через это, оседлав это, стреляли из ружей по обе стороны от цели, но редко попадали в нее. Мне крайне неприятно слышать очень широкое вибрато; но хорошее вибрато, которое не слишком сильно отклоняется от правильной частоты, вполне подойдет. Кроме того, как я уже сказал, без вибрато петь невозможно. Люди не являются математически точными существами: мы никогда не сможем провести абсолютно прямую линию. Вибрато не всегда одинаково сбалансировано по обе стороны ноты. Некоторые люди, занимающие ноту, отдают предпочтение тому или иному акценту, немного выше или немного ниже. Это означает, что они всегда поют слегка резко или слегка плоско, и именно эта небольшая вариация определяет, поет ли человек в тон или нет. Я считаю, что все зависит от того, какой у человека голос. Я знал певцов, чьи голоса будут звучать хорошо, какими бы расстроенными они ни были. Точно так же есть люди, в том числе и я, которые звучат ужасно, независимо от того, насколько стройно они поют. Имейте в виду, у меня были артисты, которые очень старались быть в гармонии. Я записываю их, а потом говорю: «Это здорово». Заходите и послушайте. Они приходят в аппаратную и слушают, а потом смотрят на меня с изумлением и говорят: «Но я это не в тон пою». Возможно, это не соответствует тому, чего они ожидают от моей репутации — не знаю; но я говорю им: «Ну, я знаю, что это немного ниже ноты, но звучит хорошо». Если вы захотите спеть еще немного по ноте, для меня это не будет иметь никакого значения; но мне вполне нравится, как оно есть. Затем они изумляются и беспокоятся, что я не слишком придирчив к тому, чтобы быть точно в гармонии. Но я не думаю, что это так важно. Важно то, является ли звук оскорбительным или хорошим. Ведь в джазе есть много нот, синих нот, которые прекрасно звучат просто потому, что расстроены. Так что «быть в гармонии» — это вопрос степени и вкуса. Сегодня при записи можно изменить высоту голоса человека в зависимости от аккомпанемента. Это можно сделать с помощью инструмента под названием Eventide Harmoniser, с помощью которого вы можете увеличивать или уменьшать громкость записи, чтобы певец все время пел на другой высоте. Конечно, если он меняет высоту звука так, что одна нота гармонирует, а другая нет, у вас возникнут проблемы! Но если, например, он поет ровно, вы можете сделать его более стройным — техника, неслыханная на ранних этапах записи. Однако факт остается фактом: быть в гармонии — это не научное достижение, а человеческое. У каждого инструмента есть степень настройки, которая зависит от человеческого уха, даже у гобоя, инструмента, на который настраивается остальная часть оркестра. Это зависит от качества трости, которую игрок вставляет в инструмент, и длины трости в самом инструменте. После этого интонация музыканта будет меняться, но именно его ухо подскажет ему, стройно он играет или нет. Струнные инструменты, конечно, перед концертом необходимо настроить, и это тоже зависит от слуха исполнителей. Хуже всего обстоит дело с арфой, потому что каждую струну приходится настраивать индивидуально, прежде чем на ней можно будет играть, поэтому арфист приходит примерно за час до выступления, чтобы настроиться. Единственный раз, когда оркестр не настраивается на гобой, — это когда есть фортепиано. Затем он обычно настраивается на это, потому что настройка его, очевидно, еще более утомительна, чем настройка арфы. Иногда ко мне приходят струнники и говорят: «Это фортепиано звучит остро». Но им еще придется к этому настроиться. Довольно часто настройщики фортепиано немного обостряют ноты по мере повышения октав, жертвуя абсолютной точностью, чтобы фортепиано звучало «блестяще» на верхних нотах. Все это подчеркивает, что важно, чтобы инструменты, как по отдельности, так и в целом, были гармоничны сами по себе. Например, не имеет значения, настроена ли средняя A, которая в идеале должна быть настроена на 440, на самом деле настроена на 443. Она просто будет немного резче, но это нормально, если все остальное подходит (другими словами, A выше теперь должно быть 886). Заметка сама по себе не является ни хорошей, ни плохой. Значение имеет соотношение между одной нотой и другой, определяющее наше гармоническое чувство. Но затем в игру вступает другой фактор: условия, в которых вы слышите звук. Когда кто-то разговаривает с вами, его голос доносится по воздуху (если только вы не разговариваете под водой!) и улавливается двумя приемниками, вашими ушами, по одному с каждой стороны; тот факт, что вы можете поворачивать голову, чтобы сбалансировать два входа, дает вам ощущение направления, что-то вроде дальномера. Но в нормальных условиях вы не только слышите голос, идущий прямо на вас. Оно также отражается от стен, окон, стола и других твердых предметов, находящихся в комнате. Если бы в комнате не было отражающих поверхностей, голос звучал бы совсем по-другому. Действительно, если бы вы находились на высоте десяти тысяч футов в неподвижном воздухе и говорящий отвернул голову, вы бы вообще не услышали голос. Фактически, для испытаний по измерению звука они построили так называемые безэховые камеры, в которых устранены все отражающие поверхности, а стены и потолок покрыты поглощающим материалом. Единственный звук, который вы можете услышать, — это прямой звук от одного источника к приемнику. Я был в одном, и это очень жутко. Это быстро сведет вас с ума. Нет ничего страшнее, чем полная тишина в комнате. Без отражающих поверхностей голос становится очень направленным, особенно на высоких частотах. То же самое и с Hi-Fi плеером. Внутри большинства громкоговорителей есть второй небольшой динамик, называемый «твитером», который реагирует на высокие частоты. Если вы отойдете от прямого луча этого твитера, от луча света факела, вы, например, не услышите настоящей четкости тарелки. Басовые звуки, напротив, очень рассеяны и исходят со всех сторон. Все это приводит к тому, что звук, который вы слышите, будет значительно различаться в зависимости от качества поверхностей в комнате, в которой вы слушаете. Представьте себе, что звук подобен лучу света. Затем представьте, что вы находитесь в комнате, стены которой увешаны зеркалами, и включаете прожектор. Это бы вас ошеломило. Точно так же от слишком большого количества отражений слепит ухо. Эта «реверберация» — то, что нравится детям, когда они заходят в туннель или под арку моста и кричат. Голос прыгает взад и вперед по твердым поверхностям, пока постепенно не теряет импульс и не замирает. Разница между ним и эхом заключается в том, что эхо — это повторение голоса или звука, тогда как реверберация — это продолжение этого звука посредством отражения и отражения его энергии.
В студии вы получите неудачные результаты, если эти отражения будут продолжать возвращаться одним и тем же образом. Вы получаете неприятное нарастание частот, которое меняет характеристики звука, делая его беспорядочным, рассеянным и очень трудным для записи. Идеальный способ создания отражающих поверхностей для акустических целей при записи — заставить их преломлять звук. Вы заставляете звуковые волны отскакивать в новом направлении, а не возвращаться туда, откуда они пришли. Таким образом, идеальная студия — это та, в которой стены никогда не параллельны. Им также желательно никогда не быть натуралами. При наличии непрерывных выпуклых поверхностей звук достигнет одной части поверхности и вернется определенным образом, но если он достигнет другой части поверхности, он примет совершенно новое направление. Другой способ избежать накопления звука — построить стены, которые его поглощают, а не отражают. У вас могут быть шторы и ковры, которые заглушают часть высоких частот, и поглотители басов, которые поглощают тяжелые низкие частоты. Для некоторых современных тяжелых рок-групп действительно нужны студии, стены которых будут поглощать часть звуковой энергии. Например, в нашей студии номер два в AIR вокруг стен стоит множество коробок разной формы и размера; у каждого есть небольшой свинцовый грузик, установленный в центре передней части коробки. Ящики настроены так, что их передние части вибрируют в соответствии с басовыми частотами, поглощая удары. Это похоже на то, как боксер принимает удар. Они не резонируют и не издают шума сами по себе, но движутся и при этом поглощают звук. Есть и другие способы добиться этого. В Америке есть так называемые «басовые ловушки» — устройства, похожие на дымоходы, заполненные висящим абсорбирующим материалом, который снова настроен на поглощение басовых частот. Проблема в том, что идеальной студии не существует, потому что разные виды звука требуют разного периода реверберации. Голосам, например, нужна определенная естественная реверберация, и при записи вы обычно искусственно добавляете так называемое «эхо», хотя на самом деле это вовсе не эхо. С другой стороны, струнному ансамблю требуется более длительный период реверберации, чем ритм-секции, которой обычно требуется очень короткий период. Мы называем это разницей между «живым» звуком и «мертвым» или «сухим» звуком. Очень большая студия, такая как Number One на Abbey Road, с очень длинным периодом реверберации, около двух с половиной секунд, отлично подходила для записи оркестра. Это придавало струнам красивый звук. Но поместите туда ритм-секцию, и вы не только испортите звучание самой ритм-секции, но и ее звук попадет в микрофоны скрипки, где от него уже никогда не избавиться. Если у барабанов слишком сильная реверберация, они расплывутся повсюду и станут очень мутными. В студии звукозаписи все звуки сливаются, и отличить один от другого невозможно. Чтобы противодействовать этому, люди построили студии, стены которых поглощают весь звук. Но играть в них неудобно. Причина, по которой люди любят петь в ванне и считают, что при этом они становятся вторыми после Джильи, заключается в том, что их голоса приятно отражаются от отражающих поверхностей. Точно так же скрипачу нравится слышать, как он отрывается от стен, а также слышать, что делают другие музыканты. Ему нравится слышать, что он играет в гармонии с остальными, чтобы они были командой. В студии, где поглощаются все звуки, он не сможет слышать ни себя, ни своих друзей, так что с таким же успехом он может играть один среди восьмидесяти других людей, случайно оказавшихся там. Это не оркестр. Так что студия должна быть компромиссом. В AIR у нас обычно твердый пол и довольно отражающий потолок в конце студии. Мы оставляем один конец студии живым, а другой, где я обычно размещаю ритм-секцию, мертвым. Студии, которые мы построили на Монсеррате, на самом деле предназначены не для струнных, а для инструментов, которые используют рок-группы. С другой стороны, хотя они, как правило, электрические, все еще используется много акустических инструментов, таких как гитары, фортепиано и барабаны. Поэтому, поскольку мне нравится умеренно живой звук барабанов, пока он не влияет на другие инструменты, мы все равно оставим живую часть в студии. Такое понимание акустики ни в коем случае не является чем-то редким или предназначено только для продюсера звукозаписи. Если бы больше людей прислушивались к тому, как комнаты воздействуют на звуки, и, следовательно, осознавали бы, что они не слышат их должным образом, я уверен, что это давление заставило бы архитекторов уделять больше внимания акустике при проектировании домов, ресторанов и т. д. кинотеатры и зрительные залы. Фактически, если бы люди в целом были более осведомлены о качестве звука, они могли бы заставить дизайнеров телевизоров больше беспокоиться о их звуке, что, честно говоря, ужасно. В конце концов, я думаю, что даже те люди, которые строили наши старые соборы, извлекли пользу из собственного опыта. Я не думаю, что они что-либо знали о технических деталях, но, построив устройство, которое звучало хорошо, они, вероятно, сказали: «Звучит неплохо». Давайте построим еще один такой же». Соборы, конечно, имеют огромное время реверберации, иногда до четырех или пяти секунд. Это из-за огромного объема воздуха и расстояния между поверхностями, большинство из которых, каменная кладка и стекло, обладают высокой отражающей способностью. Конечно, для эстрадной группы это было бы безнадежно, но для хорового творчества – чудесно. Причина в том, что это способствует поддержанию голоса и его обертонов. Если у вас многоголосный хор, не все будут петь на одной и той же частоте. Если бы они это сделали, это звучало бы как один голос. То же самое и с секцией скрипки. Двадцать скрипок играют неодинаково ни по интонации, ни по вибрато. Каждый слегка меняет свое вибрато, как по высоте, так и по продолжительности, и небольшие частоты бьются друг о друга, создавая приятный плавный звук. Точно так же участники хора все время будут петь несколько разными интонациями, и даже несколько неприятных нот сольются и сгладятся. Это часть удовольствия от хорошего хора. Конечно, в таком месте, как собор, вы действительно получаете увеличение количества звуков из-за длительного периода реверберации, и если вы пели очень быстрое, отрывочное произведение, требующее большой артикуляции, как некоторые из песен Гилберта и Салливана. песни, это звучало бы ужасно. Но для чего-то вроде григорианского пения это изумительно, потому что это постепенное уменьшение звука. Ближайшие к вам стены отражают звук первыми и звучат громче; те, что с дальних поверхностей, слабее. Результатом является постепенное затухание звука.
Обратное происходит, если дома вы переносите свою Hi-Fi в небольшую комнату с большим количеством резонансного материала, без особых штор, ковров или обивки. У вас не будет передышки между исходным звуком и отдачей от стен, и эффект будет очень неприятным. Хорошее эмпирическое правило: чем меньше комната, тем мертвее она должна быть. Так что в следующий раз, когда вы будете слушать пластинку, подумайте об этом. Подумайте о том, как вы слушаете, и о том, что вы слушаете — не только об исходном звуке, но и о том, что он делает в комнате. Причем не только оригинальный звук на самой пластинке, но и то, что было добавлено к нему средствами студийной акустики и искусственной реверберации. Таким образом, вы начнете понимать звук. Настоящий любитель Hi-Fi, конечно, знает толк в акустике. Он будет изучать записи очень глубоко, гораздо больше, чем я, но я же не любитель Hi-Fi. У него в гостиной будут специальные колонки, и все будет подчинено этому. Он поставит стулья в специальные места, позаботится о том, чтобы ковер был нужного размера, глубины и так далее. Я уверен, что его жена переживает ужасные времена. Однажды вечером вы зайдете к нему в комнату, и он включит вам пластинку и скажет: «Послушайте этот треугольник». Разве это не фантастика? Что ж, это будет фантастика, но, насколько я понимаю, жизнь слишком коротка для всего этого. Если он слишком концентрируется на прослушивании треугольника, он может упустить музыкальное произведение в целом. Техническое может взять верх над художественным. С другой стороны, если люди таким образом получают удовольствие, меня это устраивает, и как продюсер я должен их удовлетворять. Над ними легко насмехаться, но в каком-то смысле они наши пионеры. Мы должны думать о них, когда записываем пластинки, и, слава богу, мы это делаем, потому что без них у нас все равно был бы отвратительный звук. Возьмите экземпляр «Граммофона» и посмотрите рецензии на последние записи. Сегодня стандарты в целом стали настолько высокими, что, если критик хочет отличить одну пластинку от другой, ему приходится углубляться в эти технические факторы. Возможно, он прослушал два разных исполнения Второго фортепианного концерта Раха Манинова и напишет что-то вроде: «У этого пианиста прекрасная градация тона». Оркестр прекрасно сбалансирован, и мне нравится чтение дирижера, потому что он очень правильно держит темп. Однако запись мутная». Или он мог бы написать: «Качество звука было превосходным. На этой записи присутствовало живое присутствие. В паузе было слышно, как третий флейтист кашляет». Это приводит к целому вопросу о том, что вы стремитесь создать, когда записываете пластинку. Проблема в том, что в музыке всегда было так много плавающих стандартов. Когда я начинал заниматься этим бизнесом, особенно созданием классических пластинок, целью было воссоздать на пластинке именно тот звук, который можно было бы услышать в хорошей аудитории, слушая живое выступление. Но тогда вы должны спросить, кто слушает? И в каком концертном зале? Стандарта не существует, хотя в первые дни мы приложили огромные усилия в поисках какого бы то ни было стандарта, вплоть до использования всего одного микрофона и расположения игроков вокруг него таким образом, чтобы это было совершенно естественно. Это приводит к другой проблеме. В реальной жизни у нас два уха, а не одно; так что вам действительно следует иметь два микрофона. Попробуйте послушать что-нибудь одним ухом, и вы поймете, какую огромную разницу это имеет. Это эффект наличия только одного микрофона. Когда люди впервые приходят в студию, они склонны опускать голову и слушать то, что слушает микрофон. Они забывают, что у них два уха, а у микрофона только одно. Поэтому, когда я хочу послушать, что делает микрофон, я отключаю одно ухо, и это дает мне гораздо более точную информацию. С первых дней отношение изменилось. Сейчас мы склонны говорить: «Стандарт в концертном зале — это одно, но нет окончательного арбитра в том, что делает звук хорошим». Мы должны принять собственное решение по этому поводу». В поп-музыке, конечно, нет предела, и это самое замечательное. У нас есть бесконечная палитра музыкальных красок. Нам не нужно говорить: «Это должно звучать как партия скрипок в студии» или «Мы должны четко слышать пятую валторну сзади». Мы имеем дело с абстрактными звуками. Мы можем поступать именно так, как хотим, стараясь добиться максимально приятного эффекта. Многие звуки на таких пластинках, как Sergeant Pepper, созданы настоящими инструментами, но их использование не обязательно соответствует тому, что вы слышите в концертном зале. Вы можете создавать свои собственные звуки и делать это более эффективно, чем если бы вы выступали вживую. Когда я говорю это, один из аргументов, который мне часто выдвигают, звучит так: «Ты не очень честен». Я говорю, черт с этим. У нас здесь другой вид искусства, и я не чувствую себя скованным. Это все равно, что критиковать режиссера за то, что он снял фильм по книге, которая, по мнению критиков, недостаточно соответствует оригиналу. Но ведь он не пишет книгу, он снимает фильм. Точно так же запись концертного выступления в Альберт-холле может быть такой же, как запись живого спектакля, но запись в студии гораздо больше похожа на создание фильма. В конце концов, если Роджер Мур в фильме о Джеймсе Бонде прыгнет в стеклянное окно, вы не поверите, что это действительно стеклянное окно. Вы видите его непосредственно перед тем, как он это сделает, и слышите звон стекла, и вы видите его сразу же после этого, и искусная резка создает у вас иллюзию, что это сделал он. Но в глубине души вы знаете, что это не так. Точно так же не следует ожидать, что люди обязательно будут делать то, что они делают на пластинках. Это не значит, что я думаю, что мы можем заменить гениальность великого исполнителя. Человеческие качества – это то, к чему мы всегда должны стремиться, и мне было бы очень грустно, если бы мы когда-нибудь их потеряли. Но технически мы можем помочь. Когда я еще учился в EMI, был известный случай, когда записывалась знаменитая сопрано Кирстен Флагстад. Когда настал день, когда ей пришлось спеть свою лучшую до, она была ниже номинала и просто не смогла это сделать. Поэтому они пригласили Элизабет Шварцкопф, чтобы озвучить ее в высоком до, поскольку у них было мало времени, а в остальном выступление было великолепным. Шварцкопфу заплатили должным образом и попросили хранить молчание об инциденте. К сожалению, эта история просочилась и была опубликована в газетах, вызвав небольшой скандал и ярость в EMI. Но я никогда не понимал всей этой суеты. У каждого есть свои выходные, и если вы собираетесь сделать отличную пластинку, почему бы не дублировать ее одной нотой? В конце концов, это не было чем-то, что главный певец вообще не мог сделать. В любой другой день она могла бы сделать это прекрасно. У людей есть представления о том, что этично при записи, а что нет, и которые они на самом деле не продумывают должным образом. Например, был даже один раз, когда я попросил Пола Маккартни дублировать примечание к пластинке, и он сказал, что не хочет этого делать, потому что считает это жульничеством. Я сказал ему: «Мы все все время обманывали». И он сделал это. Опять же, некоторые люди рассчитывают пойти на живое выступление и услышать то, что они услышали в записи. Почему они должны это делать? Это две разные вещи. По этой причине «Битлз» никогда не давали живых выступлений таких песен, как «Strawberry Fields». Но сегодня есть и другие способы сделать это. Например, в «Живи и дай умереть» была сложная партитура, которую я написал для большого оркестра. Когда я увидел, как Пол Маккартни и Wings исполняют ее в Лос-Анджелесе в 1977 году, я был чрезвычайно впечатлен тем, как он ее изложил. В дополнение к музыке он устроил фантастическое лазерное шоу, взрывы и так далее, и все представление держало в восторге. Это не было похоже на пластинку, но вы так думали, потому что вы не только слышали, но и видели все выступление. Никакого обмана в этом не было. С другой стороны, есть некоторые вещи, которые я бы назвал мошенничеством. Был большой шум вокруг группы, у которой был альбом номер один, хотя никто из них на нем не играл. Это был полностью изготовленный продукт, и это, несомненно, было мошенничеством. Вполне возможно собрать в студию множество сессионных музыкантов, записать пластинку и назвать их Фредом Нерксом и его Oojahs. Затем, если пластинка будет иметь успех, все захотят увидеть Фреда Н., только Фреда Н. нет. максимально точно воспроизвести то, что вы делали в студии. Но это коммерческий обман, и я его совершенно не поддерживаю. Я считаю, что для создания пластинки необходима определенная хитрость, но под этим я подразумеваю помощь, а не обман. Ведь никто не пытается скрыть тот факт, что многие рок-группы регулярно имеют в своем составе струнные синтезаторы.
Однако мне самому этот звук никогда не нравился, потому что я нахожу его искусственным. Еще один аргумент против синтезаторов заключается в том, что, хотя все виды компьютеризированных звуков хороши для одной ноты, они бесполезны, когда вам нужен банк звуков. Вам нужны индивидуальные усилия, подавление вибрато одного человека другим и динамика, которую может дать только человеческое исполнение. Создавать это искусственно – долгий и утомительный процесс – и в любом случае, зачем отказывать в работе людям, которые способны сделать ее по-настоящему? Вы могли бы выступать в пользу синтезаторов на основании абсолютной точности, но, как я уже сказал, я не сторонник точности. Если бы это было главной и конечной целью, мы могли бы с таким же успехом сдаться и позволить компьютерам делать всю работу. Мне нравится немного неточности, немного человечности. Даже на классической пластинке я предпочитаю иметь небольшое размытие одной ноты, при условии, что это отличное исполнение, чем идеальное, но бездушное исполнение. Я всегда предпочитал бы великого классического пианиста с некоторыми недостатками Уолтеру Карлосу, прекрасно играющему на своем синтезаторе. Совершенная красота, будь то женщина или что-то еще, имеет тенденцию быть скучной, и я думаю, что это справедливо и для музыки. Еще одна вещь, которую мы можем сделать, чтобы помочь артисту в записи, — это поиграть с частотами. В пределах слышимого диапазона частот разные частоты оказывают разное воздействие. Например, если вы находитесь в отпуске, возможно, вы слышите из своей спальни грохот дискотеки в подвале, и вы просто не можете избежать грохота бас-гитары и большого барабана. Поскольку это самые рассеянные частоты, они проходят через что угодно, тогда как высокие частоты гораздо более направлены. Теперь каждый, у кого есть проигрыватель, знает, как усилить низкие, высокие или средние частоты, и, конечно, мы также можем сделать это во время записи. Вопрос в том, какой будет эффект. Одним из примеров может быть повышение частоты примерно до 3000 Гц. Это подчеркнуло бы все шипящие звуки и четкость речи человеческого голоса. Точно так же, если бы вы отключили все, что выше 3000 герц, вы бы потеряли всю четкость речи. Вот что происходит, когда люди начинают глохнуть. Они не теряют громкость внезапно во всем диапазоне; они начинают с потери верхних частот. Это начинает происходить с большинством людей сравнительно рано в жизни. Не всем известно, что женщины имеют более широкий частотный диапазон, чем мужчины, хотя и не так хороши, как собаки! Восемнадцатилетняя девушка, вероятно, услышит от 20 до 20 000 герц, тогда как пятидесятилетний мужчина, в зависимости от его физического состояния, вероятно, услышит от 100 до 8 000 и ничего по обе стороны от этого диапазона. Любой может проверить свой диапазон, прослушав пластинку с тестовыми тонами. Я, например, 15 000 герц уже не слышу, хотя когда-то слышал. Вы можете подумать, что это может нанести большой ущерб кому-то, например, продюсеру. Но мозг делает скидку: смысл ценностей остается прежним. На самом деле любопытно то, что восприятие различий в громкости обостряется. Однако я должен закончить с предупреждением. С возрастом каждый страдает прогрессирующей потерей слуха, но повреждение ушей может значительно ускорить этот процесс. А с учетом того, что сегодняшние рок-группы издают звуки на очень высоком уровне на дискотеках и т. д., понести такой ущерб слишком легко. Если вы слушаете музыку на таком высоком уровне, пройдет ограниченное количество времени, прежде чем наступит ухудшение, и это ухудшение непоправимо, потому что поражаются нервные окончания ушей. Это во многом зависит от того, как долго вы слушаете громкие звуки. Например, вы можете в течение секунды слушать громкость 130 децибел, что является болевым порогом, и это не причинит вам вреда. Послушайте это в течение десяти секунд, и это произойдет. Вы можете слушать 120 децибел, что все равно очень шумно, в течение получаса без ущерба для себя, но час будет слишком долго. И так далее по шкале громкости. Опасность при записи, а также для людей, играющих или слушающих рок-группы, заключается в том, что ухо действует как собственный ограничитель. После периода сильного шума все постепенно становится для вас нормальным, и слишком легко увеличить громкость, чтобы произвести на себя еще большее впечатление. Затем, через некоторое время на этом уровне, вы снова повышаете его, не осознавая, какой вред вы наносите своим ушам. Были случаи, когда, если бы я внезапно пришёл в студию в пять утра, вместо того, чтобы работать там всю ночь, я был бы поражён уровнем громкости, который я вкладывал в уши. Но, конечно, их постепенно увеличивали с девяти часов предыдущей ночи. Это то, чего продюсеру следует остерегаться. И не обманывайтесь, думая, что вам это сошло с рук, потому что худшим фактором повреждения ушей является то, что оно не происходит немедленно. Если вы повредите свои уши, слишком долго слушая музыку на очень высоком уровне, вы просто почувствуете себя не в духе в течение дня или двух. Вы можете услышать некоторый звон или почувствовать себя немного глухим, но вскоре вы снова почувствуете себя хорошо. Чего вы не осознаете, так это того, что через четыре или пять лет ваш слух начнет ухудшаться, и это можно проследить и объяснить непосредственно предыдущим травматическим шоком. Нервные окончания увядают, и хотя для их окончательного распада требуется много времени, пути назад уже нет. Это касается, конечно, всех, не только музыкантов, инженеров и продюсеров. Я знаю, что люди все больше осознают загрязнение окружающей среды шумом, но они думают о таких вещах, как «Конкорд», летающий над головой, а это абсурд. Это никак не повлияет на ваши уши. Вы подвергаетесь гораздо большему риску, если проигрыватель включен слишком громко дома или на дискотеке. Чтобы получить максимальное удовольствие от звука, все, что вам нужно, — это уши. Следите за тем, чтобы они оставались в хорошей форме.
Comic Cuts КОГДА Оскар ушел на пенсию, им удалось прийти на прощальный ужин вместе с его энциклопедией. Еще не было ясно, кто станет его преемником. Думаю, общее мнение обо мне было такое: этот молодой выскочка еще недостаточно опытен. Им придется привлечь опытного человека, который возьмет на себя управление Парлофоном. Кроме того, в течение первых пяти лет я был своего рода индивидуалистом – отношение, которое поощрял сам Оскар, поскольку он сам был настоящим бунтовщиком, несмотря на свой возраст. Поэтому для меня было более чем приятным сюрпризом, когда Ч. Х. Томас подошел ко мне на ужине и сказал, что я продолжу работу Оскара - как я, по сути, и делал в течение некоторого времени без официального признания. Позже сэр Джозеф Локвуд официально дал мне эту работу и сказал, что я самый молодой человек, которого назначили руководить лейблом. Это был вызов, и я хотел что-то сделать с лейблом; но природа первой проблемы была совершенно неожиданной. Однажды Джуди пришла ко мне и подала в отставку. «Теперь, когда вы создаете свою собственную организацию и свой отдел, — сказала она, — вам захочется все подчистить». Много позже она рассказала мне, что ей было жаль, что я тащился за ней, не имея никакого выбора в этом вопросе. С моей точки зрения, было бы катастрофой избавиться от одного человека, который знал о бизнесе Parlo Phone больше, чем я, и я так и сказал. Я попросил ее подумать об этом, и она решила остаться, что стало огромным облегчением. Помимо Джуди и меня, в штат входили Ширли Спенс, которая присоединилась к нам тремя годами ранее в качестве помощницы Джуди, и зять Оскара Алан Таллох, который выполнял функции плаггера, рекламного агента и общего помощника. Позже, когда мы с Джуди поженились и она ушла на пенсию, чтобы воспитывать людей, Ширли стала моей секретаршей и с тех пор остается ею. Тогда я еще был женат на Шине и имел двоих детей. Первым был Банди, который сейчас является опытным лингвистом и работает стенографисткой в суде Олд-Бейли. Еще был Грегори по прозвищу Погги, актер, помоги ему Бог! Именно их приезд, как и все остальное, заставил нас покинуть Эктон и переехать в Хэтфилд, единственное место, где я мог позволить себе дом. Это стоило 2400 фунтов, и, получив 90% ипотечного кредита, я смог накопить оставшиеся 250 фунтов, чтобы достичь высокого ранга домохозяина. Я был не единственным, кто переехал. Офис на Эбби-роуд был нужен для других целей, и мы все переехали на Грейт-Касл-стрит, в центре района, где торговали тряпьем. По иронии судьбы, студии AIR теперь смотрят свысока на те офисы, половину верхнего этажа которых отвела Parlophone. Но тот факт, что все лейблы совершили физический шаг вместе, не помешал продолжающемуся соперничеству между ними, соперничеству, в котором Parlophone терпел большие неудобства. Уолли Ридли из HMV и Норман Ньюэлл из Columbia оба были связаны с американскими лейблами. Норман был не только автором текстов, но и записывающим человеком. Он всегда хотел быть Стивеном Сондхеймом. Конечно, он писал достаточно хорошие тексты, но его главная сила заключалась в его способности обращаться с крупными артистами шоу-бизнеса. Он специализировался на создании оригинальных записей актеров, особенно английских шоу, для Колумбии. Columbia была английской компанией, но была связана с американской Columbia Records и обменивалась с ними каталогами, так что они смогли выпустить здесь такие громкие имена, как Митч Миллер, Гай Митчелл, Фрэнки Лейн, Дорис Дэй и Джонни Рэй. Затем, примерно в 1952 году, топор упал. Американская Columbia разорвала контракт с EMI, прекратив поставки этих великих артистов. Контракт был отдан компании Phillips of Holland, у которой в то время не было лейбла в Англии. Но они знали, чего хотят, как и Американская Колумбия, которая воспользовалась услугами Нормана и его коллеги Леонарда Смита; именно они ушли, чтобы основать новый лейбл. Это был ошеломляющий удар. EMI были недовольны. Пытаясь ответить на этот вызов, EMI наняла Норри Парамора, руководителя оркестра, и Рэя Мартина в качестве совместных руководителей производства в Колумбии, Англия. Рэй был английским артистом, которого Норман Ньюэлл выдвинул на передний план и который имел большой успех с песней «Blue Tango». К сожалению, ни у него, ни у Норри не было прямого опыта производства пластинок. Вскоре после этого ситуация ухудшилась, когда HMV аналогичным образом потеряла контракт с лейблом RCA-Victor; это означало, что, помимо множества других прекрасных талантов, они потеряли короля - Элвиса. По крайней мере, на этот раз никто из ключевых людей EMI не ушел, но потеря доходов была огромной. Когда вы покупаете звукозаписывающую компанию, вы покупаете людей. Вы покупаете контракты артистов и таланты, чтобы с ними справиться, и просто надеетесь, что они все останутся с вами. Но, конечно, вы никогда не можете быть уверены, что они это сделают. Поэтому сэр Джозеф Локвуд проявил большую смелость в отношении своего ответа. Он отправился искать американский лейбл, чтобы купить его. И он купил. За девять миллионов долларов он приобрел дерзкий молодой лейбл Capitol Records из Лос-Анджелеса, основанный Гленом Уолличсом и автором текстов Джонни Мерсером. У Джонни Мерсера было несколько друзей, которые записывались для него – можно сказать, довольно известные имена: Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Пегги Ли, Стэн Кентон. В то время мы думали, что девять миллионов долларов — это высокая цена. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было очень дешево. Наблюдая со стороны за «Парлофоном», я должен признаться, что испытал определенное веселье, смешанное с сочувствием, от этого смятения среди моих соперников. Но в то же время мне нужно было что-то сделать со своим собственным лейблом. Я не был уверен, что именно это будет, за исключением того, что я, очевидно, собирался попытаться это улучшить. Для начала мне пришлось сохранить верность артистам, которые у нас уже были — Джимми Шэнду, который был нашим самым продаваемым артистом, Еве Босуэлл, Рону Гудвину, Джеку Парнеллу, Джонни Данкуорту, Хамфри Литтелтону. В то же время я уже начал пытаться проникнуть «между трещинами» других лейблов, делая вещи, которые никто другой не пробовал или не осмелился попробовать, например, оригинальную пластинку Питера Устинова. Мой шанс представился, когда я пошел в небольшой театр в Ноттинг-Хилл-Гейт, где шло новое шоу двух актеров под названием «В мгновение ока» с Майклом Фландерсом и Дональдом Суонном. Мне понравилось шоу, и мне удалось убедить их предоставить мне права на его запись. В те дни способ сделать альбом с оригинальным составом заключался в том, чтобы взять актеров в выходной день, обычно в воскресенье, привезти их в студию Abbey Road и правильно записать. Но с Фландерсом и Сваном я решил, что это будет глупо, потому что потеряешь всю зрительскую атмосферу. Итак, в начале 1956 года, когда они переехали в театр «Фортуна», сразу за Друри-лейн, я записывал их там пять вечеров подряд, используя нашу мобильную локацию. Затем я смог отредактировать лучшие выступления, чтобы они протекали так, как будто это одно целое шоу. Эта пластинка до сих пор продается и стала началом очень долгой дружбы с ними парой. Мне предстояло записать все их последующие пластинки, в том числе «At the Drop of Another Hat», «The Bestiary of Flanders and Swann» и «More out of a Hat». После «Фландерса и Свана» мой следующий опыт записи театрального юмора произошел, когда друзья по бизнесу рассказали мне, что на Эдинбургском фестивале было выступление, которое устраивали студенты университета, но оно было очень забавным. Поэтому я взял себя в руки, чтобы увидеть это. Он назывался «За гранью». Я немедленно решил записать это и поехал на мобильном фургоне, чтобы встретить группу, когда они вернутся в Кембридж. Пластинка имела огромный успех, и мы очень хорошо узнали ее исполнителей. Джонатан Миллер, например, часто приходил в офис, чтобы поговорить об идеях, и я помню, как он рассказал мне там самую глупую историю. Похоже, его отец, выросший в очень «U»-семье, не одобрял, когда он ходил в джинсах или чем-то еще, что было эквивалентно этому в те дни. Он настоял на том, чтобы юный Джонатан был одет в самый волосатый и вызывающий зуд твид, когда-либо созданный на острове Харрис. Итак, Джонатана отвезли к портному отца на Сэвил-Роу.
Этот достойный измерил его, а затем спросил: «Какой стороной вы одеваетесь, сэр?» Джонатан в недоумении обдумал этот, казалось бы, абсурдный вопрос, а затем ответил: «Ну, я обычно встаю утром с левой стороны кровати, если начинаю об этом думать». В конце концов портному удалось передать деликатность своего вопроса, и Джонатан сразу же испытал ужасное чувство неадекватности, с ужасом осознав не только то, что он никогда не задумывался об этом, но и то, что это просто не имеет никакого значения. Дадли Мур же был ловеласом группы, мило привлекательным, образом Тайрона Пауэра – Каддли Дадли. Да, у него было преимущество в том, что он играл на пианино, и он был окончательным доказательством пословицы: «Если ты умеешь играть на пианино, ты получишь птиц». Пока они были в театре «Фортуна», его всегда ждала стайка очень милых девушек. Фактически, однажды вечером, после разговора с Джонатаном, Аланом Беннеттом и Питером Куком, я зашел к Дадли, и он как раз прощался с самой великолепной блондинкой. Когда эта дама попрощалась, мы сели и не проговорили и трех минут, как в дверь постучали, и комиссар впустил другую женщину. Обращаясь к Дадли, он пробормотал: — Это было как раз вовремя, не так ли? И это было перед выступлением! Джонатан всегда говорил, что девушки проходили мимо его гримерки, чтобы попасть к Дадли, и что это усиливало его чувство неполноценности. Примерно так же было в первые дни с Питером Селлерсом и Спайком Миллиганом. Несмотря на гламур Питера, птиц всегда доставал Спайк, за этот талант Питер называл его «Золотыми шарами». Думаю, Питер наверстал упущенное позже! Свою первую пластинку с Питером я записал еще в конце 1953 года. Она называлась «Jakka» и, вероятно, была самой продаваемой пластинкой, которую когда-либо выпускал Parlophone. Это была музыкальная космическая фантазия, придуманная Роном Гудвином и его автором текстов Кеном Хэром, и требовалось много разных голосов, для которых Питер идеально подходил - своего рода преемник Питера «Голоса их всех» Кавана. Оглядываясь назад, это кажется до смешного примитивным. Джакка был космическим мальчиком, кем бы он ни был, и он бродил по небу на космическом скутере в сопровождении своей пятиногой собаки. Время от времени к нему с небесного свода обращалось какое-то богоподобное существо, для чего Петр предпочитал использовать черчиллевский голос. Все это было ужасно, и, несмотря на то, что я рассылал копии всем своим знакомым, я с таким же успехом мог бы попытаться продать это на Марсе. Это ничего не дало. Теперь, три года спустя, я предложил Питеру начать делать синглы, и мы начали с «Any Old Iron?» старая песня Гарри Чемпиона. Питеру это понравилось. Его отец учился в мюзик-холле, и он был приверженцем этой традиции. Пластинка имела неплохие успехи. Увидев, на что он способен, я решил, что Питер действительно художник для лонгплея. Как глава Parlophone, я имел определенную степень автономии, но для принятия такого важного решения мне пришлось пойти и убедить ежемесячное собрание приложений, что это хорошая идея, и получить одобрение от управляющего директора звукозаписывающего подразделения EMI. . Они не позволили мне записать полноценный альбом, но после долгих споров было решено, что я могу сделать десятидюймовый альбом, который будет стоить всего около 25 шиллингов, а не около 32 шиллингов за полный двенадцатидюймовый диск. Я подумал, что это безумное решение, но они были непреклонны, поэтому я пошел дальше. Пластинка называлась The Best of Sellers, и именно так она и оказалась. Потом, конечно, они поняли свою ошибку, и мы переиздали ее как двенадцатидюймовую пластинку. Работать с Питером было очень весело. Он «трупился», потому что публики не было: мы часто хихикали, и это было нормально, потому что мы их тоже записывали. Единственная опасность заключалась в том, что нам так нравилось создавать эти пластинки, что иногда нам казалось, что мы гораздо смешнее, чем были на самом деле; легко было забыть, что нам нужно было развлекать людей, которые слушали запись и не имели возможности насладиться атмосферой в студии. Иногда это вызывало настоящий скандал. Например, есть трек под названием «A Drop of the Hard Stuff», в котором персонаж типа Людвига Коха выходит на выездную запись с ирландской группой. «Ах, присмотри за этим парнем, он позаботится о нас», — шепчет участник группы, прежде чем разразится хаос. Один игрок обвиняет другого в том, что он написал «бездельную ноту», и начинается драка. В те времена у нас не было кассет со звуковыми эффектами, которые можно купить сегодня. У BBC было определенное количество книг в библиотеке, но мы не смогли до них добраться. Поэтому нам пришлось изобретать собственные эффекты. Для боя мы сложили кучу стульев, столов и пюпитров посреди студии и расставили вокруг них микрофоны. Затем, когда Питер исполнял свою ирландскую роль, стул отбросили, а пюпитр полетел по полу. Начался бедлам. Поскольку вокруг было недостаточно людей, чтобы устроить из этого настоящее безумие, я присоединился к ним в студии. В этот момент Питер крикнул: «Ах, обратите внимание на арфу» и сильно пнул стул, отправив его через всю комнату прямо в мои ничего не подозревающие голени, вызвав у меня крик искренней боли. Это есть в протоколе. Так что мои синяки действительно чего-то достигли, потому что я не думаю, что даже Оливье смог бы изобразить такой вопль! Большая часть материала была придумана импровизировано. Еще один трек на этой пластинке назывался «Shadows in the Grass». Идея заключалась в том, что глупую старушку в парке подбирает француз. Старушку сыграла Ирен Хэндл, чья это была идея, и мы просто усадили ее и Питера в студии перед парой микрофонов и отпустили их. Они шли примерно одиннадцать с половиной минут. Полагаю, Стюарту Элтэму, моему инженеру, понадобилось около 150 монтажных сокращений, чтобы убрать весь кашель и шишки и сократить время до пяти минут. Но оно того стоило, тем более что Ирен была такой милой женщиной. На второй день, когда она уже познакомилась со всеми инженерами студии, она пришла с огромным и вкусным тортом, который испекла специально для сотрудников, и начала раздавать его кусочки. Конечно, у некоторых треков были правильные сценарии, многие из них были взяты из нынешних радио-талантов. Боб Монк Хаус и Денис Гудвин сделали это. Фрэнк Мьюир и Денис Норден написали «Бэлхам, ворота на юг». Чтобы собрать все это вместе, потребовалось написать специальную музыку и добавить звуковые эффекты. Это было то, чего больше никто в стране не делал. После того, как «The Best of Sellers» оказался таким успешным – к личному огорчению сотрудников EMI, которые говорили, что это будет пустой тратой времени – те же самые люди теперь попросили меня сделать еще одну пластинку. Это была своего рода награда, которая признала «Парлофон» ярлыком юмористических людей. Но это вообще произошло только в результате личной дружбы. Вскоре после того, как я записал с Питером первые синглы, он и Спайк Миллиган пришли в студию, чтобы записать альбом Goon. Гарри Секомб не мог там участвовать, так как он уже был подписан на Филлипса как певец. Одним из треков была версия «Unchained Melody» Селлерса-Миллигана, веселая заставка, которая закончилась тем, что Питер спел: «Я играл на гавайской гитаре, пока корабль затонул», аккомпанируя себе на указанном инструменте. На следующем ежемесячном собрании дополнения я проиграл трек собравшимся EMIcrats, один из которых сказал: «Ну, конечно, если мы собираемся выпустить именно эту версию «Unchained Melody», нам придется получить разрешение. от правообладателей, потому что вы немного искажаете песню». Это было преуменьшение, но я не видел проблемы. «Мы играем эту песню, — сказал я, — и платим им авторские права, так о чем же им беспокоиться?» «О нет, это не так просто, — сказал он, — потому что вы заставляете это звучать хуже, чем оригинал». Моя точка зрения была такой: «Сначала выдавайте вопросы, а потом задавайте вопросы», но этот зануда настоял, чтобы мы отправили это в Чаппеллс и получили их разрешение. Чаппеллс, в свою очередь, отправил его американскому писателю Фрэнку Лессеру, человеку, чью жену однажды на коктейльной вечеринке представили как «зло двух Лессеров». Он послушал это и тут же бросил что-то похожее на истерику. «Эта запись моего великолепного опуса ни в коем случае не будет выпущена», — заявил он или сказал что-то в этом роде. Он сообщил об этом решении Тедди Холмсу из Чаппеллса, а затем, как король рассказывает королеве, а королева рассказывает горничной, Тедди рассказал мне, и мне пришлось рассказать Питеру и Спайку. Понятно, что они были очень горькими. Я тоже. Мы все считали эту пластинку ошеломляющей. Но я думаю, что в каком-то смысле тогда они обвинили меня, и следующее, что я услышал, это то, что они записывались для Decca, для которой Спайк сделал свою чрезвычайно успешную песню «I’m Walking Backwards for Christmas». Злополучная «Unchained Melody» так и не была издана и по сей день хранится где-то в архивах EMI. К счастью, вскоре мы снова собрались вместе, и я записал свою первую пластинку со Спайком, второстепенную работу под названием «You've Gotta Go Ow». Это был оглушительный провал. Между нами всегда была шутка о том, что мы никогда не создавали вместе ничего, что имело бы хоть малейший успех. Все, к чему мы когда-либо приложили руки, казалось, заканчивалось катастрофой. Возможно, поэтому мы стали такими хорошими друзьями - настолько, что, когда он женился во второй раз, что было в этот период, он попросил меня быть его шафером. Поскольку он был католиком, а его первая жена — нет, они поженились в ЗАГСе, поэтому с типично сумасшедшей гунской логикой он решил, что, поскольку его новая невеста была католичкой, у них будет полная брачная месса. Его дети будут подружками невесты. Пэдди, женщина, о которой идет речь, была монахиней в сценической версии «Звуков музыки». Она происходила из очень строгой йоркширской семьи, и Спайк, будучи Спайком, был в ужасе от мысли о встрече с этой семьей, тем более что он даже не познакомился с ее отцом: событие, которое, в сочетании со свадьбой, должно было принять место в Йоркшире. Его очень беспокоила такая перспектива. «Мне нужно прийти вовремя» — было довольно повторяющимся элементом в его разговоре. «Не волнуйся, Спайк, я отвезу тебя туда», — был мой стандартный и столь же повторяющийся ответ. У меня все было организовано. Мы получили утреннюю одежду от братьев Мосс и отправились на вокзал Кингс-Кросс в маленьком «Мини», которым я теперь гордился. Я точно знал, в какое время должен был отправиться поезд Пуллман, и мы прибыли вовремя. Я припарковала машину и предоставила Спайку достать багаж, а сама пошла проверить билеты. С ними в кармане я подошел к шлагбауму, чтобы проверить, насколько полон поезд. Ужас за ужасом! На этот поезд нельзя было сесть. Я забыл зарезервировать специальные места в Пуллмане. И не было другого поезда, который мог бы доставить нас в Лидс к 9.30 того вечера, времени, назначенного Спайку для встречи со своим будущим тестем. Когда я вернулся, веселая улыбка будущего зятя Спайка вскоре исчезла. — Возвращайся в машину, — сказал я. 'Что происходит?' — потребовал он, и небезосновательно. 'Хорошо . . . Я изменил наши планы. — О чем ты, черт возьми, говоришь? — спросил он. — Мы собираемся поехать туда. 'Что в?' 'Этот.' 'Этот?!! На этом W мы едем до Йоркшира. Мы никогда этого не сделаем. Мы должны быть там к половине девятого. — Не волнуйся, — сказал я, пытаясь выразить уверенность, которой я определенно не чувствовал. Это был обычный Мини, без специально настроенного двигателя или каких-либо других доработок, но мы втиснулись в него и двинулись в путь*, а я выполнял свою задачу Стирлинга Мосса и пытался обойти поезд. Бедняга Спайк сидел на переднем пассажирском сиденье, вцепившись в переднюю панель, как мрачная смерть, пока я швырял машину в повороты и крутые повороты. За всю поездку он не произнес ни слова. Он не мог. Его парализовало от страха. Кошмар длился три часа, но мы успели вовремя. Я выключил оправданно протестующий двигатель, вышел и обошел машину, чтобы открыть Спайку дверь. Наконец он заговорил: «Никогда, никогда больше не проси меня поехать с тобой». На следующий день, после нескольких непростых минут, проведенных в попытках оценить, как устроен утренний наряд и какая заклепка куда идет, мы направились в церковь, которая находилась за городом недалеко от Лидса. Когда мы шли по проходу, левая сторона была забита друзьями и родственниками Пэдди. С правой стороны – ни души. Мы были совершенно одни, только мы двое, среди огромной толпы йоркширцев, смотревших на странного идиота из Лондона. Никто из нас никогда не чувствовал себя настолько изолированным. Внезапно в дверях церкви послышались тяжелые шаги. Они шли к нам по проходу, цок-цок-цок, сопровождаемые легким свистом. Я оглянулся и увидел шагающего Гарри Секомба с широкой глупой ухмылкой на лице.
Позже мы узнали, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться туда, потому что он был в летний сезон где-то вроде Лландидно, и ему пришлось нанять вертолет, чтобы отвезти его в ближайший аэропорт, а затем полететь в Лидс. Но Гарри такой человек. Ни за что на свете он бы ни за что не пропустил свадьбу Спайка. Он опустился на колени на скамье позади нас, чтобы произнести молитвы. Прежде чем встать, он прошептал: «Я только что записал новый номер». 'Что это?' - сказал Спайк. «Это называется «Кожаные стринги». — Что ты имеешь в виду под «кожаными стрингами»? Позади нас Гарри начал тихо петь: «Кожаные ремешки в моем сердце». Внезапно мы перестали чувствовать себя такими одинокими. Как и многие комики, Спайк — грустный человек, чрезвычайно забавный на сцене, но очень серьезный в состоянии покоя. Его очень беспокоит состояние мира. На одной неделе это будут киты, на следующей — детское питание, джаз или что-то еще. Он очень расстраивается из-за чего-то, и это, как правило, усложняет его личную жизнь. Однажды, когда он поссорился со своей первой женой, он заперся в спальне и взялся за телефон. Вскоре после этого его жена открыла дверь и обнаружила посыльного с телеграммой от Спайка. Там было написано: «МНЕ ХОЧЕТСЯ БЕКОН, ЯЙЦА И ДВА ТОСТА НА ЗАВТРАК, ПОЖАЛУЙСТА».
Безумный гунский юмор мог вспыхнуть где угодно, была ли публика или нет. Однажды Гарри и Спайк обедали в Шепердс Буш Грин, где у Спайка был его первый офис. Это был хороший обед, обильно подкрепленный большим количеством вина. Когда они выходили, Спайк заметил заведение по соседству: Уильям Ноудс, распорядитель похорон. Он что-то прошептал Гарри, и они вдвоем нырнули через дверь в пустую гостиную. Схватив фиолетовую простыню, Спайк распластался на полу и накрылся ею. Гарри принял очень серьезный вид и крикнул: «Магазин!» К сожалению, никто не пришел. Моя история неудач со Спайком продолжилась, когда мы записали альбом, который был пародией на «Bridge on the River Kwai». Это был типичный юмор Спайка: ему удалось сделать что-то очень смешное из зверств японцев против британских военнопленных. Для этого нам нужно было передать впечатление лагеря в джунглях, с шумом сверчков и прочей живности. Среди самых ужасных вещей, которые нам пришлось пережить, был звук отрубаемой головы человека. — Как, черт возьми, мы собираемся это сделать? — спросил Спайк. Я немного задумался над проблемой, осознав, что, что бы у нас ни было, записи обезглавливания у нас точно не было. Тогда я наткнулся на это. Я сказал Стюарту Элтаму, нашему инженеру по звукозаписи: «Сходите в овощной магазин на площади Альма и купите полдюжины самых крупных кочанов капусты, какие только сможете найти». Стюарт вернулся с вышеупомянутыми овощами, и, поставив их перед микрофоном, мы измельчили их очень острым измельчителем. Результат был просто ошеломляющим – очень эффектный звук, чему, конечно, способствовало воображение. В целом я считаю, что мы сделали блестящий альбом. Я закончил его редактирование и был готов выпустить его. И только тогда мне сказали, что если бы мы выпустили его под названием «Мост через реку Квай», EMI предъявили бы иск на тысячи фунтов, хотя это был типичный сценарий «Гуна» и не имел ничего общего с фильмом. Каким-то образом мне пришлось спасти всю нашу работу, в том числе трюк с капустой. И вот однажды ночью оно пришло ко мне. Нам следует просто назвать это как-то по-другому. Я сразу же позвонил Спайку. — У меня есть ответ, — сказал я*. «Мы собираемся назвать его «Мост через реку Уай». «Но это мост через реку Квай», — сказал Спайк. «Мы везде говорили «Квай» в записи». — Хорошо, — сказал я. «Поэтому мы вырезали букву «К» в каждом бите пластинки». Именно это мы и сделали. Мы достали ножницы и просмотрели все кассеты, вырезая букву «К» всякий раз, когда появлялось слово «Квай». Это заняло много времени, но, по крайней мере, мы смогли выпустить пластинку, и никто не смог подать на нас в суд. К сожалению, его тоже не многие купили. Звуковые эффекты всегда были ключевым компонентом этих юмористических пластинок, и нам постоянно приходилось импровизировать. Например, была пластинка, которую я сделал с Майклом Бентайном, бывшим Goon, на одном из треков которой он сделал пародию на конное шоу, пародию на шовинизм английских комментаторов. Очевидно, нам нужен был лошадиный шум, и у нас была записана на пленку пара лошадиных ржаний, которые мы время от времени вставляли. Но большая часть звуковых эффектов заключалась в том, что я постукивал рукой по табуретке для фортепиано. На самом деле, вы обычно никогда не используете настоящую вещь для звукового эффекта, если только это не очень хорошая запись - и в любом случае у людей есть свои собственные представления о том, как все должно звучать. В то время у меня не было библиотеки звуковых эффектов, и когда мне требовался специальный эффект, я звонил главному специалисту по эффектам на BBC, который любил немного поработать с лунным освещением. Он был настоящим мастером, и после того, как я говорил ему, что мне нужно, он приходил с необыкновенным разнообразием предметов — роликовых коньков, маракасов, кусков жести, кусков металла, имитирующих разбитие стекла, и черт его знает, что еще. . Если не было стандартного ответа на проблему, он вскоре нашел его. Например, в случае горящего дома он скомкал папиросную бумагу перед микрофоном. Это, конечно, звучит так же, как горящий дом, хотя, честно говоря, я никогда не сжигал его, чтобы провести сравнение. Кроме того, папиросная бумага дешевле. Для звуков моря и ветра у нас в студии было ведро с водой, и кто-то дул в микрофон - хотя, если разразилась настоящая гроза, мы всегда выбегали и записывали ее на пленку, пока она была там. Для звука марширующих солдат у нас была большая картонная коробка с несколькими кусками мелкого кокса. Если потрясти коробку из стороны в сторону, получится мгновенный полк. Загвоздка заключалась в том, что через некоторое время коробка немного изнашивалась и начинала протекать, а оператор покрывался коксовой пылью и в конце сеанса выходил черным. Проявив явную хитрость, я всегда просил моего помощника Рона Ричардса добиться такого эффекта. Лишь десять лет спустя, в конце шестидесятых, ленты со звуковыми эффектами стали использоваться. Сегодня вы можете получить запись буквально чего угодно: от прыжка Ивела Книвела в реку до рождения ребенка. Так что жизнь продюсеру стала проще: но и сейчас тот, кто хочет эффектов, все равно будет пытаться собрать свое. Когда я был на Гавайях, я установил стереомикрофон на берегу моря просто потому, что звук волн и прибоя там был очень хорош. Я использовал эту кассету на нескольких пластинках. Поскольку сейчас запись очень точная, такая лента будет лучше, чем все, что вы можете изготовить, при условии, что вы позаботитесь о том, чтобы в микрофон не попадал шум ветра. Были также специальные музыкальные эффекты. Однажды я решил, что мне нужны четыре горна. Мне хотелось услышать аутентичное звучание горнов, но я не хотел использовать трубы, поэтому позвонил в стражу. Я связался с одним из сержантов их оркестра и сказал ему: «Для этой записи мне нужны четыре горниста». Можете ли вы предоставить мне четырех горнистов, которые умеют читать? Дело в том, что они должны были играть именно те ноты, которые мне были нужны. Горн подобен трубе без клапанов, поэтому он не может воспроизводить каждую ноту, а только свои основные гармоники: поэтому важно написать для него подходящую музыку. — Нет проблем, сэр, мы доставим их вам, — сказал сержант. В назначенный день пришли четверо горнистов из ирландской гвардии вместе со своим сержантом, который не играл, но руководил ими. Я проводил их в студию, принес пюпитры, поставил перед ними музыку и сказал: «Хорошо, это то, что мы собираемся сделать». Просто сделайте несколько попыток сами, а потом я сыграю вам трек, на который мы вас настроим». Сержант выглядел явно неловко и начал извиваться совершенно не по-военному. Наконец он подошел ко мне и откашлялся. 'Извините меня, сэр. Боюсь, мои горны не смогут прочитать вашу музыку. — Но я специально просил четырех человек, умеющих читать, — раздраженно сказал я. — О, конечно, они умеют читать, сэр, — гордо заявил сержант. «Они умеют читать, но не умеют читать музыку». В конце концов, мне пришлось учить их этой партии, напевая ее им. Для второго альбома, который я записал с Питером Селлерсом, мне нужен был другой эффект – человеческий голос. В то время «Песни для свингующих любовников» Фрэнка Синатры пользовались большим успехом, и мы решили записать «Песни для свингующих продавцов». Что касается вступительного трека, песни, которую я написал, я подумал, что Питер должен петь голосом, максимально близким к голосу Синатры. Теперь Питер может петь, хотя и не очень хорошо, и я подумал, что он сможет использовать свои огромные способности к мимикрии, чтобы это действительно звучало так, как будто кто-то изображает Синатру, в чем и заключался весь смысл пластинки. Я проиграл ему запись, где Мэтт Монро поет эту песню, и сказал: «Все, что тебе нужно сделать, это спеть вот так». — Я не могу этого сделать, — сказал Питер. «Это здорово, как есть. Давайте воспользуемся этим». «Мы не можем. Это другой человек, — сказал я. — Хорошо, тогда назовем его Фред Флэндж, — сказал Питер, используя всегда доступное гунское имя. Поэтому я подошел к Мэтту, который только что потерял контракт со своей звукозаписывающей компанией и находился в довольно унылом состоянии, и спросил: «Ничего, если мы не будем использовать твое имя?» Я думаю, он был немного разочарован и, возможно, надеялся на славу благодаря этой песне, но я заплатил ему 25 фунтов, и пластинка была выпущена с указанием Фреда Флэнджа как исполнителя этого трека. Это получилось очень хорошо. Питер спел все остальные треки, и разница между его голосом и голосом Мэтта совершенно очевидна. В их число входит классика под названием «Питер Селлерс поет Джорджа Гершвина», именно это он и сделал. Он пел «Джордж». . . Гершвин. Еще одним моим любимым треком среди его треков была его интерпретация «Wouldn’t It Be Lovely» индийским голосом, так что она превратилась в «Wouldn’t It Be Lubberly» с ситарами и другими странными инструментами на заднем плане. Это было типично для моего отношения к юмористическим пластинкам. Техника Питера и других артистов, с которыми я работал, заключалась в создании забавных пластинок, которые публика хотела бы слушать снова и снова. Я очень старался не делать смешных пластинок, включающих много тяжелых шуток, потому что они, как правило, не выдерживают больше пары прослушиваний. Как только вы поймете шутку, вы поймете, что будет дальше. Но вы можете продолжать наслаждаться тем, как Ирен Хэндл говорит «бутылка Боржоле» вместо «Божоле», и вы всегда можете найти что-то новое, над чем можно посмеяться в легких звуках и бульканье, которые она издает, когда ее обижает Питер. Юмор допускал повторение просто потому, что были комбинации слов, которые застревали в памяти. Особенно это касалось Beyond the Fringe. Если я в чем-то немного разочарован, то все равно говорю, цитируя их: «Ну, это был не совсем тот пожар, на который я рассчитывал». А когда мы выходим из дома, мы всей семьей декламируем: «Ключ у вас есть?» Консервы есть? Открывашка есть? Я полагаю, что в этом мире крылатых фраз нет ничего более универсального, чем «Боже, милостивый я». Мы записали пластинку, когда Питер работал с Софи Лорен над «Миллионершей»; Херби Крецмер и Дэйв Ли написали его специально для Питера и для персонажа, которого он играл. Мы записали его в студии номер один на Эбби-Роуд, и, поскольку я только что записывал Рольфа Харриса, я попросил Рона Ричардса (он из коробки с кокаином) сыграть на воблборде на пластинке. На обратной стороне было написано «Bangers and Mash»; мы сочли это нокаутом и, естественно, захотели связать это с фильмом. Поэтому я отнес ее продюсеру Дмитрию де Грюнвальду и проиграл ему. «Послушайте, — сказал он, — фильм все еще на стадии съемок. Но я думаю, что это будет полезно для фильма, и фильм будет полезен для пластинки, поэтому по обеим причинам я постараюсь включить это в фильм». Однако режиссер Энтони Асквит этого не одобрил. Он высказал мнение: «Нет, это серьезный фильм. Это Джордж Бернард Шоу. Ваша пластинка очень забавная, но она не того класса, что наш фильм». Я не мог дождаться, потому что хотел успеть к Рождеству, и я пошел дальше и выпустил пластинку, которая имела огромный успех. Через несколько месяцев фильм вышел, и, конечно, все пошли на него, ожидая услышать запись. Они этого не сделали и почувствовали себя обманутыми. Де Грюнвальд рассказал мне позже, какую большую ошибку они допустили, и об огромном количестве жалоб, которые они получили. Точно то же самое произошло позже с фильмом «Алфи» и записью Силлой Блэк песни «Альфи». После успеха «Goodness Gracious Me» я подумал, что было бы хорошей идеей записать альбом с Питером и Софией, хотя теперь это стало гораздо сложнее, поскольку Питер стал восходящей международной кинозвездой: его трудно достать. , более разборчив в выборе материала, который он использовал, и более неохотно посвящал себя записи. Но мы, наконец, реализовали проект. Питер исполнил несколько соло, София — несколько, и они вместе написали несколько песен. Однако к тому времени, как Питер исполнил свои партии, София вернулась в Рим и явно не собиралась приезжать в Англию только для того, чтобы записать пару песен. Поэтому я сказал, что подготовлю минусовки к ее номерам, угадывая тональности, в которых она будет петь, чтобы я мог написать аккомпанемент, и что мы поедем с треками в Рим и озвучим там ее голос. Тогда я мог бы вернуться и смешать все это. Петр был вовсе не прочь пойти со мной на свидание, поскольку они с Софьей были, что называется, чрезвычайно хорошими друзьями. Мы должны были лететь на одной из первых «Комет» и заняли места в купе первого класса в передней части самолета. К сожалению, когда мы выруливали перед взлетом, сломалось носовое колесо; Передняя часть самолета упала примерно на пятнадцать футов из-за удара и повернулась вдоль взлетно-посадочной полосы. Это был неприятный момент, и Питер остолбенел и позеленел, чтобы доказать это. К счастью, никто не пострадал, и нас отвезли обратно в здание аэропорта, где, конечно же, собрались репортеры газет, услышав новость о том, что Питер Селлерс чуть не попал в катастрофу. Бедный Питер вообще не хотел об этом говорить, а просто хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы он оправился от шока, поэтому они спросили меня, есть ли у меня какие-нибудь комментарии. Я сказал: «Спайк Миллиган, должно быть, распилил его наполовину, прежде чем мы взлетели». Газеты сразу же сообщили о «шутках Питера Селлерса». . . приписывая ему эту цитату, когда он не сказал ни слова. В конце концов мы добрались до Рима. Нас встретила София на своем лимузине «Роллс-Ройс Фантом», на котором она отвезла нас на виллу, которую она строила на Аппиевой дороге. Она сидела между нами сзади, и я с трудом мог поверить, что действительно нахожусь там. Вера полностью покинула меня на следующий день, когда мы пошли в ее квартиру в Риме, чтобы поговорить о проекте. Это было чудесное место, вход в которое проходил через двор, где играли фонтаны, окруженный каменной кладкой шестнадцатого века. Должно быть, мы пришли немного раньше, потому что, когда мы пришли к ней домой, нас пригласили зайти к ней в спальню, где она все еще была в неглиже. Это меня несколько сбило с толку, поскольку я вообще не привык видеть кинозвезд в их спальнях, не говоря уже о неглиже. Питер, однако, явно чувствовал себя гораздо более комфортно в этой ситуации и делал все возможное, чтобы меня успокоить. София была невероятно обаятельной, с ней было весело и легко работать. В личной жизни она никоим образом не играла большую звезду. После того, как мы закончили альбом, я больше никогда ее не встречал. Однако спустя годы она получила «Оскар» за роль в фильме «Две женщины». Я подумал, что она очень хороша в этом, и отправил ей поздравление. В ответ я получил рукописную открытку со словами: «Дорогой Джордж, было очень мило с твоей стороны прислать мне поздравление. Большое спасибо.' Само по себе это не очень важно, но факт в том, что мало кто утруждает себя, а если и диктует записку своему секретарю. Я даже удивился, что она меня вспомнила, но всегда приятно быть уверенным, что еще есть суперзвезды, которые не забывают и не раздуваются собственным эго, как это часто бывает. Если Селлерс и Миллиган были эксцентричны, то они были ничем по сравнению с Альбертами, которые были совершенно сумасшедшими. Раньше они развозили газеты (а возможно, и до сих пор) и состояли из двух братьев и Брюса Лейси. Мы должны были записать пластинку под названием «An Evening of British Rubbish», но не знали, насколько подходящее это название. В то время меня очень интересовала реакция публики, и мы записали их перед приглашенной аудиторией из пятисот человек в студии «Номер два», где они были готовы насладиться такими деликатесами, как один из роботов Брюса в комплекте с машиной для выдувания пузырей. Но прежде чем они пришли, нам нужно было пройти тест. Альберты намеревались выстрелить прямо в середине выступления, и нам нужно было убедиться, что громкость звука не испортит запись. Мы были в студии, где пятьсот стульев были расставлены аккуратными рядами, и все было в порядке. Непосредственно перед приходом зрителей мы провели тест. Пистолет раздался, как пресловутый раскат грома, и сбил с потолка около четверти тонны сажи. Это было довольно драматичное зрелище – видеть, как все это плывет вниз, но к тому времени, когда потребовалось разобрать беспорядок, запись была возвращена на место. В других случаях проблема может быть связана с самой аудиторией. Мы сделали живую запись с Рольфом Харрисом «Tie Me Kangaroo Down, Sport» и «Sun Arise», и чтобы он чувствовал себя как дома, я взял с собой для публики кучу австралийцев. Чтобы они чувствовали себя как дома, я специально привез ящики лагера «Сван». Мы не могли вытащить их из столовой, а те, кто добирался до студии, пытались поставить банки с жидкостью в эхокамеру или куда-нибудь еще, где только могли найти. В конце концов я обратился: «Давайте, ребята, нам пора приступать к записи». На это я получил типично антиподический ответ: «Ой, черт возьми, эта чертова запись». Есть ли еще что-нибудь от этого Лебедя? Большинство музыкантов любят выпить-другую, и одна группа, которая не стала исключением, с должной логикой называлась The Temper ance Seven (их было девять). Они играли в очень аутентичном стиле 1920-х годов, и их музыкальной опорой был Алан Купер, которого ласково называли «Хутер». Он был настоящим чудаком, играл на различных духовых инструментах и владел идиомой. Вокалистом был Пол Макдауэлл, который пел через мегафон, и чтобы придать записи реалистичность, я сгруппировал их вокруг одного микрофона и записал в моно, хотя к тому времени у нас уже было стерео. Пластинка была встречена в EMI с большим скептицизмом, и они, очевидно, подумали, что я заразился ее названием - «Ты сводишь меня с ума». Но это было не так уж и безумно; В тот вечер, когда я записывал Beyond the Fringe в Кембридже, мне позвонили и сказали, что пластинка заняла первое место в хит-параде. Это был мой первый номер один, и Джуди, Ширли, Рон Ричардс и я сразу же отправились на праздничный ужин. До этого момента моим самым высоким достижением было второе место с песней «Be My Girl». Ее спел Джим Дейл – ныне чрезвычайно успешный актер, а в те времена мой ответ Томми Стилу. К сожалению, союз просуществовал недолго. Его менеджер, Стэнли Дейл (не родственник), оказывал на него влияние, подобное Свенгали. Он завязал его в большем количестве узлов, чем я мог сосчитать, и бедный Джим никогда не имел ни малейшего представления о его финансовом положении. После того, как мы записали несколько пластинок, в том числе «Be My Girl», казалось, что у него впереди большая карьера. Но однажды он пришел ко мне и сказал: «Извини, но мы больше не собираемся выпускать пластинки». — Почему бы и нет? Я спросил. «Мы со Стэнли говорили об этом, и я собираюсь стать комиком», — объявил он. 'Ты псих. Тебя ждет хорошая карьера. Но его это не поколебало, и на этом наш контракт закончился. В конце концов, вы не можете заставить кого-то делать записи, даже если у вас есть контракт. Какое-то время ему не разрешили бы записываться ни для кого другого, но потом он этого не захотел. Он хотел стать комиком, к чему у него всегда была естественная склонность, и, по крайней мере, мы расстались хорошими друзьями. Если он был моим ответом Томми Стилу, то, по крайней мере, я сохранил свой ответ скиффлу Лонни Донегана, то есть «Гадюкам». У них был парень, который играл на басу, сделанном из чайного ящика, и еще один, который работал в газете и играл на стиральной доске. Они были любителями, но играли на акустических гитарах и издавали потрясающий звук. Этот стиль на самом деле был предшественником электрогитар, которые появились позже – в некотором смысле предшественником «Битлз». Раньше они пели такие песни, как «John B Sails», «Cumberland Gap» и «Rock Island Line». Одного из группы звали Джонни Букер, маленький хромой парень, который без ума от животных. У него была квартира в подвале очень дорогого дома на Итон-сквер, где он держал домашнюю игрунку, которую часто приносил в студии. Это было довольно милое создание, но не совсем то, что можно было бы назвать приученным к дому. Однажды он ушел, оставив обезьяну в квартире, но забыв закрыть окно. Пока его не было, оно приняло это открытое приглашение и по водосточной трубе поднялось на верхний этаж, где у Леди Что-то-или-Другая была роскошная квартира. Она тоже вышла, заперла дверь спальни и оставила окно открытым. Обезьяна приняла и это приглашение. Затем он начал обходить спальню, обнаруживая такие восхитительные лакомства, как кремы для лица и лосьоны для рук, которые он ел. То, что он не мог съесть, он облепил себя всем телом. Затем он решил, что пришло время прыгать, размазывая упомянутые лосьоны по ее шелковым подушкам и покрывалу - во время этого легкомыслия он, что вполне предсказуемо, сильно заболел и охватил понос. Устав от этого неистовства, он направился домой по водосточной трубе. Несчастная дама вернулась домой, отперла дверь квартиры, отперла дверь спальни и чуть не потеряла сознание на месте разрухи. До сих пор она понятия не имеет, как был совершен вандализм. Теперь она будет иметь. Но из всех безумных происшествий мне больше всего хочется помнить тот, который чуть не стоил мне работы; потому что, если демонический напиток и играл слишком важную роль в моих ранних записях, то исключением был случай мистера МакРобертса. Джеймс МакРобертс руководил организацией под названием «Шотландский фестиваль мужской голосовой хвалы» — библейским собранием пения аллилуйи, которое мы записывали. МакРобертс, не прочь время от времени порадоваться «Маммону», делал собственные аранжировки таких вещей, как «Вечный Отец, сильный, чтобы спасти», и гарантировал, что он получит на них авторские права. Меня пригласили выступить на шотландском телевидении с интервьюером по имени Ларри Маршалл, и, узнав, что я туда еду, магнаты из головного офиса EMI в Хейсе попросили меня встретиться. «Мы допустили довольно досадную оплошность с мистером МакРобертсом», — сказали они. — Мы переплатили ему гонорары. На самом деле мы заплатили ему гораздо больше, чем должны были. Мы не ожидаем, что вы вернете деньги, хотя было бы неплохо, если бы вы могли это сделать. Но, по крайней мере, вы должны сообщить ему, что мы делаем ошибочные заявления о гонорарах, иначе будет очень много проблем. Ответственность была твердо передана мне. Первым препятствием, которое нужно было преодолеть, было телевизионное интервью, которое было своего рода шоу для журнала. Будучи гостеприимными, телевизионщики угостили меня несколькими драмами, прежде чем я пошел дальше. Я не сомневаюсь, что они также считали, что увлажнение языка также немного ослабит его. Я прекрасно ладил с Ларри Маршаллом, и, таким образом, впоследствии мне пришлось выпить еще несколько драм. К счастью, Фестиваль мужской голосовой хвалы проходил в скинии чуть выше по улице. Я говорю «к счастью», потому что к тому моменту, когда я вышел из телестудии и почувствовал, как холодный ветер пронзает мои легкие, до меня дошло, что я серьезно повредил бутылку лучшего виски. Неважно, подумал я, это поможет мне в том, что я должен сказать бедному мистеру МакРобертсу. Я вошел в скинию, ее строгий зал, выкрашенный в зеленый и коричневый цвет, благоухающий Деттолом, Лизолом и благочестием, и, услышав пение на заднем плане, вошел и обнаружил, что хор репетирует. Мистер МакРобертс, с выступающими зубами, лысой головой и очками, свисающими на кончике носа, дирижировал оркестром. Увидев меня, он прекратил репетицию, подошел и весьма приветливо поприветствовал меня. Я в свою очередь поприветствовал его вполне приветливо, так как был в весьма приветливом настроении. «Привет, Миштер МакРобертш. Приятно снова увидеть тебя, — заявил я. Чрезвычайно воздержанный человек, для которого алкоголь был нектаром сатаны, которого никогда нельзя было терпеть в скинии, он отшатнулся от паров. Чтобы не смущаться и все еще воодушевленный успехом (и виски) телепрограммы, я, не колеблясь, направился прямо к финансовой ямке бедняка. — У нас для вас неприятные новости, мистер МакРобертш. «Ой, тьфу, тьфу, что это?» — раздраженно спросил он. — Боюсь, EMI переплатила вам примерно четыреста фунтов. И если вы будете получать гонорары всего по двадцать фунтов за квартал, то, боюсь, в ближайшие пять лет вы не получите больше гонораров. При этом меня охватил сильнейший и неконтролируемый приступ смеха. Мистер МакРобертс был смертельно оскорблен. Печальную весть вряд ли можно было передать с меньшим тактом. К счастью, его хор не был самым выдающимся из наших артистов. Если бы они были, я думаю, сомнительно, что я надолго остался бы в EMI. И я бы никогда не подписал контракт с «Битлз».
Две головы лучше, чем одна. Весь этот период – до и даже после прихода «Битлз» – продюсер пластинки был, по сути, организатором. Конечно, он мог принимать решения о том, что должно быть на пластинке, и мог давать артистам советы, как лучше всего записать их выступления. Но именно появление стереозаписи впервые сделало его тем, кем он стал сегодня – самостоятельным творческим человеком. Это позволило ему запечатлеть на записи свое уникальное впечатление. Чтобы понять, насколько велико было это влияние, полезно вернуться к сцене, которая предстала перед моими глазами, когда я впервые вошел в студию Abbey Road осенью 1950 года: сцена, которая олицетворяла состояние звукозаписывающей индустрии того времени. По любым меркам диспетчерская была небольшой. Его декор плохо скрывал фабричные стены, окрашенные в зеленый и кремовый блеск, и тонкий коврик на линолеумном полу, который, вероятно, больше улучшал акустику, чем смягчал ноги. Слева от входа стоял выпуклый зеленый монстр в виде металлического шкафа со стеклянной крышкой, сквозь которую можно было видеть вращающиеся катушки. Это был BTR 1, первый студийный магнитофон, выпущенный EMI. Сотрудники студии отнеслись к этому с большой долей скептицизма. В противоположном углу комнаты стоял записывающий станок. Это была впечатляющая машина, увенчанная поворотной платформой и резаком, сверкавшими в свете висящей над ней голой лампочки. Между этими двумя великими машинами находился пульт управления, если можно было удостоить его этим именем. Оно напоминало приборную панель старинного автомобиля. У него были четыре большие черные вращающиеся ручки, которые регулировали громкость микрофонов в студии, а также многочисленные тумблеры. Над этой панелью находилось крохотное окошко площадью около двух квадратных футов; он соединялся со студией двумя маленькими дверями, которые инженер мог открыть, чтобы поговорить с музыкантами или певцами. Там был стол, на котором лежала книга с информацией о записи. И, наконец, был шкаф со стеклянным фасадом, размером примерно со шкаф, внутри которого время от времени горели термостатированные лампы, открывая стеллажи, уставленные полупрозрачными янтарными дисками. Это были чистые восковые заготовки, хранившиеся при постоянной температуре 100° F и готовые к резке. Когда я впервые увидел эту сцену, возле станка стояли двое мужчин, оба были поглощены видом воскового диска на токарном станке. Тот из двоих, что пониже, одетый в белый комбинезон, использовал небольшую мощную лупу, чтобы рассмотреть линии на диске. Второй, высокий, в строгом темном костюме, подчеркивавшем его прямую осанку, стоял и ждал вердикта инженера. Затем он взял диск с проигрывателя, держа его под углом так, чтобы свет показал рисунок канавки. — Мм, — пробормотал он, — здесь выглядит немного сложно. Что ты думаешь, Чарльз? Выдержит ли оно? Чарли Андерсон поджал губы и улыбнулся. «Ну, раньше у нас были и более громкие… Я думаю, что это хороший вариант, если не считать вот этого тяжелого места. Смотреть.' Он указал на след на диске, вызванный громким звуком во время записи. — Хорошо, Чарльз, — сказал Оскар Пройсс, — отметим его как мастера. Но мы сделаем еще один дубль, на случай, если он выйдет из строя на заводе». Снова началась рутина очередной записи. Инженер Чарли Андерсон начал заводить большую рукоятку, и к потолку медленно поднялся тяжелый груз. При этом Оскар подошел и сказал музыкантам, что хочет еще одного выступления, пробормотав им несколько слов поддержки. В диспетчерской из шкафа достали свежий теплый восковой диск и положили на проигрыватель, а инженер проверил его настройки. Затем он закрыл свое окошко, отпустил тормоз и закрутил проигрыватель.
Постепенно вес начал снижаться. Нажали зуммер, чтобы предупредить музыкантов, что им пора готовиться; затем, когда игла была опущена на воск и всасывающее устройство начало пожирать остатки, врезавшиеся в поверхность, прозвучал второй раз, чтобы сообщить игрокам, что запись неизбежна. Наконец, через секунду или две инженер повернул ручку, которая привела иглу в правильное положение, чтобы начать движение к центру воска; в студии загорелся красный свет, при котором музыканты начали играть. И играть им приходилось, начиная сразу по команде, иначе пьеса, которая была бы засчитана точно по времени звучания пластинки, была бы перерасходована. Редактирования быть не могло. Лента была, но ей все равно не доверяли. Дублирование с ленты никогда не считалось таким же хорошим, как запись с прямой восковой записи, и лента использовалась только в качестве резерва на случай, если воск испортится в заводском процессе. Это также было полезно, поскольку артисты могли мгновенно услышать воспроизведение того, что они сделали, что было особенно полезно, если им нужно было сделать еще один дубль. Еще незадолго до моего приезда магнитофона не было, и несчастному художнику пришлось ждать неделю, прежде чем он мог услышать результаты своей работы на пробных оттисках, присланных с фабрики после воскового мастера. ' было обработано. Что касается восковых дисков, то мы их перебирали, как пресловутые горячие пирожки. Если кто-то допустил ошибку или запись оказалась ниже ожидаемого стандарта, воск просто выбрасывали, чтобы позже расплавить и нанести новый слой. За среднюю сессию записи можно, вероятно, пройти около пятнадцати восков. Моему новому и неопытному взгляду вся эта установка показалась невероятно грубой. Я думал, например, что использование падающих грузов в качестве движущей силы прекратилось вместе с Галилеем. Ответ, казалось, заключался в том, что электродвигатели в те времена не были достаточно надежными, чтобы гарантировать абсолютно стабильные и «безоблачные» 78 оборотов в минуту. Гравитация же не знала сбоев. Но если я и считал условия и технику записи грубыми, то они были ничем по сравнению с реальным производством конечного продукта. Прежде чем я посетил завод, где печатались пластинки, я ожидал, что безупречные рабочие в белых халатах будут стоять у прилавков из нержавеющей стали с пластиковыми крышками, нажимать кнопки и наблюдать за автоматической формовкой дисков. Как я ошибался. Реальность представляла собой жаркую и грязную фабрику, где люди были раздеты до пояса, купались в поту и вечно были грязными от черной угольной пыли, висевшей в воздухе. В качестве сырья для пластинок углерод смешивали с шеллаком, затем раскатывали в листы, которые разрезали на прямоугольные «печенья» размером примерно 18 на 10 дюймов. Прессовщики, каждый из которых управлял двумя машинами, раскатывали это печенье на очень горячих стальных пластинах, пока из него не образовались твердые «пончики». Затем этикетку снимали со стойки и помещали на печатную машину лицевой стороной вниз, черный пончик помещался поверх этикетки, а вторая этикетка, на обратной стороне, помещалась поверх пончика. Затем верхняя часть пресса опускалась вниз, сжимая материал в тонкий диск, канавки которого формировались матрицами в верхней и нижней части пресса. Пока он остывал, прессовщик подготовил материал для второго пресса. И так продолжалось изо дня в день, в духе Диккенса в середине двадцатого века. Увидев это, я понял, как мне повезло, что я был инициатором этого бизнеса. «Острым концом» этой стороны, конечно, был и остается микрофон, и как таковой он заслуживает некоторого обсуждения в книге такого рода. Во-первых, когда я начинал, мы записывали только в моно, так что входной сигнал, сколько бы микрофонов ни использовалось, весь записывался на одну дорожку. Я также упомянул, что на панели управления было всего четыре поворотных регулятора. Это фактически ограничило количество используемых микрофонов до четырех, хотя иногда можно было подавать сигнал с двух микрофонов на один элемент управления. Были времена, когда мы использовали только один микрофон, чтобы добиться определенного типа звука, но в основном это была техника с несколькими микрофонами. Например, если бы вы записывали таких людей, как Айвор Моретон и Дэйв Кэй или Равич и Ландауэр, то у вас было бы два фортепиано, и вы использовали бы один микрофон для каждого фортепиано. По сегодняшним меркам это было довольно грубо.
Сами микрофоны тоже были довольно грубыми. Микрофоны с подвижной катушкой, которые мы использовали раньше, улавливали почти столько же звука сзади, как и спереди, а также по бокам! Они никоим образом не скрывали того, что слышали, а что нет. Это означало, что для создания хороших записей нужно было использовать как можно меньше микрофонов, поскольку взаимодействие одного микрофона с другим представляло ужасные проблемы. Это также означало, что относительное размещение микрофонов требовало большого мастерства, потому что это, как и размещение инструментов, было гораздо более важным, чем сегодня. Помимо всего прочего, микрофоны не могли уловить тот широкий диапазон частот, который возможен у их современных аналогов. По мере их совершенствования не только стал доступен более широкий диапазон частот, но и микрофоны стали более разборчивыми. Это относится к тому факту, что разные микрофоны имеют разные схемы срабатывания, или так называемые «полярные диаграммы». Если вы разместите современный микрофон в комнате, вы действительно сможете нарисовать картину того места, из которого он лучше всего принимает звук. Например, в телевизионных студиях часто можно увидеть использование микрофонов-пушек. Они чрезвычайно целенаправленны, но, вероятно, даже слишком. Они хороши для речи, но не подходят для музыки. Для записи в студии вы можете использовать различные микрофоны. Во многом это дело вкуса, и у инженеров и продюсеров есть свои предпочтения. Но хотя микрофоны значительно улучшились за последние десять лет, самые последние, на мой взгляд, не поспевают за прежним качеством. Одной из причин может быть то, что многие из более ранних конденсаторных микрофонов имели клапанное управление. В последние годы появилась тенденция избавляться от старых ламп – или «ламп», как их называют в Америке – и заменять их транзисторами; и пытаясь таким образом довести тот же базовый микрофон до современных стандартов, они кое-что потеряли. Например, старый микрофон Neumann U47 был супер, но его уже не купишь. Некоторые из них у нас еще есть, но они подобны золотому песку. Современная замена просто не так хороша. Опять же, C12, ламповый конденсаторный микрофон, оказался изумительным микрофоном. Он был очень чувствительным и мог четко улавливать вещи на довольно большом расстоянии — очень «горячий» микрофон, как сказали бы американцы. Но их тоже больше не производят, и купить их просто невозможно. Я считаю, что производители микрофонов не совсем понимают потребности звукозаписывающей индустрии. Их исследовательские отделы разрабатывают вещи, которые выглядят лучше, и чьи теоретические графики производительности прекрасно смотрятся на стенах; но они не проводят никаких исследований в самих коммерческих студиях, и это важно. Ведь мы все время экспериментируем. Тот факт, что я использую один микрофон для струнных на одной записи, не означает, что я всегда буду использовать один и тот же микрофон для всех струнных. Точно так же есть некоторые вещи, которые вы просто не можете сделать. Вы не сможете использовать C12 на большом барабане или электрогитаре, потому что, хотя он и очень хорош, он настолько чувствителен, что может очень быстро перегореть. Учитывая огромную громкость звука, которую мы сегодня используем в студиях, устойчивость микрофона имеет решающее значение. Раньше микрофоны были очень нетерпимы. Они были примерно такими же, как человеческое ухо, в том смысле, что не могли выдерживать огромное количество звуков. Но сегодня вы можете приобрести микрофоны, которые подойдут. Если вы зайдете в студию, где рок-группа играет на гитарах, звук может быть настолько громким, что вы окажетесь на пороге физической боли на расстоянии двадцати футов. Но микрофон будет находиться всего в трёх-четырёх дюймах от диафрагмы громкоговорителя, так что бедное электронное ухо выдержит потрясающую громкость. Опять же, это означает, что другие микрофоны должны быть максимально направленными, чтобы не улавливать края этого звука. Просто с точки зрения децибел это совсем другая техника, чем запись струнного квартета. Никогда еще это не было так очевидно, как тогда, когда я записывал оркестр Махавишну для Колумбии. Альбом назывался «Апокалипсис», и я думаю, что это был один из лучших альбомов, которые я когда-либо делал. Маха Вишну была рок-джазовой группой под руководством Джона Маклафлина, которую поддерживал Лондонский симфонический оркестр под управлением Майкла Тилсона-Томаса. Поскольку это была, как я бы сказал, очень живая работа, я сказал вначале: «Давайте попробуем записать это вживую». Это очень экстремально, но давайте посмотрим, смогут ли наши методы справиться с этим». Итак, я разместил LSO в нашей большой студии в AIR, а группу Махавишну поставил в угол. Все было довольно тесно. У меня хороший баланс звука в оркестре. У меня хороший звуковой баланс в группе. Но когда они начали играть вместе, слово «Апокалипсис» для этого не подходило. Это было невозможно. Я стоял рядом с Майклом Тилсоном-Томасом на трибуне, и после трех или четырех тактов он бросил свою палочку и в отчаянии сказал: «Джордж, я не слышу здесь даже первую скрипку». Хотя группа находилась далеко в углу, больше ничего не было слышно; разница в уровне звука, должно быть, составляла около шестидесяти децибел. Мне просто пришлось перевести их вообще в другую студию — бесполезно было бы просить их играть потише, потому что тогда они не играли бы то, что привыкли играть. Барабанщик не смог бы добиться правильного звучания своих инструментов, как и электрогитарист. Это всего лишь показатель того, какую работу приходится выполнять разным микрофонам. И это очень хрупкие инструменты: если вы перегрузите микрофон, установив в него слишком большую громкость, вы просто сломаете его. Мы используем U47 для вокала, но если поставить их перед барабанами, диафрагмы просто перестанут работать. Несмотря на это, мы все равно ломаем микрофоны. Причина в том, что мы всегда доводим оборудование до предела, пытаясь понять, как далеко мы можем зайти. Потому что это просто факт: чем ближе вы подходите к пределам, тем лучше будет ваш общий звук. Это похоже на вождение гоночной машины. Вы прекрасно знаете, что если надавить на 6000 оборотов, то коробка сложится. Итак, вы набираете 5900 оборотов в надежде, что он это выдержит. Сделайте это шестнадцать раз подряд, и есть вероятность, что в шестнадцатый раз все получится. В студии AIR нам приходится заменять около дюжины микрофонов в неделю. Это означает либо замену картриджа, либо отправку его обратно производителю для замены микрофона. Разумеется, микрофон преобразует звуковые частоты, которые он слышит, в серию электрических импульсов, которые записываются на пленку и затем передаются на пластинку. Но как они переводятся? Мы все знаем, что на пластинках есть грувы, но мне интересно, многие ли знают, как они выглядят. На монозаписи это V-образный канал, который при многократном увеличении выглядит как водоток с закругленным дном.
Стрелка, идущая по этой канавке, напоминает автомобиль, едущий по автостраде. Если представить диск неподвижным, а иглу движущейся, а не наоборот, то игла станет автомобилем. Но дорога не прямая, как автомагистраль; это больше похоже на извилистую английскую улочку. Следуя по этой дороге, игла покачивается из стороны в сторону. Чем острее изгиб, тем выше частота, генерируемая через иглу. В монозаписи эта канавка имеет постоянную глубину. Стрелка движется только вбок, подобно волне, повернутой набок, следуя за поворотами «дороги». Итак, если бы вы генерировали, скажем, постоянную частоту 3000 герц, таких «изгибов» было бы 3000 в каждую секунду игрового времени, и, следовательно, игла вибрировала бы 3000 раз в секунду. Громкость ноты определяется глубиной «изгибов», так что если очень тихо, игла будет двигаться почти незаметно. Но точно так же, как автомобиль на дороге перевернется, если попытается слишком быстро сделать крутой поворот, так и игла ограничена в возможностях. Если частота слишком высока и если модуляция (размах) слишком широка, кривая, по которой должна следовать игла, становится слишком острой, и она подпрыгнет и вылетит за пределы пластинки, как санки, перекатывающиеся через край. из Cresta Run. Таким образом, нарезка пластинки становится очень тонким искусством, вопросом извлечения из нее максимально возможного звука, не выбрасывая при этом иглу. Как и в случае с микрофонами, возможности нарезки дисков доведены до предела, потому что каждому нужна более громкая запись, чем у человека по соседству, и только опытный резак дисков может добиться максимального количества звука, не переусердствовав и не получив много брака. которые прыгают по канавкам. Я всегда посещаю сеансы нарезки своих пластинок, чтобы убедиться, что монтажер извлекает из них хороший звук. Но в равной степени на продюсере лежит определенная ответственность за создание пластинки, которую можно будет легко монтировать. Это объясняет, как мы выбираем одну частоту из канавки пластинки. Но музыкальное произведение, конечно же, содержит в себе множество частот. Фактически, ни один звук, который мы когда-либо слышим, за исключением звука компьютера, не состоит только из одной частоты. Например, если вы играете на фортепиано среднюю ля, наиболее различимая частота, которую вы услышите, — 440 герц. Но вы также услышите 880, а также, возможно, 660 и 330, которые являются естественными гармониками. Более того, если бы вы в любой момент остановили игру оркестра, вы могли бы сказать: «Сейчас мы слышим скрипки, альты, виолончели, контрабасы, фаготы, тромбоны, гобои, валторны, деревянные духовые инструменты, арфу, глокеншпиль и что бы ни.' Но вы также можете проанализировать частотный спектр в этот момент с помощью компьютера, и он даст вам полную картину в частотном отношении. По сути, он скажет вам: «Я слышу частоту 120 герц с амплитудой 32 децибела, 121 герц с амплитудой 37 децибел. . . ' и так далее. Грунт на пластинке отражает эту сложную комбинацию частот, а не следует упорядоченной серии кривых. Чистая нота в 440 герц будет иметь свое особое колебание, но если вы добавите ноту в 880 герц, кривая будет представлять собой комбинацию этих двух колебаний, и так далее по мере добавления новых частот. Тогда возникает вопрос, почему определенная частота, воспроизводимая на одном инструменте, звучит иначе, чем та же частота, воспроизводимая на другом. Ответ в том, что гармоники внутри ноты различны для каждого инструмента. Если вы посмотрите на дорожку, где фортепиано играло «А», а затем на то, где труба играла «А», вы увидите в обоих случаях общее колебание в 440 герц. Но внутри этого вы также увидите все маленькие украшения, дополнительные частоты, свойственные каждому инструменту. Есть и еще одно отличие – «конверт» банкноты, что примерно означает ее форму. Возьмите трубу. В первые несколько миллисекунд нота будет сравнительно тихой, почти ничего. Затем он станет довольно громким, после чего его громкость уменьшится, становясь устойчивой нотой, которая поднимается и падает в соответствии с вибрато. На фортепиано же первое, что вы услышите, будет очень сильный ударный шум при ударе клавиши по струне. Затем он очень быстро уменьшится, упадет ниже нормального уровня, поднимется, упадет и, наконец, успокоится до довольно устойчивого, но затухающего звука. Каждый инструмент имеет свою уникальную «оболочку» такого рода вместе со своим уникальным набором гармоник. Каждая из этих гармоник представляет собой частоту, которая является частью сложного набора кривых, интерпретируемых стрелкой.
Вот как работает монозапись. Но теперь у нас есть стерео. Фактически, это произошло вскоре после того, как я начал заниматься звукозаписывающим бизнесом. Они выпускали стереокассеты раньше, чем стереодиски, и могли бы записать стерео на старые шеллаковые диски со скоростью 78 об / мин. Но они так и не сделали этого, и только когда появились пластинки, стереосистема действительно получила признание. Основы стерео лежат в том, что мы слышим более одной записи одновременно, а также в том факте, что мы слышим двумя ушами. Несколько лет назад была мода на стереоизображения (казалось, они всегда появлялись в приемных у стоматологов), которые переходили в 3D, когда вы смотрели на них через специальные очки. Это работало за счет взаимодействия одного глаза с другим. Точно так же, как у нас есть два глаза, у нас есть два уха, и вполне естественно желание создать пространство и в записях. Оригинальный способ поместить два отдельных звука в канавку пластинки заключался в том, чтобы заставить иглу двигаться не только вбок, но и вверх и вниз: «дорога» имела не только изгибы, но и множество неровностей. Информация интерпретировалась механически: одна часть датчика считывала боковые движения, другая — движения вверх и вниз. Эта последняя часть была известна как запись «холм и долина». Вскоре оказалось, что это не очень хорошая система. Во-первых, было очень сложно выпускать хорошие пластинки, потому что теперь существовало два разных направления, в которых слишком громкий звук мог заставить иглу подскочить. Казалось, его чаще отбрасывали, чем оставляли! Во-вторых, между двумя движениями существовала определенная обратная связь, которая взаимодействовала так, что в середине получалось искажение. Ответ пришел от человека по имени Блюмляйн, который работал в EMI в Хейсе. Ему пришла в голову идея канавки, объединяющей два разных движения, идущих бок о бок под углом в сорок пять градусов друг от друга. Теперь игла анализировала два набора боковой информации посредством гораздо более сложного типа датчиков. Было два набора информации, каждый из которых поступал в отдельный громкоговоритель. Но самое удивительное заключалось в том, что для наших ушей при таком функционировании существовало не просто два набора, а почти безграничное разнообразие. Это было доказано на первых демонстрациях стереозаписей. Два динамика были помещены за плотными марлевыми занавесками. Затем были проиграны демонстрационные диски, все призванные подчеркнуть стереоэффект. Были записи матчей по пинг-понгу, щелканье железнодорожных вагонов, проезжающих по разъездам, поездов, проносящихся по станциям, ревущих над головой реактивных самолетов и так далее. Слышны были не только звуки, исходящие из динамиков слева и справа, но и все, что исходило из центра. Я хорошо помню то волнительное чувство сопричастности, которое возникало, когда впервые услышал это. Затем, когда демонстрация закончилась, марлевые занавески раздвинулись - под охи и ахи зала, потому что в центре, конечно, не было оратора; однако вы могли бы поклясться, что слышали что-то, доносившееся оттуда. И в каком-то смысле вы это сделали. За нас это сделало человеческое ухо. Если вы воспроизводите монозапись на двух динамиках, уши автоматически балансируют эти звуки и слышат их так, как если бы они исходили из середины. Но, в отличие от моно, стерео имело два разных источника звука, и все, что требовалось продюсеру, — это идеальный пространственный подход. Если звук исходил только из левого динамика, вы могли бы услышать его только как исходящий из левого динамика. То же самое и с правым. Если звук был одинаковым на обоих динамиках, он появлялся, как и в случае с моно, посередине. Но на этом дело не закончилось. Вы можете поместить звук в любую точку между двумя динамиками, просто за счет пропорции этого звука, который вы передаете в один динамик, по сравнению с другим. Частично это было достигнуто за счет размещения микрофонов во время записи, но главным образом за счет того, где вы решили разместить эту информацию во время сведения записи. Например, когда я делал запись с Питером Селлерсом, в которой он играл всех пяти персонажей в своего рода пародии на Brains Trust, я записал его только в моно, как пять отдельных треков, по одному на каждый голос. Затем я смикшировал эти треки в стерео. Интервьюер или председатель, очевидно, должен был находиться посередине, чтобы голос одинаково звучал на каждой дорожке. Голоса, которые должны были сидеть в концах, пошли один на левую дорожку, а другой - на правую. Затем, чтобы получить полулевую и полуправую сторону, я поместил каждый из этих голосов на три четверти в одну дорожку и четверть в другую. Это дало желаемый эффект. Фактически, разнообразие положений, в которых может быть размещен звук, ограничено исключительно точностью баланса, которого вы можете достичь между двумя треками. Физик скажет вам, что пространство связано со временем, но продюсер уверит вас, что оно также тесно связано со звуком. Однако стерео дало нам больше, чем просто возможность слышать вещи, доносящиеся из разных мест по горизонтали. Был бонус. Это дало нам перспективу. Точно так же, как стереофотография позволяла нам видеть предметы как на заднем, так и на переднем плане, так и стереозапись придавала нам глубину. Мы могли слышать что-то впереди и что-то сзади, и атмосфера наших записей стала намного более реалистичной. Послушайте хорошую стереозапись и попытайтесь «увидеть» своими ушами, и теперь вы услышите, что звуки действительно различаются по глубине. Конечно, с квадрофонической записью можно пойти еще дальше: можно размещать звуки повсюду. Но это еще не прижилось, и я сомневаюсь, что когда-нибудь это произойдет. Это слишком сложно и слишком обременительно для обычного человека. Маме не очень нравилось, когда в гостиной появлялись два динамика, и еще меньше ей нравилось, когда ей угрожали четырьмя. Я считаю, что для всех практических целей стерео вполне достаточно. И хотя квадрофонические ленты хороши, процесс изготовления четырехдисковых дисков ужасно сложен. Вам понадобится декодер и два стереоусилителя, а если вы хотите создавать четырехкратные записи, которые можно будет воспроизводить на стереомашинах, ситуация становится еще хуже: между треками возникает много «перекрестных помех», из-за чего звучат более нечисто, чем на простой стереозаписи. На самом деле, я настолько убеждён в том, что квадрокоптеры пришли и ушли, что при проектировании наших новых студий в Мон-Серрат мы не включили квадро-записывающее оборудование. Стерео, однако, это совсем другое дело. Когда он прибыл, одной из наших первых проблем было то, как лучше всего разместить микрофоны. Вначале у нас было два пути. Один должен был иметь два микрофона, каждый в углу студии, обращенный по двум диагоналям. Таким образом, вы получаете два разных типа информации из одного и того же источника. Другой способ — использовать то, что мы называем стереопарой. Это когда два микрофона, «кардиоидного» или «ленточного» типа, располагаются вместе в центре записи, но обращены друг от друга под углом девяносто градусов. Из-за их особой схемы звукоснимания, как на «полярных диаграммах», о которых я упоминал ранее, микрофон, обращенный влево, не только будет улавливать левую часть оркестра, а другой — правую, но каждый из них будет улавливать левую часть оркестра, а другой — правую. также заберите немного площади другого. В результате звук будет распространяться по всей стереокартине; когда он записан на стереоленту в виде двух сигналов, по одному от каждого микрофона, он будет иметь тот же разброс, что и пара микрофонов, полученная в первую очередь. Это был простой способ сделать стереозапись. Сегодня, как с классической, так и с рок-музыкой, это стало очень сложным делом. Мы используем не только стереопары, но и моно микрофоны, сигнал которых подается в стереокартину туда, куда захочет продюсер. Все это чисто дело вкуса. Например, при использовании электрического пианино Fender многие продюсеры придают ему собственный стереоэффект, заставляя его колебаться между одним динамиком и другим. Stereo перевело продюсера в царство «всё можно». Ему больше не нужно было думать о том, как сделать запись так, как оригинал звучал бы на сцене или в концертном зале. Он мог издавать любой искусственный звук, какой хотел, при условии, что он приятен уху. На альбоме Sergeant Pepper мы делали всякие штуки со стереоэффектом. У нас были дела в абсурдных положениях. У нас было движение, когда инструмент плавал из одной стороны в другую, создавая у слушателя впечатление, что он почти пролетает над его головой. С другой стороны, вкус не позволил бы вам попробовать нечто подобное, если бы вы записывали Фортепианный концерт Рахманинова. Людям нравится слушать свои любимые произведения, записанные так, чтобы напоминать концертный зал. Они не хотят, чтобы фортепиано в середине своей каденции пролетело сквозь крышу и перелетело на другую сторону платформы. Не менее важно и то, что Рахманинов не имел этого в виду. Но если я собираюсь написать электронное произведение под названием «Космическая одиссея», я могу делать все, что захочу, и единственным моим сожалением будет то, что я не смогу воспроизвести записанный мной звук в зале.
Но опять же, вы должны помнить, что аудитория — это не просто одно место. Есть места прямо спереди, а другие - сзади. Так где же разместить звук? Как я уже сказал, это дело вкуса, но если я записываю фортепианный концерт, мне хочется, чтобы он звучал так, как будто ты стоишь прямо перед оркестром, немного позади дирижера. Фортепиано у меня будет в центре, первая и вторая скрипки слева, альты и виолончели справа. Арфа, вероятно, будет идти слева, трубы и тромбоны, возможно, справа, валторны и деревянные духовые инструменты - в центре. Что-то вроде того. Чего я бы никогда не сделал, так это чтобы это звучало так, как будто вы слушаете это из задней части зала, по одной очень веской причине. Когда пластинка воспроизводится дома, комната становится аудиторией, и чем дальше вы находитесь от колонок, тем более монофоническим становится звук. Доводя это до абсурда, если вы стоите в миле от пары стереодинамиков на расстоянии четырех футов друг от друга, вы вообще не услышите никакого стереоэффекта. Но если вы войдете в магический треугольник, равносторонний треугольник, вершиной которого вы являетесь, а два других угла — двумя динамиками, это будет идеальная позиция. Некоторые люди, в том числе немало инженеров, на самом деле предпочитают сидеть за пределами этого треугольника; я предпочитаю сидеть внутри него. Однако если бы вы сделали оригинальную запись с целью воспроизвести звук из задней части зала, вы не получили бы большого стереоэффекта, где бы вы ни сидели, как и в реальной жизни. Опасность стереозаписи связана с тем, что мы используем большее количество микрофонов. Разумеется, чем больше мы используем, тем больше у нас гибкости в размещении на нашей стереокартине конкретного звука, записываемого каждым микрофоном. Но это приводит к риску уловить слишком много того, что записывают другие микрофоны, что может привести к появлению «призрачных изображений». При записи живого выступления вы обязательно получите определенный звук между микрофонами. Например, вы обязательно получите определенное количество труб на струнном микрофоне - хотя наоборот, струны на трубном микрофоне маловероятны, поскольку трубы намного громче. В студии Abbey Road Number One, большой, живой и очень реверберирующей, мы получили великолепный звук струнных, но проклятием нашей жизни было огромное количество «грязи», которую мы собирали на струнных микрофонах от других инструментов — баса. гитара, барабаны, тяжелые духовые инструменты. Не то чтобы я хотел полностью это исключить. На мой вкус, определенное его количество помогает придать окраску звуку. Иногда я намеревался сделать это намеренно. При записи барабанов я иногда ставлю микрофон на расстоянии, чтобы получить звуковое пространство вокруг них. Причина в том, что сегодняшняя техника записи с близкого расстояния означает, что вы склонны терять большую часть естественных обертонов. Так что я на самом деле поощряю некоторую утечку звука между одним микрофоном и другим. Это правда, что для достижения разделения звуков часто необходимо использовать микрофоны с близкого расстояния. Опять же, это вопрос размещения. Если у вас есть кардиоидный микрофон в десяти футах от одного инструмента, а другой инструмент в десяти футах позади первого, вы уловите больше звука второго инструмента, чем если бы вы поместили микрофон в четырех дюймах от первого, а второй - в двадцати футах. позади. Но некоторые инструменты плохо работают при близком расположении микрофона. Скрипка звучит ужасно, если поставить микрофон на расстоянии четырех дюймов от нее. Вы теряете весь прекрасный резонанс тела, генерирующего звуки, и вместо этого улавливаете все царапины и скрежетания, которые услышали бы, если бы поднесли ухо к скрипке во время игры. Я помню John Barry Seven – еще до того, как Джон стал кинокомпозитором, записывая пьесу, в которой он использовал четыре скрипки с микрофонами примерно в четырех дюймах от них и с сильным эхом. Пиццикати звучали как пулеметные выстрелы! Да, это был эффектный звук, но это был трюк, и мне не нравится слушать скрипки. Помимо всего прочего, вы теряете выгоду Страдивари и его коллег! С другой стороны, большой барабан будет звучать дряблым и гулким, если вы запишете его на расстоянии. Но поместите микрофон на расстоянии двух дюймов от него, и вы получите приятный четкий звук, который нужен для рок-инструментов. Это вопрос лошадей на курсах, а задача продюсера – знать характеристики каждого инструмента так же хорошо, как и технические качества разных микрофонов. Когда появилось стерео, именно с помощью подобных техник продюсер мог наилучшим образом использовать новый инструмент, который ему дали. Но поначалу у стерео было одно большое ограничение. Фактически это были две отдельные записи, на двух отдельных треках – и только две. Никакого повторного микширования не было. Мы делали запись по ходу дела, и, если не считать некоторой эквализации, немного обрезая верхние и нижние частоты или сжимая их - это был конечный продукт. Вы не могли изменить баланс между инструментами на ленте. Отношения голоса и ритма, барабанов и баса были зафиксированы сразу после записи. Было совершенно очевидно, что было бы большой роскошью, если бы мы могли как можно дольше отложить момент истины, момент объединения всех этих звуков в конечный продукт. На это был только один возможный ответ: больше треков. К счастью, они были в пути. Они нам понадобятся.
«Тяжелые дни и ночи» в апреле 1962 года мне позвонил Сид Коулман, друг и один из приятных парней в музыкальной индустрии, который возглавлял Ardmore & Beechwood, издательскую компанию EMI с офисами над магазином HMV на Оксфорд-стрит. «Джордж, - сказал он, - я не знаю, заинтересуется ли ты, но есть парень, который пришел с записью группы, которой он руководит. У них нет контракта на запись, и мне интересно, не хотите ли вы увидеть его и послушать, что у него есть?' — Конечно, — сказал я. «Я готов выслушать что угодно. Попроси его зайти ко мне. 'Хорошо, я буду. Его зовут Брайан Эпстайн. Когда я сказал, что готов выслушать что угодно, это была абсолютная правда. Комедийные пластинки были в порядке, и Парлофон начал прославляться. Но я с чем-то близким к отчаянию искал артиста из мира поп-музыки. Я откровенно завидовал тому, казалось бы, легкому успеху, которого добились другие люди, в частности Норри Парамор, мой коллега по «Колумбии», чей артист Клифф Ричард явно автоматически шел к славе. Мне казалось, что все, что нужно для создания такого человека, — это хорошая песня, тогда как с комедийными записями каждая из них представляла собой крупное произведение. Например, я записал «Hole in the Ground» с Бернардом Криббинсом; но автоматического продолжения такой записи не было. Мне пришлось искать, пока мы не нашли «Правильно сказал Фред». Поддержание такого рода стандартов означало каждый раз совершенно новый набор идей, потому что Бернард Криббинс не продавался только потому, что он был Бернардом Криббинсом. Это была комбинация Бернарда Криббинса и очень забавной песни, которая продавалась, в то время как кто-то вроде Клиффа Ричарда продавал все, что он записывал. Чего я хотел, так это «подобного противопожарного действия». На следующий день после звонка Сида ко мне пришел Брайан Эпштейн — хорошо говорящий, хорошо одетый, обаятельно дружелюбный, «чистый» молодой человек. Чего я тогда не осознавал, так это того, что он находился в Лондоне в своей последней, отчаянной попытке заинтересовать кого-то своей группой «Битлз». Decca отказала им, дав им как минимум два прослушивания. Пай, Филлипс и все остальные сразу же им отказали. Он даже был в EMI через хорошие услуги Рона Уайта из отдела продаж EMI, которого Брайан и его отец знали через NEMS, большой музыкальный магазин, которым они управляли в Ливерпуле. Рон Уайт говорит, что двое из четырех руководителей лейбла EMI слышали записи «Битлз» раньше меня. Остальными тремя были Норман Ньюэлл, Уолтер Ридли и Норри Парамор. Двое из этих троих, должно быть, были по крайней мере так же виновны, как бедняга Дик Роу из Decca, которому досталась вся общественная «палка». Для своей последней работы Брайан решил, что ему следует вырезать несколько дисков из кассеты, которая была у него с собой, потому что их будет легче воспроизводить людям. Именно это привело его в магазин HMV на Оксфорд-стрит, в одном из отделов которого за плату примерно в 110 фунтов каждый мог получить запись диска в частном порядке. Инженером, который записывал для него диски, был Тед Хантли, который раньше работал в студии EMI и который, как мне кажется, сейчас успешно вышел на пенсию и управляет отелем в Джерси. Тед подумал, что звук, который он слышит, был довольно хорошим, и пока Брайан был еще с ним, он позвонил Сиду Коулману этажом выше. «Думаю, вас может заинтересовать эта группа, — сказал он, — потому что я не думаю, что у них на данный момент есть издатель». Итак, Брайан поднялся наверх со своими только что нарезанными дисками. Но он сказал Сиду: «Я не думаю, что мне нужен издатель, пока я не заключу контракт на запись». Сид спросил: «Ну, а какие у тебя были дела со звукозаписывающими компаниями?» Брайану пришлось признаться, что он уже побывал в большинстве звукозаписывающих компаний. — Почему бы тебе не зайти и не увидеться с Джорджем Мартином в «Парлофоне»? - сказал Сид. — Он занимается необычными вещами. Он добился большого успеха с самыми неожиданными записями. Если хотите, я позвоню ему и назначу встречу. Так Брайан приехал в мой новый офис на Манчестер-сквер, куда мы переехали с Грейт-Касл-стрит. Для начала он устроил мне большую шумиху по поводу этой чудесной группы, которая делала такие замечательные вещи в Ливерпуле. Он рассказал мне, что все там наверху думали, что они колени пчелы. Он даже выразил удивление, что я о них не слышал, что в данных обстоятельствах было довольно смело. Я почти спросил его в ответ, где находится Ливерпуль. Мысль о том, что что-то исходит из провинции, была в то время необычной. Потом он проиграл мне свой диск, и я впервые услышал звучание «Битлз». Запись, мягко говоря, не стала нокаутом. Я прекрасно понимал, что люди отвергли это предложение. Материал представлял собой либо старые вещи, такие как «Your Feet's Too Big» Фэтса Уоллера, либо очень посредственные песни, которые они написали сами. Но . . . было необычное качество звука, определенная грубость, с которой я раньше не сталкивался. Был также тот факт, что пели более одного человека, что само по себе было необычно. Было что-то осязаемое, что заставило меня захотеть услышать больше, встретиться с ними и посмотреть, на что они способны. Слушая, я подумал: ну, возможно, здесь что-то есть. По крайней мере, за этим стоит следить. Я не стоял на руках у стены и не говорил: «Это величайшая вещь на свете!» Я просто подумал, что стоит попробовать. Я предложил Брайану привезти ребят, которые в то время выступали в Star Club в Гамбурге, в студию Abbey Road для пробной записи. Неизвестный мне в то время, он внутренне застонал. Ему казалось, что он уже слышал такую песню раньше. Но мы пошли дальше и назначили дату на 6 июня. Это была любовь с первого взгляда. Это может показаться преувеличением, но факт в том, что мы сразу нашли общий язык. Я встретил их в студии номер три на Abbey Road, где мы должны были проводить тест — Джон, Пол, Джордж и Пит Бест, их барабанщик, со всем своим оборудованием. Мое первое впечатление было то, что все они были довольно чистыми. Очевидно, это было влияние Брайана. Их стрижки, конечно, были довольно шокирующими для того времени, хотя по сравнению с сегодняшними прическами они были почти короткими с затылком и по бокам. Но больше всего впечатляли их обаятельные личности. Они были просто замечательными людьми. С их точки зрения, я полагаю, я был довольно знаменит. Они были большими поклонниками Питера Селлерса и знали, что я записывал его и другие комедийные пластинки, и они, очевидно, были готовы полюбить меня, зная, что я сделал. Я помню, как Джордж Харрисон был самым разговорчивым на той первой встрече, а Пит Бест не произнес ни слова за весь день. Но у него было то преимущество, что он был самым красивым в компании, очень угрюмым и чем-то похожим на Джеймса Дина. С другой стороны, его игра на барабанах была не очень хороша. В конце теста я отвел Брайана в сторону и сказал: «Я не знаю, что вы собираетесь делать с группой как таковой, но эта игра на барабанах недостаточно хороша для того, чего я хочу». Это недостаточно регулярно. Он не дает нужного звука. Если мы все-таки запишем пластинку, я бы предпочел иметь своего собственного барабанщика – для вас это не будет иметь никакого значения, потому что никто все равно не узнает, кто будет на пластинке». Чего я тогда не осознавал, так это того, что группа уже хотела убрать Пита Беста и принять Ринго Старра, и что мои замечания были чем-то вроде последней капли. Группа в целом подтвердила своей игрой мое прежнее ощущение, что мы сможем что-то сделать вместе. Но что это будет за нечто, было большим вопросом. На тесте они сыграли несколько своих собственных номеров, таких как «Love Me Do», «Hello Little Girl», «PS I Love You» и «Ask MeWhy». Остальное было в основном старым материалом, например, «Besame Mucho», каким он был на дисках, которые Брайан проигрывал мне. Честно говоря, материал меня не впечатлил, особенно их собственные песни. Я чувствовал, что мне придется найти для них подходящий материал, и был совершенно уверен, что их способности писать песни не имеют будущего для продажи! К июлю я принял решение и сказал Брайану, что хочу подписать контракт с «Битлз». Это был трудный контракт. Сначала это длилось год, в течение которого я гарантировал запись четырех титулов. Взамен они, четверо из них и Брайан, получали в общей сложности по одному пенни за каждую проданную двустороннюю пластинку - огромную сумму, которую можно было бы разделить между ними пятерыми! Затем было еще четыре варианта по году каждый, и я с чрезвычайной щедростью включил ежегодное повышение гонорара поэтапно по одному фартингу. На второй год они получали пенни-фартинг и так далее до королевской суммы в два пенса на пятый год. Если бы я решил воспользоваться этими возможностями, это означало бы, что они были связаны с EMI на пять лет, в течение которых меня не заставляли записывать более двух синглов в год. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был хороший показатель обучения/промывания мозгов EMI, которому я подвергся. Но, по крайней мере, им дали контракт на запись. Нет сомнений в том, что, поскольку для них все сложилось, у меня был последний шанс. В то время я был главным шутником в кругах музыкального бизнеса, и если бы я тоже им отказал, очень трудно предположить, что бы произошло. Возможно, они бы просто расстались, и о них больше никогда бы не услышали. И даже я не понял это с самого начала. Когда я впервые встретил их, явного лидера не было. Все они говорили по очереди, и я пошел домой, гадая, кто из них станет звездой. Мои мысли были настолько окрашены успехом таких людей, как Томми Стил и Клифф Ричард, что я не мог себе представить, чтобы группа была успешной как группа. Я чувствовал, что у одного из них голос обязательно будет лучше, чем у остальных. Кто бы это ни был, он будет единственным, а остальные станут похожими на группу поддержки Клиффа Ричарда, «Тени». Я был совершенно неправ. Я протестировал их всех индивидуально, заставляя их петь номера по очереди, и первоначально мне показалось, что у Пола более приятный голос, у Джона более характерный голос, а Джордж в целом был не так хорош. В целом я думал, что мне следует сделать Пола лидером. Затем, после некоторых раздумий, я понял, что если бы я это сделал, то изменил бы природу группы. Зачем это делать? Почему бы не оставить их такими, какие они есть? Раньше этого не делалось, но я сделал много записей, которые «не делались раньше». Почему бы не поэкспериментировать с поп-музыкой, как я это сделал с комедией? Идея укрепилась, когда я решил, прежде чем мы запишем пластинку, поехать с Джуди в Ливерпуль, чтобы посмотреть «на месте», о чем идет весь этот шум. «Пещера» представляла собой маленькое, потное место, похожее на железнодорожную арку. Это было буквально похоже на темницу. Там были арочные кирпичные стены, и в одной из пещер играли мальчики. Часть зрителей находилась в соседних арках, так что группу даже не могла видеть. Но они могли их услышать. Как они могли их слышать! Многие люди могли услышать их из доков Ливерпуля. Зал был забит подростками, сидящими на голых скамейках, и не было места для танцев. Часто рассказывали, что, когда мы пришли сюда, наши шляпы и пальто забрала продавщица шляп по имени Силла Блэк, но она горячо это отрицает, и я, конечно, этого не помню. Но я помню, что нам пытались освободить место, что было невозможно, так как его не было, а это означало, что некоторых детей пришлось убрать. В одном случае это было принудительное удаление, когда девушка потеряла сознание, и ее пришлось выносить единственным возможным способом, переходя от руки к вытянутой руке, лежа на спине над головами всех остальных. Стены были покрыты конденсатом. Удивительно, что мальчиков не ударило током, потому что вода была повсюду — смесь общей сырости и пота, испарявшаяся и вновь конденсировавшаяся на стенах. Атмосфера тоже была тем, что часто, хотя и ошибочно, называют «электрической». Они пели все рок-н-ролльные номера, скопированные с американских пластинок, и это было очень хрипло, и детям нравилась каждая минута. До сих пор не было ничего, что могло бы вовлечь молодежь в такой же степени. Рок-н-ролльные движения Томми Стила и Клиффа Ричарда были клиническими, анемичными и даже анестезирующими по сравнению с полной самоотдачей «Битлз», которая каким-то образом доходила до самых корней того, чего хотели дети. Они были группой, и группой, которой им пришлось оставаться, и 11 сентября 1962 года мы наконец собрались вместе, чтобы записать свою первую пластинку. Поскольку они, очевидно, очень любили свои собственные песни, я попросил их предоставить мне подборку. Из этой подборки мы выбрали «Love Me Do» при поддержке «PS I Love You».
Я хотел с самого начала вовлечь их в технику записи, поэтому после первого прогона я позвал их в аппаратную, чтобы послушать воспроизведение. «Это то, чем вы занимались», — сказал я. «Вы должны это выслушать, и если вам что-то не нравится, скажите мне, и мы постараемся что-нибудь с этим сделать». Именно тогда Джордж Харрисон, умник, ответил: «Ну, во-первых, мне не нравится твой галстук». Все падали со смеху, а остальные игриво били его, как это делают школьники, когда кто-нибудь из них наглел по отношению к учителю. Позже я узнал, что, когда они были вне моего слышимости, они снова обратились к нему по этому поводу и сказали: «Ты не должен говорить ему такие вещи». Он очень обидчивый. Дело в том, что мне тоже показалось это забавным. Как я узнал, это был типичный битловский юмор. Но была проблема с юмором той первой сессии. Они сказали мне, что нашли отличного барабанщика из другой группы, которого звали Ринго Старр и который заменит Пита Беста. Я сказал: «Хорошо. Возьмите его с собой и пусть он посмотрит, что мы делаем, и в следующий раз он попробует». Однако, когда они появились, Ринго и все остальные, они были полностью уверены, что он немедленно примет участие. Я бы на это не пошел, тем более что я нанял очень опытного и хорошего сессионного музыканта по имени Энди Уайт, чтобы он играл на барабанах. Поэтому я сказал им: «Это ерунда. Меня укусили один раз. Я даю вам очень хорошего барабанщика, который, возможно, лучше Ринго Старра, и именно он будет играть на барабанах». Ринго явно был очень расстроен. Позже я узнал, что он был очень расстроен этим и думал, что я пытаюсь его унизить. Но я не был. Я просто не знал, что он из себя представляет, и не был готов рисковать. В итоге мы пришли к компромиссу. Мы сделали две версии «Love Me Do». На одном из них Энди играл на барабанах, а Ринго – на бубне. С другой стороны, Ринго играл на барабанах. Я думаю, что в итоге мы выпустили ту, где Ринго играет на барабанах, но что случилось с версией с ним на бубне, я просто не знаю. Для меня это не имело значения тогда, и не имеет значения сейчас, хотя я знаю, что все битловские маньяки будут кричать: «Боже!» Такой важный исторический факт. Тебе следовало бы это записать! Но я быстро понял, что Ринго был отличным барабанщиком для того, что требовалось. Он не «технический» барабанщик. Такие люди, как Бадди Рич и Джин Крупа, окружали его кольцом. Но он хороший рок-барабанщик с очень ровным битом и знает, как добиться правильного звука из своих барабанов. Прежде всего, у него есть индивидуальное звучание. Барабаны Ринго можно отличить от барабанов любого другого человека, и этот персонаж был определенным преимуществом в ранних записях Битлз. Мы выпустили «Love Me Do» 4 октября, и я начал процесс его распространения. Не то чтобы EMI сильно помогла. Ко мне уже относились с некоторым скептицизмом из-за странных записей, которые я сделал, и когда я объявил, что выпускаю пластинку группы под названием «Битлз», все на ежемесячном собрании дополнительных приложений рассмеялись. — Это еще один трюк Джорджа? кто-то спросил. — Это действительно замаскированный Спайк Миллиган? Я сказал им: «Я серьезно. Это великолепная группа, и мы еще много услышим от них». Но никто не обратил на это особого внимания. Они были слишком заняты смехом. А Ardmore & Beechwood, издатели EMI, чей Сид Коулман первым поручил мне Брайана Эпштейна, практически ничего не сделали для того, чтобы пластинка была проиграна. Но я был полон решимости. К этому моменту я был абсолютно убежден, что у меня в руках хитовая группа - хотя я знал, что у меня не было ее с первой пластинкой, чувствуя, что качество песни не совсем соответствует этому. В конце концов, он занял лишь семнадцатое место в чартах, несмотря на попытки Брайана Эпштейна протолкнуть его через семейный магазин. Я помню, как Брайан позвонил мне и сказал, что не может получить свежие поставки пластинки - что было печально, поскольку я полагаю, что большая часть продаж, которые продвинули ее даже до семнадцати, были в Ливерпуле. «Что, черт возьми, происходит с EMI?» – потребовал Брайан. Я чертовски хорошо знал, что происходит, точнее, чего не было. Жители юга просто не верили в этот рекорд, хотя по крайней мере семнадцатая цифра была началом. Брайан был недоволен. «Ardmore & Beechwood не очень помогли нам с этой пластинкой. Когда выйдет следующий, я не хочу отдавать им публикацию». «Может быть и так, — сказал я, — но первоочередная задача — найти хит, который мальчики могли бы спеть». Я приступил к выполнению задачи. Я знал, что он у меня есть, когда Дик Джеймс принес мне номер, написанный Митчем Мюрреем, под названием «Как ты это делаешь?» После того, как он сыграл ее мне, я вскочил и сказал: «Вот и все. У нас это есть. Это песня, которая сделает имя «Битлз» нарицательным, как и Harpic». Брайан продолжил поиски нового издателя. Наконец он пришел ко мне и сказал, что собирается передать издание американской компании Hill & Range. «Почему американская компания?» Я спросил. «Потому что они очень хорошие издатели, и, кроме того, они делают все, что связано с Элвисом Пресли». «Ну, на самом деле это не имеет смысла, Брайан, - сказал я, - потому что на самом деле тебе нужен кто-то, кто будет работать на тебя изо всех сил, кто-то, кто даст нам дополнительный толчок, который мне нужен, чтобы заткнуть пластинки. Другими словами, тот, кто голоден. — Итак, к кому мне пойти? он спросил. «Как я уже сказал, тот, кто голоден, и, прежде всего, тот, кто очень натурал». Я назвал ему имена трех очень хороших друзей, всех из которых я знал как честных людей и очень трудолюбивых издателей — Дэвида Платца, Алана Холмса и Дика Джеймса. Единственная проблема с Дэвидом и Аланом заключалась в том, что они, как и Hill & Range, принадлежали американцам. И они не были такими голодными, как Дик, который только что покинул Сидни Брон, чтобы основать собственную издательскую компанию. Ему нужна была работа, ему нужны были деньги, ему очень нужен был успех. Поэтому я предложил Брайану в первую очередь встретиться с ним. Дик был первым человеком, которого я записал по собственной инициативе в первые дни работы под руководством Оскара Пройсса. Изобель Бёрдетт, мой знакомый на BBC, сказала мне: «Дик недоволен своей нынешней аранжировкой записи. Почему бы тебе не встретиться с ним? Вы бы хорошо ладили вместе. Так оно и оказалось. Мы сделали несколько честных рекордов. Одной из них была «Tenderly», для записи которой я впервые использовал молодого аранжировщика по имени Рон Гудвин, который работал с Петулой Кларк. Это было началом моего долгого сотрудничества с Роном. Дик был в восторге. Он сразу согласился взять на себя издательство и при этом заключил очень выгодную сделку. Он предложил Брайану основать новую компанию под названием Northern Songs, 50 % которой будет принадлежать ему, а остальные 50 % — Битлз и Брайану. Это было умно, потому что, предложив долю в 50%, он гарантировал, что они подпишут контракт на длительный период времени, в течение которого все их работы будут принадлежать исключительно этой компании. Он бы не заключил такую сделку, если бы предложил им меньшую долю. Кроме того, как я позже узнал, он поставил условием, чтобы обработка и управление «Северными песнями» осуществлялась Dick James Music, которая взяла с себя 10% комиссию за обработку. Фактически, из каждых 100 фунтов гонораров Dick James Music получал 10 фунтов, а оставшиеся 90 фунтов делились поровну 50 на 50. Затем он великодушно подошел ко мне и предложил мне долю в компании. Я не мог принять. — Очень любезно с вашей стороны так думать обо мне, — сказал я. — Но с другой стороны, это не этично. Я работаю в EMI. Я сотрудник EMI, и я участвую в акции, и поэтому, в некотором смысле, я вовлекаю вас. Я думаю, было бы неправильно разделять мои интересы». В то время я еще не мог знать, что произнесение этих нескольких слов равносильно отказу от миллионов фунтов. Но это ни здесь и не там. Я, конечно, не миллионер, но могу сказать, положа руку на сердце, что не жалею, что отказался от предложения. Мне очень повезло с тем, что я сделал. И я хорошо сплю по ночам. После того, как было организовано издание, немедленной задачей было выпустить следующую пластинку, и когда мы с «Битлз» в следующий раз собрались вместе, я сыграл им «How Do You Do It?». Были не очень впечатлены. Они сказали, что хотят записать свой материал, и я прочитал акт. «Когда вы сможете написать такой хороший материал, я его запишу», — сказал я им. «Но прямо сейчас мы собираемся это записать». И мы это записали, где Джон исполнял сольную партию. Это действительно была очень хорошая пластинка, и она до сих пор находится в архивах EMI. Я услышал это недавно, и оно звучит неплохо даже сегодня. Но оно так и не было выпущено. Ребята вернулись ко мне и сказали: «Мы ничего не имеем против этой песни, Джордж, и ты, наверное, прав. Но мы хотим записать свою собственную песню». Я спросил их несколько раздраженно: «Есть ли у вас что-нибудь стоящее?» — Ну, послушай, Джордж. Вы слышали эту песню раньше «Please Please Me», но мы ее обновили и сделали вот так. . . ' Я слушал. Было здорово. — Да, это хорошо, — сказал я. «Давайте попробуем вот это». Я сказал им, какое начало и какой конец поставить, и они пошли в студию номер два записывать. Все прошло прекрасно. Весь сеанс был в радость. В конце я нажал кнопку интеркома в аппаратной и сказал: «Джентльмены, вы только что сделали свой первый рекорд номер один». Они имели. Дик работал как демон после выхода пластинки в январе 1963 года. Ему удалось связаться с Филипом Джонсом, который возглавлял отдел легких развлечений на одной из коммерческих телестанций, и убедить его включить «Битлз» в программу «Спасибо вашим счастливым звездам». '. Это был потрясающий переворот. Вдобавок ко всему, EMI наконец-то оправилась и поняла, что Джордж не такой уж и сумасшедший и что это стоит поддержать. Они действительно включили пластинку в своей программе «Радио Люксембург», что было очень прилично с их стороны. Он очень быстро достиг первого места, и внезапно все это поросло снежным комом, грибами и другими смешанными метафорами, о которых вы только можете подумать. С этого момента мы просто никогда не стояли на месте. После успеха «Please Please Me» я понял, что нам нужно действовать очень быстро, чтобы вывести на рынок долгоиграющий альбом, если мы хотим заработать на том, чего уже достигли. Потому что, хотя сингл, который продаётся тиражом в полмиллиона, не приносит такой уж большой награды, полмиллиона альбомов — это большой бизнес. Я знал их репертуар по «Пещере», позвал ребят в студию и сказал: «Хорошо, то, что вы собираетесь сделать сейчас, сегодня, прямо сейчас, — это сыграть мне эту подборку вещей, которые я выбрал из того, что ты делаешь это в Пещере. Всего там было четырнадцать песен, некоторые «Битлз», некоторые американских исполнителей, которых они любили копировать. Мы начали в десять утра с Норманом Смитом в качестве инженера по балансу и записали сразу в двухдорожечное моно. К одиннадцати часам вечера мы записали все тринадцать новых треков, к которым добавили уже существующую запись «Please Please Me». Все, что мы на самом деле сделали, это воспроизвели выступление Cavern в относительной тишине студии. Я говорю «сравнительный», потому что был один номер, который всегда вызывал фурор в «Пещере» — «Twist and Shout». Джон просто кричал об этом. Один Бог знает, что он делал со своей гортанью каждый раз, когда выполнял это, потому что он издавал звук, похожий на разрывающуюся плоть. Это должно было быть сделано правильно с первого дубля, потому что я прекрасно знал, что если нам придется делать это во второй раз, это уже никогда не будет так хорошо. Как и одноименный сингл, альбом быстро занял первое место, а из-за популярности «Twist and Shout» (которая на самом деле не была песней «Битлз») мы выпустили EP с этим и еще тремя названиями. Он также занял первое место в чартах синглов, впервые это сделал EP. Ребята были воодушевлены своим успехом. Я попросил у них другую песню, не хуже «Please Please Me», и они принесли мне одну — «From Me to You». Я сказал: «Я хочу большего». Появилась песня «Она любит тебя». Казалось, там был бездонный колодец песен, и люди часто спрашивали меня, где выкопан этот колодец. Кто знает? Начнем с того, что они с детства занимались написанием песен, и у них было большое количество исходного материала, который просто нужно было придать форму. Многие песни, которые мы превратили в хиты, зародились как не очень хорошие зародыши. Когда они впервые сыграли мне «Please Please Me», она была в совершенно другой форме. То, как Леннон и Маккартни работали вместе, не было похоже на сотрудничество Роджерса и Харта. Это было больше похоже на то, что один из них пытался написать песню, но застрял и спросил другого: «Мне нужна средняя восьмерка». Что у тебя?' Они оба были мастерами мелодий и помогали друг другу, когда в этом возникала необходимость. Вначале это было делом необходимости. Но по мере того, как они развивали свое искусство, каждый перешел к написанию песен самостоятельно. Сотрудничество стало редким, за исключением странного слова или строчки: это была либо песня Джона Леннона, либо песня Пола Маккартни. Мы установили такой формат работы, что тот, кто написал песню, обычно ее пел, а остальные присоединялись. Если бы это была песня Джона, он бы ее пел, а когда мы дошли до средней восьмерки - часть в середине песни. там, где мелодия меняется, Пол пел терции выше или ниже или что-то еще; если бы потребовалась третья часть, Джордж присоединился бы. Это была очень простая формула. Я встречался с ними в студии, чтобы послушать новый номер. Я садился на высокий табурет, а Джон и Пол стояли вокруг меня со своими акустическими гитарами, играли и пели — обычно без Ринго и Джорджа, если только Джордж не присоединялся к гармонии. Потом я предлагал, как его улучшить, и мы пробовали еще раз. Это то, что известно в бизнесе как «расположение голов», и мы не отходили от этой модели до конца того, что я называю первой эрой. Это была эпоха, которая продлилась через «Love Me Do», «Please Please Me», «From Me to You», «She Loves You» и «I Want to Hold Your Hand», которые были первой серией записей. На тот момент делать было особо нечего. Моя функция как продюсера была не такой, как сегодня. В конце концов, я представлял собой смесь многих вещей. Я был руководителем звукозаписывающей компании. Я занимался организацией артистов и репертуара. И вдобавок ко всему, я фактически руководил сеансами записи, следя за тем, что делали и инженер, и артист. Конечно, я мог манипулировать пластинкой так, как мне хотелось, но в плане оркестровки не было никакой аранжировки. Это были четыре музыканта, три гитариста и барабанщик – и моя роль заключалась в том, чтобы убедиться, что они сделали краткое коммерческое заявление. Я следил за тем, чтобы песня длилась примерно две с половиной минуты, чтобы она была в правильной тональности для их голосов, была аккуратной, с правильными пропорциями и формой. Вначале моей специальностью были вступления и концовки, а также любые инструментальные отрывки в середине. Я мог бы сказать, например: «Пожалуйста, доставь мне удовольствие» длится всего минуту и десять секунд, поэтому тебе придется сыграть два припева, а во втором припеве нам придется сделать то-то и то-то». Вот и все приготовления.
Опять же, они сначала спели «Can't Buy Me Love» с куплета, но я сказал: «Нам нужно вступление, что-то, что сразу же цепляет слух, зацепка». Итак, давайте начнем с припева». На самом деле это был вопрос наведения порядка. Но эта запись стала отправной точкой для чего-то гораздо более сложного. В «Yesterday» мы впервые использовали оркестровку; и с тех пор мы двинулись в совершенно новые области. Любопытно то, что наши отношения развивались сразу в двух разных направлениях. С одной стороны, возрастающая сложность пластинок означала, что я оказываю все большее и большее влияние на музыку. Но личные отношения пошли в другом направлении. Вначале я вел себя как мастер со своими учениками, и они делали то, что я говорил. Они ничего не знали о записи, но, видит Бог, они быстро научились: и в конце концов, конечно, мне предстояло стать слугой, а они — хозяевами. Они говорили: «Хорошо, мы начинаем сегодня в восемь часов», и я был там. Это была постепенная смена власти и, в некотором смысле, ответственности, потому что, хотя в конце концов я все еще цеплялся за то, чтобы вложить свои два цента, все, что я мог сделать, это влиять. Я не мог руководить. Но это было позже. Наступил 1963 год, несомненно, самый загруженный год в моей жизни. Я был полностью поглощен происходящим, а Брайан Эпштейн работал круглосуточно. Естественно, нам приходилось проводить много времени вместе, и мы стали очень крепкими друзьями. Я помню, как он сказал мне: «У нас будет потрясающее партнерство, Джордж». Когда ты записываешь мои выступления, мы непобедимы. А поскольку Дик их публикует, мы — непобедимое трио». Конечно, так казалось. Следующая группа, которую он мне привел, была «Джерри и кардиостимуляторы». Для них я залез в свою сумку с песнями и еще раз спродюсировал «How Do You Do It?», песню, которую «Битлз» не хотели выпускать. Джерри записал его, и он занял первое место. Но если это было небольшим личным подтверждением моей веры в эту песню, то более интересная запись, которую сделал Джерри, была «You’ll Never Walk Alone», старого американского стандарта. Когда он исполнял эту песню, он всегда получал отличную реакцию публики, и записать ее была идея Брайана. Впервые я поддержал Джерри большим струнным оркестром, что стало для него большим шагом вперед. Он был очень веселой звездой рок-н-ролла, исполнял маленькие двухбитные песенки, и вдруг возникла большая баллада, с которой его голос едва справлялся. Тем не менее, я думаю, что именно эта пластинка стала причиной того, что песня стала универсальной песней для футбольных фанатов, которой она является сегодня. Не удовлетворившись двумя успешными группами, Брайан привел ко мне третью — Билли Дж. Крамера и Дакоту. Билли, конечно, был очень красивым мальчиком, но когда я послушал его, я пришел к выводу, что его голос не был самым лучшим голосом в мире. «У меня так много дел, Брайан, — сказал я, — и я не думаю, что у Билли действительно есть тот голос, который сделает то, что нам нужно». Но Брайан обладал чрезвычайно убедительным характером. — Джордж, ты прекрасно знаешь, что ты, я и Дик можем заставить это работать. Вместе с Билли ты можешь выпустить пластинку, которая будет иметь успех – я знаю, что ты сможешь». «Все это очень хорошо, Брайан, но невозможно создать великие вещи, если сырье не в хорошем состоянии». — Послушайте еще раз, — сказал он. — Я уверен, что ты сочтешь, что голос Билли не так уж и плох. Это тоже было не так уж хорошо; но Брайан был настолько заинтересован, что я согласился. Я решил, что единственный способ сделать из него хит — это всегда дублировать его голос — другими словами, записать песню один раз, а затем заставить его спеть ее второй раз, следуя своему собственному голосу. Были места, где даже двойной трек работал не очень хорошо, и чтобы их скрыть, я изобрел то, что назвал заводным фортепиано. После того, как я записал свой основной трек, я наложил на него фортепиано, на котором играл сам: записал его на половинной скорости, а затем увеличил скорость в два раза до нормальной, чтобы создать своего рода эффект клавесина. Там, где из миндалин Крамера звучала какая-то оскорбительная фраза, я добавлял немного этого фортепиано и микшировал ее немного громче. Для любознательных могу добавить, что я не платил себе за эти безвозмездные музыкальные произведения, так как рассчитывал, что в этом случае я получу деньги, которые должен получать музыкант. Для первой пластинки Билли мы выбрали «Do You Want to Know a Secret», песню из первого альбома «Битлз». В те дни у нас была политика, согласно которой все, что «Битлз» записывали как название альбома, не выпускалось ими как сингл, и наоборот. Песня входила в альбом «Please Please Me» (очевидно, мы сделали исключение для самой песни «Please Please Me», чтобы заработать на их новой популярности), и «Битлз» не хотели выпускать ее как один. В любом случае, они уже видели преимущество того, что их песни перепевают другие люди, и, поскольку Билли это полностью устраивало, мы решили сделать это вместе с ним. Он был выпущен 26 апреля 1963 года. Он занял первое место. Этот процесс начинал казаться почти неизбежным. Затем нас ждало то, что на первый взгляд казалось неудачей. Брайан привел мне певицу по имени Присцилла Уайт. Все ее друзья называли ее Силлой, а Брайану, по какой-то причине, лучше всего известной ему самому, не нравилась идея Силлы Уайт, поэтому он пошел на другой конец спектра и назвал ее Силлой Блэк. Для меня она была еще более трудным ребенком, чем Билли. Хотя у нее был хороший, хотя и тонкий голос, она была рок-н-ролльной крикункой в истинной пещерной традиции, с пронзительным гнусавым звуком. Само по себе это было хорошо, но найти песни для нее явно будет очень сложно. С другой стороны, «Битлз» к этому времени кипели энтузиазмом по поводу собственных произведений – и это правильно. Мы открыли жерло, нефть начала хлынуть, а скважина, которая, как я первоначально думал, скоро пересохнет, просто продолжала давать все больше и больше. Силла пела в Cavern их песню под названием «Love of the Loved», и мы решили записать ее со специальной аранжировкой, которую я написал для труб. Оно вообще не очень хорошо продавалось. Это не был номер один. Затем Брайан отправился в Америку, чтобы попытаться заинтересовать тамошних людей его группой артистов. Вернувшись, он принес мне песню, которую услышал там молодой человек по имени Берт Бахарах. Он назывался «Любой, у кого было сердце». Я совершенно перевернулся. Я подумал, что это было чудесно. «Брайан, — сказал я, — какая чудесная песня. Огромное спасибо, что привезли. Это абсолютно идеально для Ширли». Под этим я имел в виду Ширли Бэсси, которую в это время записывал. Брайан посмотрел косо. «Я не думал о ней, я думал о Силле». 'Действительно? Как ты думаешь, Силла могла бы спеть такую песню?' — спросил я с сомнением. «Я знаю свою Силлу. Она может это сделать. — Хорошо, тогда попробуем, — сказал я, все еще не убежденный. К тому времени я был настолько занят, что у меня не было времени написать песню самому; кроме того, хотя я и играл на трубе на ее первой пластинке, я тогда еще не был известен как оркестратор, а среди окружающих, имевших большую репутацию, с моей стороны было бы дерзко заявлять о себе слишком сильно. Поэтому я пригласил Джонни Пирсона, который написал для этой песни великолепную музыку. Силла записала его, и он действительно занял первое место, что сделало ее звездой. Я слышал, что Дионн Уорвик, записавшая песню в Америке, была в ярости, потому что мы украли ее версию. Ну и да и нет. Большинству песен присуще то, как они исполнены, что само по себе является аранжировкой. Что Джонни сделал, так это сохранил ту часть, которая абсолютно подходила для песни, а затем оркестровал ее. Обе пластинки звучали одинаково, но я уверен, что наша была лучше американской. Конечно, с оркестровой точки зрения у нас был гораздо лучший звук, и он заслуживал быть номером один. Учитывая все эти таланты, нам с Брайаном пришлось разработать рабочую формулу. Что касается «Битлз», мы договорились, что, если возможно, будем выпускать по синглу каждые три месяца и по долгоиграющей пластинке каждый год. Имея также Джерри, Билли и Силлу, нам пришлось также поколебать выпуск их синглов, чтобы, насколько это было возможно, было совпадение, но не противоречие. Казалось, это сработало. За пятьдесят две недели 1963 года мы возглавляли чарты не менее тридцати семи раз. Сон в тот год был чем-то вроде роскоши, потому что помимо конюшни Эпштейна я все еще записывал многих своих ранних артистов, таких как Рон Гудвин, Мэтт Монро и старый добрый Джимми Шанд. Но год принадлежал «Битлз», и поиск талантов с севера стал своего рода золотой лихорадкой Клондайка. Звукозаписывающие компании печально известны своими попытками запрыгнуть на подножку, и если чувствуется запах чего-то нового, они все бросаются за этим, даже если это что-то столь безвкусное, как панк-рок. После того, как «Битлз» завоевали золото, каждая звукозаписывающая компания отправила людей в Ливерпуль, чтобы найти группу – и все они вернулись с одной! Кому-то это удалось, многим нет. У Пая были Searchers, у которых был большой успех с «Needles and Pins». Даже мой помощник Рон Ричардс отправился на север в поисках музыкальных самородков и нашел не в Ливерпуле, а в Манчестере группу под названием Hollies. Он вернулся и сказал: «У меня есть эта группа. Что мне с ними делать? «Запишите их», — сказал я, задаваясь вопросом, чем закончится это золотое дно. — Но я не могу с ними справиться. Вам придется записать их самостоятельно. Конечно, они оказались чрезвычайно успешными: один из них, Грэм Нэш, стал американской суперзвездой вместе с Кросби, Стиллзом и Нэшем. Поток лести, приветствовавший эту музыку с севера, прорвал еще одну плотину. Северный стал шикарным. Северные писатели и комики стали модными. Это было началом децентрализации Лондона, который всегда был Меккой развлекательного бизнеса, монополизировав телевидение, радио и звукозапись. Внезапно мы обнаружили, что там были еще люди. Точно так же я думаю, что довольно печально, что в последнее время в Ливерпуле произошла реакция людей, которые почти отвергли Битлз, потому что они «покинули» свой родной город. План воздвигнуть им статую вызвал большую враждебность. Ощущение было такое: «Какого черта мы должны это делать? Они все равно нас покинули, и им больше наплевать на «Ливерпуль». Это очень несправедливо. Им пришлось покинуть Ливерпуль; они не могли оставаться там всю свою жизнь. Почему их следует выделять как покинувших город, когда почти нет мировых артистов, оставшихся в своих родных городах? И они никогда не отрицали своего происхождения – прошлого, которое подарило миру двух гениальных мастеров музыки. Меня часто спрашивали, мог ли я написать какую-нибудь мелодию Битлз, и ответ определенно отрицательный: по одной основной причине. У меня не было их простого подхода к музыке. Из этих четверых Пол, скорее всего, стал профессиональным музыкантом в смысле обучения ремеслу, изучению нотации, гармонии и контрапункта. В то время он дружил с Джейн Ашер, выходцем из музыкальной семьи. Ее мать была прекрасным музыкантом и внештатным учителем, которая по чистой случайности научила меня игре на гобое, когда я учился в Ратуше. Я думаю, что эта семья, должно быть, оказала большое влияние на Пола. Вскоре после того, как мы встретились, он начал брать уроки игры на фортепиано. А я купил себе гитару и начал этому учиться. И для того, и для другого были веские причины: на ранних этапах не хватало общения, и нам нужно было найти точки соприкосновения, чтобы говорить о музыке. Если я предлагал им какой-то конкретный сложный аккорд или гармонию, а они этого не знали, я шел, играл его на пианино и говорил: «Посмотрите, вот такая штука». Потом они доставали свои гитары и начинали искать на них одинаковые ноты. Но они не получили бы это с готовностью, потому что, хотя они и могли видеть мои пальцы на пианино, это не имело для них большого значения. Все, что они могли попытаться понять, это звуки, которые они слышали. Но если бы я сам сыграл аккорд на гитаре, они бы смогли посмотреть на мои пальцы и сказать: «О, да». Вот такая форма». Играя как на гитаре, так и на фортепиано, вы можете многому научиться по форме пальцев музыканта. Но эти два инструмента очень разные, и невозможно экстраполировать один на другой – именно поэтому я начал играть на гитаре. Однако Джон и Пол освоили игру на фортепиано гораздо быстрее, чем я освоил их инструмент. Поэтому я бросил гитару. Но, по крайней мере, теперь у нас было взаимопонимание, и мы могли обсуждать друг с другом отдельные ноты. Нет сомнений, что Леннон и Маккартни были хорошими музыкантами. У них был хороший музыкальный мозг, а мозг — это то место, где зарождается музыка, и он не имеет ничего общего с вашими пальцами. Так получилось, что они также очень хорошо играли на своих инструментах. И с тех пор все они улучшились, особенно Пол. Он превосходный музыкальный универсал, возможно, лучший бас-гитарист, первоклассный барабанщик, блестящий гитарист и компетентный пианист. Но эти достижения не повлияли на их чрезвычайно практичный подход к музыке. Они просто не могли понять необходимости усложнения. Например, Джон однажды пришел ко мне, когда я работал в студии с саксофонной секцией, перезаписывая одну из его мелодий. «Послушай, — сказал он, — мне нравится то, что ты там сделал, но я думаю, было бы неплохо, если бы саксофоны сделали то-то и то-то». . . и с этими словами он взял свою гитару и сыграл мне несколько нот. — Да, это довольно легко, — сказал я. «Для саксофонистов будет хорошей идеей усилить это». Я быстро записал ноты, повернулся к саксофонистам и сказал: «Хорошо, ребята, это ноты, которые вы играете». «Нет, — сказал Джон, — это не те записи. Вот ноты, которые они играют – посмотрите. . . ', и он начал проигрывать их мне снова и снова. — Я знаю, Джон, — объяснил я. «Это ноты, которые вы играете. Но я даю им ноты для их инструментов, которые будут соответствовать тому, на чем вы играете». — Но вы дали им неправильные названия нот! — Нет, нет, — сказал я. — Потому что их инструменты имеют разную тональность. Это саксофон ми-бемоль, а это саксофон си-бемоль. Когда вы играете в этой песне до, она звучит си-бемоль. Когда вы играете до на другом саксофоне, он играет ми-бемоль. Так что мне нужно сделать другие заметки, чтобы компенсировать это. Ты видишь?' — Это чертовски глупо, не так ли? - сказал он с отвращением. — Да, я полагаю, это так. Он повернулся и ушел, оставив меня с этим. Он просто не мог понять ни одного из этих глупых фактов жизни. Точно так же я думаю, что если бы Пол, например, изучил музыку «правильно» — не только игру на фортепиано, но и правильную нотную запись для написания и чтения нот, всю гармонию и контрапункт, через которые мне пришлось пройти, и технику оркестровки — это вполне могло его остановить. Он тоже так думал. (И в конце концов, зачем ему беспокоиться, если рядом с ним есть кто-то, кто может сделать это за него?) Как только вас начинают чему-то учить, ваш разум направляется определенным образом. У Пола не было этого ченнелинга, поэтому он имел свободу и мог думать о вещах, которые я бы посчитал возмутительными. Я мог бы восхищаться ими, но мое музыкальное образование не позволило бы мне думать о них самому. Я тоже думаю, что умение писать хорошие мелодии часто приходит тогда, когда кто-то не скован правилами и нормами гармонии и контрапункта. Мелодия — это вещь, которую можно насвистывать одним пальцем, что-то, что можно насвистывать на улице; это не зависит от великих гармоний. Умение их создавать – это просто дар. Было много великих музыкантов, которые не смогли написать поп-мелодию, чтобы спасти свою жизнь. Точно так же в мире поп-музыки было много людей, которые ничего не знали о музыке, но могли писать отличные мелодии. Лайонел Барт, например, не умеет играть на музыкальном инструменте. Я считаю, что он просто насвистывает свои мелодии, когда думает о них. Ирвинг Берлин не умел читать ноты и мог играть на фортепиано только в тональности соль-бемоль, состоящей исключительно из черных нот. Он играл только по черным нотам. Это был единственный способ, который он знал. Как только он добьется определенного успеха, он сможет позволить себе построить для него специальное фортепиано. Сбоку у него был рычаг, как у фруктового автомата, и если он хотел сменить тональность, удерживая пальцы на одних и тех же нотах, он просто тянул за него. Откуда бы ни исходил гений, «Битлз» наверняка могли писать великие мелодии. Конечно, в Ливерпуле они уже были кумирами, но до этого было очень далеко. К середине года дети кричали возле студии Abbey Road с того момента, как услышали о приезде «Битлз». Их информационная лоза была потрясающей. Мы старались держать время сеансов в тайне, потому что дети стали настоящей проблемой, и попасть в студию становилось все труднее и труднее. Несмотря на это, это все еще было довольно локальное явление – частное английское удовольствие. Это было до Америки.
Создание пластинки «Take OR ME» — это все равно, что нарисовать картину в звуке. Если я говорил это раньше, то причина в том, что я не могу это переоценить. Именно так я об этом думаю, и полагаю, что это чувство зародилось еще тогда, когда я сделал первые записи с Питером Селлерсом. Мы не только рисуем звуковые картины, но и наша палитра бесконечна. Мы можем, если захотим, использовать любой звук во Вселенной: от звука спаривания кита до звука тибетского деревянного инструмента, от настоящего оркестра до синтезированных звуков. Может быть, поэтому из всех художников мне больше всего нравятся импрессионисты – Ренуар, Дега, Сезанн, Моне, Ван Гог, Сислей. Конечно, не случайно они так хорошо, почти как визуальные аналоги, соответствуют музыке моих любимых композиторов Дебюсси и Равеля. Прелесть записи в том, что у вас действительно есть неограниченный диапазон музыкальных цветов, которые можно использовать. Это одна из главных причин, почему мне так понравилось работать с «Битлз», потому что наш успех принес мне творческую свободу. В течение долгого времени я был индивидуалистом в EMI, всегда хотел попробовать что-то новое, но редко получал для этого надлежащую поддержку. Теперь, наконец, я смог сказать: «Давайте попробуем». Стоимость не имеет значения — мы просто попробуем». Начальство всегда могло остановить меня, но к тому времени они уже не хотели убивать гуся, несущего золотые диски, и я смог изучить наиболее любопытные в то время уголки инновационной записи: многоскоростные технологии (например, запись чего-либо и увеличение скорости вдвое), снятие кассеты и запись задом наперед, необычные звуковые эффекты - всевозможные способы построения картины в звуке. Чтобы сделать это, продюсеру, как и любому мастеру, нужны инструменты. Как я указывал ранее, первым инструментом, который превратил его в мастера, стало появление стереосистемы. Основная идея стерео заключалась в том, чтобы дать слушателю более широкий опыт; настоящее стерео — это использование двух дорожек для создания пространственного измерения между двумя динамиками. Но вскоре я понял, что даже там, где мы не выпускали записи в стерео, техника стереозаписи все равно могла бы быть очень полезной для продюсера, если бы он просто использовал два трека и микшировал их, чтобы сделать монозапись. Это было самое начало многодорожечной записи. Его важность была для продюсера абсолютно фундаментальной, потому что теперь он мог рассуждать; он мог передумать. Ему даже не пришлось записывать оба трека одновременно. Более того, он мог записывать без потери качества. Имея только одну дорожку, ему приходилось либо записывать голос одновременно с сопровождением, либо перезаписывать одну кассету на другую, и в этом случае он терял одно поколение качества звука. Благодаря двум трекам впервые стало возможным записать основной ритм и добавить вокальную дорожку позже, синхронно с предыдущей записью. Преимущества этого стали очевидны, когда я начал записывать хард-роковые пластинки. До времен «Битлз» большинство пластинок были довольно попсовыми, и в этом Джим Дейл был моим ответом Клиффу Ричарду и Томми Стилу. Но где-то в конце пятидесятых в Англию пришло начало рока, вдохновленное такими людьми, как Элвис Пресли, и наши пластинки становились сложнее, наш ритм звучал более определенно. Это привело к большому количеству экспериментов. Джон Берджесс, например, который сегодня является моим партнером, записывал Адама Фейта в сопровождении Джона Барри, и они попробовали такие идеи, как близкое подслушивание струн, что привело к странному звуку, который я описал ранее. Странно это или нет, но пластинки продавались. Начав с Джима Дейла и пройдя через скиффл-группу Vipers к Beatles, я обнаружил, что, если я запишу весь ритм на одном треке и все голоса на другом, мне не нужно беспокоиться о потере голосов, даже если я запишу их одновременно. Я мог сконцентрироваться на том, чтобы добиться действительно громкого ритмического звука, зная, что всегда могу потом увеличить или уменьшить его, чтобы убедиться, что голоса доходят.
Кроме того, благодаря использованию компрессоров мне удалось получить еще более жесткий звук, сохранив при этом четкость. Компрессор делает именно то, что следует из его названия – он сжимает звук. Громкие звуки немного уменьшаются, а тихие звучат громче. Это было особенно необходимо там, где пластинки имели широкий динамический диапазон, где пики и спады звука были широко распределены из-за проблемы соскакивания иглы . Конец пятидесятых и начало шестидесятых годов были прекрасным временем для сжатия всего. Компрессор был чем-то вроде новой игрушки, и часто люди сжимали его слишком сильно. Я помню, как описывал эффект этого как способность слышать, как предметы пробивают дыры в звуке. Например, если бы у вас был очень тяжелый барабанный трек и поверх него должен был идти голос, вы могли бы сжать все это настолько, что барабаны, самая громкая вещь на пластинке, будут регулировать громкость. Голос можно было услышать только тогда, когда не грохотали барабаны. Барабан имеет очень сильный звук, который быстро затухает, и как только он начинает затухать, голос появляется, как по волшебству, совсем как Призрак Пеппера в старинном мюзик-холле. Сжатый или нет, преимущества возможности добавлять больше треков к исходному звуку вскоре стали очень очевидными. Вы сможете сконцентрироваться на индивидуальном звучании каждого инструмента гораздо дольше, чем вы могли бы себе позволить во время сеанса записи. Время музыкантов — это деньги, и экономика требует, чтобы вы попытались записать как можно больше композиций за короткое время. Вы не можете позволить себе слишком потворствовать своим желаниям достичь совершенства за это время. Но очевидно, что если потом вы сможете поиграть со звуками, вся ситуация изменится. Очевидно, это была инновация, которая должна была появиться, но она потребовала капиталовложений, а EMI не слишком в этом заинтересована. Я постоянно говорил: «Когда мы получим еще несколько треков в наших студиях?» Мы отстали от времени. Давайте обновим студии». В EMI у меня была плохая репутация как человека, который всегда хотел большего – и никогда этого не получал! Так что, возможно, именно с некоторым отчаянием EMI отправила меня в Америку в 1958 году, чтобы посмотреть, что представляет собой оппозиция. Якобы причиной моего ухода было то, что я добился умеренного успеха с «Skiffling Strings» Рона Гудвина. По причинам, лучше всего известным им самим, американцы переименовали его в «Swinging Sweethearts»; Там он тоже имел некоторый успех, и Рона Гудвина отправили в рекламный тур. Я должен был сопровождать его. Капитолийская башня на улицах Голливуд и Вайн в Лос-Анджелесе представляет собой тринадцатиэтажное здание, по форме напоминающее стопку граммофонных телефонных пластинок. Я был очень впечатлен. Компания Capitol, которую EMI купила пару лет назад, плыла на гребне волн, столь же драматичных, как и те, которые обрушиваются на пляж Малибу — Синатра, Нэт Кинг Коул, Пегги Ли, Стэн Кентон. Войл Гилмор, один из продюсеров, пригласил меня на запись Синатры в студии C в Капитолийской башне. В конечном итоге песни должны были войти в альбом Come Fly With Me, и все это должно было быть исполнено вживую. Синатру аккомпанировал оркестр Билли Мэя, обычно звук которого создавался из медных духовых и хлюпающих саксофонов. Но Нельсон Риддл только что добился ряда успехов, а Синатре понравилось звучание струн Риддла, поэтому установка Билли Мэя была дополнена струнной секцией. Синатра в сопровождении Лорен Бэколл, его нынешней супруги, был настоящим и эффективным профессионалом. Он вошел в аппаратную, послушал, как переигрывают треки, и почти не мешал инженеру, продюсеру или Билли Мэю, разве что сказал: «Подожди немного, Билл» или что-то в этом роде. . Чаще всего он приходил и говорил: «Хорошо, для меня это все». Он сделал очень мало дублей, и они сделали пять фильмов примерно за четыре часа. Единственная неприятная нота прозвучала в конце сессии, когда Войл Гилмор показал Синатре дизайн обложки альбома. Синатра взорвался. Он обозвал Гилмора всеми именами на свете и исчез, все еще злясь. Я, деревенский кузен из Англии, хоть убей не мог понять, из-за чего весь этот шум. Потом мне показали обложку, и я все понял. Это обложка, которая в конечном итоге была выпущена, и на ней изображен Синатра в шляпе с широкой полосой на фоне авиалайнера TWA. Синатра считал, что Capitol обманул его, заключив какую-то частную сделку с TWA. Намек заключался в том, что, если пластинка выйдет таким образом, руководители Капитолия получат бесплатную рекламу, бесплатные проездные билеты или что-то бесплатное.
Какова бы ни была правда, позиция Синатры была ясна: TWA получало от него бесплатную рекламу. Вскоре после этого он покинул Capitol и основал собственный лейбл Reprise. Я вернулся в Англию с головой, полной идей. Первое, что меня поразило, это то, что уровень монитора в диспетчерской Капитолия был намного громче, чем все, что я слышал в Лондоне, но, несмотря на это, звук был намного чище и четче. Я внимательно изучил технику, которую они использовали в своих студиях, типы микрофонов и акустику. Помню, я подумал: «Боже, нам нужно многому научиться в Эбби-Роуд». Второе большое отличие заключалось в том, что по сравнению с нашей двухдорожечной записью на четвертьдюймовой ленте они использовали полудюймовую ленту для создания трехдорожечной записи. Причиной этого было врожденное недоверие к «звуку середины», который был развитием кинотехники и так удивлял людей, когда они впервые услышали стерео. Их первой мыслью было: «Что ж, если у нас будет более одного трека, пусть будет три, и убедитесь, что в середине у нас будет хороший звук». Это то, чего вы не сможете сделать в стерео, используя только две дорожки. Причина в том, что если вы запишете аккомпанемент на одну дорожку и разделите его между двумя стереодинамиками, тогда будет казаться, что аккомпанемент, разделенный поровну, исходит из середины; а когда вы добавляете голос, разделяя его также, чтобы он исходил из середины, общий эффект становится моно. С другой стороны, если они использовали два трека из трех, чтобы получить хороший стереозвук оркестра, они могли бы затем использовать третий трек для вокала, разделив его между двумя стереоканалами, чтобы поместить его отдельно в середине и при необходимости увеличивая ее громкость по сравнению с громкостью стереофонического сопровождения. В то время это имело большой смысл. Возможно, я вернулся в Англию полный энтузиазма по поводу этих новых идей, но прошло пять лет, прежде чем EMI что-то предприняла. Когда в 1963 году появились «Битлз», мне все еще приходилось записывать все их ранние песни, используя двухдорожечный режим для получения монофонического звука: с ритмом на одном треке и вокалом на другом. Эта техника пригодилась мне много лет спустя.
Бхаскар Менон стал президентом Capitol Records в Америке. Будучи студентом и стажером, он некоторое время провёл со мной в «Парлофоне», изучая мою сторону бизнеса. В 1976 году он позвонил мне (я тогда жил в Лос-Анджелесе) и сказал, что предлагает выпустить альбом под названием Rock and Roll Music, используя некоторые из ранних номеров «Битлз». Он спросил меня, одобрю ли я записи до того, как они будут выпущены, поскольку им не удалось заполучить никого из «Битлз», а я был единственным человеком, о котором они могли думать и который был в этом замешан. Итак, я пошел послушать – и был потрясен. EMI были в ужасе от «Битлз», которые издали указ, согласно которому кассеты нельзя трогать ни в коем случае. Никто не должен был их «калечить», и если они были переизданы, то это должно было быть именно так, как они были записаны. EMI восприняла это абсолютно буквально. Они загрузили кассеты на трансферный аппарат и собирались выдавать их в том виде, в котором они были, – но в стерео! Эффект был катастрофическим. Там, где я сделал оригинальную запись, используя одну дорожку для ритма, а другую для голосов, мы уменьшили громкость ритм-дорожки, чтобы избежать искажений. В результате голоса звучали ужасно вперед. Более того, когда они перестали петь, на вокальной дорожке появилось очень много «грязи», потому что, когда мы записывали живьё, мы оставляли микрофоны открытыми – что, конечно, не имело значения в моно. А вот в стерео - тьфу! И, конечно же, все голоса были на одной стороне, а вся поддержка – на другой. «Вы не можете позволить этому выйти наружу!» Я сказал. «Мы не смеем прикасаться к нему, — говорили они, — потому что Битлз это не понравится». Мой ответ был: «Давайте это для развлечения». Давайте что-нибудь с этим сделаем». Я потратил два дня на перезапись кассет, используя сложное новое оборудование, которого в те первые дни никогда не было. Я отфильтровал звук баса из ритм-трека и вынес его в центр. Я вывел ритм-трек целиком подальше от краев. Я переместил голоса в центр, увеличил громкость ритма и сжал все это, чтобы оно звучало более цельно. С небольшим эхом, чтобы освежить их , они действительно звучали вполне сносно. Конечно, это была не совсем моя работа. Я давно покинул EMI, и мне не платили — поскольку это были ранние пластинки, я даже не получал за них никаких гонораров; Я просто хотел убедиться, что наша работа не будет испорчена. Но это не помешало разгореться ожесточенным скандалам с населением Англии. Рой Физерстоун, глава звукозаписывающей компании EMI, сказал, что мне не следует этого делать, и что у них будут ужасные проблемы с «Битлз». «Ну, найди «Битлз» и скажи им, что я здесь, в Капитолии, и посмотрим, что они скажут», — сказал я ему. Но они не захотели или не смогли. В любом случае, у «Битлз» вокруг себя были довольно прочные защитные щиты. По крайней мере, в Америке пластинка вышла в модифицированном виде, чтобы она была приемлема, но у меня неприятное ощущение, что в Англии она вышла в оригинальной версии, а это ужасает. Это был бумеранг времен двухколесного транспорта. Но, наконец, ближе к концу 1963 года, когда успех «Битлз» прибавил веса моим постоянным требованиям, боссы EMI решили присоединиться к миру современной звукозаписи, и у нас получился четырехдорожечный альбом. Это заняло много времени, поэтому, возможно, иронично, что Abbey Road стала лучшей студией в мире, в то время как Capitol почти не изменилась. Я вернулся туда пару лет назад, и та самая студия С, где я впервые увидел Синатру за работой, теперь показалась мне устаревшей. Звук, доносившийся из него, был таким старомодным. Я так сильно переживал по этому поводу, что сказал Бхаскару Менону: «Ради бога, почему бы тебе не сделать что-нибудь с этой студией?» Студия, которую я когда-то считал такой великолепной, за последние десять лет особо не изменилась!» Я рад сообщить, что теперь он оснащен новым столом Neve и системой автоматизации NECAM. Но для нас в 1963 году четырехгусеничная машина была огромным шагом вперед. Это была однодюймовая лента, которая была континентальным стандартом, и мы приняли ее вместо американской системы просто потому, что считали, что трехдорожечная лента слишком ограничена. Четырехколесная система должна была стать нашим стандартом на протяжении многих лет. Естественно, когда преимущества дополнительных гусениц были реализованы, мы не ограничили наши требования четырьмя. Мы хотели получить все, что могли. Но производители не смогли обеспечить нас товаром; Европейские производители совершенно справедливо заявили, что качество ленты в то время не позволяло им уменьшить ширину каждой отдельной дорожки, и поэтому четыре дорожки были максимумом, который допускала однодюймовая лента. Тем не менее, мы постоянно их подталкивали. Продюсеры пластинок всегда оказывали стимул, и производители должны были попытаться удовлетворить их требования. Когда мы впервые получили четырехдорожечную систему, мы почувствовали огромное облегчение, не беспокоясь о том, сколько поколений качества звука было потеряно, от чего мы пострадали при использовании двухдорожечной системы. Но даже четыре трека — это очень мало. У меня до сих пор хранится рабочий лист записи «The Night Before» с «Битлз». Он сообщает мне время, когда я начал сеанс, а это было 2.30 дня, и то, как мы его провели. Барабаны, бас и ритм-гитара были на одном треке; соло-гитара Джорджа Харрисона на другом; голоса на третьей. Четвертый трек был отведен для каких-то небольших дополнений, таких как наложения фортепиано или аккомпанемент. Этого было достаточно мало, чтобы играть. В конце концов, если вы имеете дело с группой и хотите чего-то простого, например, чтобы они пели небольшие «охи» на заднем плане, для этого требуется дополнительный трек. Если вы дублируете его, чтобы звук был более приятным, вам потребуются два дополнительных трека. Не нужно быть математиком, чтобы подсчитать, что Fourtrack все еще был ужасно ограничен. Единственный способ обойти это — перезаписать одну четырехдорожечную пластинку на вторую четырехдорожечную — а это, конечно же, означало потерю качества звука. Тем не менее, это было начало, и оно дало нам два больших преимущества. Помните, что «четыре дорожки» — это просто четыре отдельные монозаписи. Проблема заключалась в том, как смешать одно с другим в идеальной синхронизации. Съёмщики делали это годами, но тогда они использовали ленту со звездочками, которую было легко синхронизировать. В мире обычной ленты не было подобных механических приспособлений. Четыре дорожки дали нам просто четыре отдельные записи, которые, будучи на одной ленте, были физически связаны друг с другом, так что, когда вы микшировали их для создания конечного продукта, они должны были быть синхронизированы. Вторым большим преимуществом было то, что мы могли играть со звуками каждого конкретного трека независимо от того, что мы могли или не могли впоследствии делать с остальными. Например, мы могли бы выровнять звуки, то есть обрезать бас, обрезать верх и усилить середину. Мы могли бы ввести различные степени и типы эха. Оно не ограничивалось обычным эхо-камерным эхом, но включало в себя эхо с ленточной задержкой и наше собственное изобретение, которое мы назвали Steed, смесь ленточной задержки и эхо-камеры. Мы могли бы сжать один трек, чтобы придать звуку больше энергии. Позже появились такие методы, как искусственное двойное отслеживание, когда всю работу выполняла машина, а не нам приходилось заставлять артиста петь против своего собственного голоса. Возможно, самое важное то, что если нас не устраивал один трек, мы могли заменить его, не повторяя все выступление заново. Мы могли бы подстраховаться. Полагаю, именно эта способность обрабатывать треки один за другим заставила меня впервые подумать об этом процессе как о приготовлении слоеного пирога. Внизу нанесите красивый толстый слой губки в качестве основы. Затем кладете слой джема. Затем слой крема. Затем вы покрываете его еще губкой, глазурью или чем-то еще. Запись такая. Ваш первый трек всегда является ритм-треком. В наши дни различные компоненты ритма будут разделены на разные треки, но во времена четырехдорожечной музыки первыми были барабаны и бас. К этому вы бы добавили во второй трек гармонии, которые можно было бы сыграть на гитарах, фортепиано или чем-то еще. Ведущий голос будет идти на треть. Четвертый трек будет посвящен дополнительным мелочам – тому, что сегодня мы называем «подсластителем». Итак, теперь у вас есть четыре слоя, физически соединенные вместе на ленте, и вы можете играть с громкостью и динамическим диапазоном каждого трека в свое удовольствие, чтобы добиться желаемого баланса. Более того, когда вы подошли к заключительному этапу — помещению этих четырех наборов звука на стереозапись — вы могли разместить их в любом месте стереоизображения, звуковой картины, которую в конечном итоге услышат люди, купившие пластинку. Как я объяснял ранее, это было достигнуто просто за счет пропорции звука, которую вы отводили на каждую сторону стереоизображения от каждой из четырех дорожек – пропорции, которая в конечном итоге будет выходить из каждой из двух акустических систем дома. Воодушевленные этими новыми технологиями, как дети, желающие еще и еще сладостей, мы вскоре обнаружили, что в четырехдорожечной системе слишком быстро заканчиваются дорожки. Нам нужно было найти способы получить больше, и единственным способом сделать это была перезапись с одной четырехдорожечной ленты на другую. И мы по-прежнему хотели сохранить нашу «стереокартину». Один из способов заключался в том, чтобы свести четыре оригинальных трека в то, что обычно представляло собой готовый двухдорожечный стереопродукт. Затем вы записывали эти два трека на новую четырехдорожечную машину, в результате чего у вас оставались два запасных «открытых» трека для игры. Чего нельзя было избежать, так это потери одного поколения качества звука в процессе. Опять же, если вы были очень смелы и хотели получить очень тяжелый звук на одном конкретном треке, вы могли бы перезаписать все четыре оригинальных трека на этот трек, при условии, что вы сохраните этот звук в центре стереокартины. Теперь у вас было еще три трека, чтобы подсластить его. Но по большей части я дублировал четыре трека до двух, получая два дополнительных трека. Когда позже дело дошло до создания альбома Sergeant Pepper, эта техника была доведена почти до абсурда. Чтобы вместить все эти бесполезные микрофоны и странные звуки, мне нужен был каждый трек, который я мог найти. И у меня их не было, и я не мог их получить до 1967 года, то есть намного позже сержанта Пеппера. Это был год, когда появилась восьмидорожечная модель. К тому времени качество ленты значительно улучшилось, и мы смогли записать все восемь дорожек на одну дюймовую ленту, которую использовали раньше. Но, и это важное «но», ширина каждой гусеницы была уменьшена вдвое. Теперь вы можете подумать, что, поскольку мы начали с двух дорожек на четвертьдюймовой ленте, не должно быть причин, по которым нам не следует иметь восемь дорожек на однодюймовой ленте. Была причина: шум. Как я объяснял ранее, когда каждая дорожка проходит через записывающую головку, она не только получает входной сигнал от микрофона или микрофонов, которые подаются на нее, но также подвергается воздействию различных дефектов самой ленты. Эти недостатки создают магнитные импульсы внутри записывающей головки, которые передаются обратно на записываемую часть ленты. Это «шум» — шипение, треск, что угодно — и он явно нежелателен. Далее следуют еще две вещи. Чем уже дорожка, тем больше относительного шума возникает в записывающей головке; И точно так же, чем больше у вас треков, тем больше шума вы получите в конечном продукте. Это цена, которую вы платите за многодорожечную работу. Потому что, не забывайте, стереозапись в конечном итоге сводится к двум трекам, независимо от того, начинаете ли вы с двух, четырех или тысячи треков. Шум, к сожалению, не пропадает ни при стирке, ни при перемешивании. Если вы начнете с четырех дорожек, в итоге вы получите шум четырех дорожек. Если вы начнете с тысячи, вы получите совокупный шум от тысячи. Мы еще не дошли до этого этапа! Но когда произошел переход от восьми дорожек к шестнадцати, а затем и к двадцати четырем, что сейчас является вполне стандартным оборудованием, проблему шума нельзя было игнорировать. С этим нужно было что-то делать. Ответ нашел американец по имени доктор Рэй Долби. Его изобретение называлось процессом шумоподавления Dolby. Впервые он был продан в этой стране, потому что, хотя он и был американцем, британцы гораздо охотнее прислушивались к его идеям. Технология его процесса, вероятно, существовала уже много лет, но она не использовалась по той простой причине, что в ней не было необходимости. Европейские производители ленточных машин всегда были очень консервативны. Они разработали машины, способные работать с существующей ленточной технологией. Вот почему, когда они построили первые четырехдорожечные машины, они перешли от четверти дюйма к одному дюйму, а не к половине, чтобы оставаться в пределах допусков используемой тогда ленты. Но когда мы подошли к шестнадцати трекам на двухдюймовой ленте, стало совершенно очевидно, что они уже не могут справиться с проблемой. Мы услышали гораздо более сильный фоновый шум, чем ожидали. Один из способов решения этой проблемы заключался в загрузке каждого трека на максимальный уровень звука, «заглушая» фоновый шум. Но это вызвало проблемы в студии. Представьте, например, что в музыкальном произведении есть очень тихий флейтовый пассаж. Вы бы выделили это в отдельный трек. Тогда у вас может быть очень тяжелый барабанный трек, очень тяжелый трек бас-гитары и очень тяжелый вокал. А возможно, тихий трек со струнным ансамблем. Если бы вы записали пьесу естественным путем, то бас, ударные и голос, вероятно, были бы достаточно хорошо сбалансированы, просто воспроизведя их на нормальном уровне. И если бы вам нужен правильный баланс тихой флейты и тихих струн, они были бы намного ниже этого уровня. Но это позволило бы шуму проникнуть на эти треки. Ответом было бы загружать каждую отдельную дорожку до такой степени, чтобы она была насыщена звуком, но при этом все еще хорошо записывалась и не содержала искажений. Но если бы вы это сделали, флейта и струнные были бы неприятно громкими по сравнению со всеми остальными звуками. Решая проблему шума, вы столкнетесь с проблемой баланса. Поэтому, если возможно, вам следует записывать достаточно естественно. Решение пришло от доброго доктора Долби. Проще говоря, вот как работает его процесс. Когда сигнал берется из студии звукозаписи и подается в устройство Dolby, Dolby автоматически повышает уровень более тихих звуков, сохраняя громкие на существующем уровне. Он также делает еще кое-что: делит звуковой диапазон на три части. Представьте себе общее звучание оркестра. Dolby, слушая его, скажет: «Я возьму нижний предел слышимого диапазона, от примерно 20 до примерно 800 циклов». Это действительно нижняя граница слышимого спектра. «Это, — говорит Dolby, — я буду рассматривать как один звуковой модуль. Далее я возьму средний бит, примерно от 800 до 4000 циклов. Это я назову средним звуком. В-третьих, я возьму диапазон примерно от 4000 до примерно 20 000 циклов и назову его верхним звуком. «Я буду рассматривать эти три полосы звука отдельно. Внутри каждой группы я позволяю любым громким звукам проходить такими, какие они есть. Любые действительно тихие звуки я сильно усиливаю — скажем, примерно на пятнадцать децибел». Это, конечно, было именно то, чего вы не хотели в студии. Не волнуйтесь, это были только вводные данные. У устройства Dolby была вторая функция. После того, как все эти сигналы были записаны на ленту, процесс повернулся вспять. Все, что было повышено, затем в той же степени снизилось. В результате то, что вы слышали на пленке, было идентично звуку, который вы услышали бы в студии. По сути, это означало, что тихие звуки, прозвучавшие на пленке, вовсе не были тихими звуками. Они были усилены, заглушая весь шум. А когда их снова уменьшили, они снова превратились в чистые, тихие звуки, и шум уменьшился еще больше. Критики системы утверждали, что она имеет тенденцию окрашивать звук и что что-то теряется в процессе, но, честно говоря, мне редко удавалось услышать разницу. Что меня действительно беспокоило, так это сложность и особенно стоимость – особенно когда мы перешли к двадцати четырем дорожкам – потому что для каждой дорожки требовалось собственное устройство Dolby. Оборудование Dolby также требует тщательной настройки, постоянной настройки и обслуживания. Я знаю, что в моих собственных студиях AIR это делается. Но я обнаружил, что некоторые американские студии были склонны не проявлять такой же осторожности, в результате чего устройства Dolby окрашивали звук до такой степени, что даже я мог его услышать. Поэтому я перестал их использовать, когда записывался в Америке. К ним также следует сделать важную оговорку. Они не устраняют шум полностью; они на это не претендуют. Что они делают, так это, как следует из их названия, уменьшают его. Так что появление изобретения доктора Долби не означало, что можно было ограничиться, скажем, восемью треками и просто перезаписывать и перезаписывать. А добавление большего количества треков всегда усугубляет проблему, и это одна из причин, почему я скептически отношусь к необходимости перехода к тридцати двум трекам, как пропагандируют многие люди. Лично я не вижу необходимости в большем. Кроме того, изменение означает совершенно новый набор оборудования. Нам придется перейти от двухдюймовой ленты к трехдюймовой, и нам, безусловно, понадобятся разные записывающие головки на всех наших машинах. Если люди действительно чувствуют, что им нужно больше дорожек, то самый простой выход, который мы уже опробовали и который прекрасно работает, — это синхронизировать вместе две двадцатичетырехгусеничные машины. Учитывая тот факт, что вам придется оставить по одной дорожке на каждой машине свободной для передачи синхронизирующего их импульса, вы получите сорок шесть дорожек. Видит Бог, большего никому и не нужно! У этого метода есть еще одно преимущество перед созданием, скажем, одной машины с сорока восемью дорожками, и оно связано с тем, как мы обычно используем многодорожечную запись. В системе «слоеного пирога», которую я описывал ранее, мы обычно сначала записываем основные треки, а затем начинаем добавлять к ним другие фрагменты. Каждый раз, когда мы это делаем, нам приходится прокручивать ленту вперед и назад, и в течение нескольких недель записи, со всеми различными изменениями, которые можно внести в каждую дорожку, ленте, возможно, придется пройти тысячи записывающих головок. раз. Даже при современном качестве существует очевидная опасность износа ленты, и хотя больших проблем у нас пока не было, мы приближаемся к тому моменту, когда могли бы возникнуть. Так что, если кому-то действительно нужно больше двадцати четырех треков, я думаю, что гораздо разумнее свести первую партию с черновым двухдорожечным треком, который вы загружаете на вторую машину в целях мониторинга, пока начинаете заново с чистого трека. лента. Когда вы приступите к микшированию всего этого, вы, конечно, можете вернуться как к исходной пленке, так и к новой, поскольку они связаны электронным способом с помощью импульсной дорожки, которую вы наложили на каждую. В прежние времена четырех и восьми дорожек это было просто невозможно; как только вы перезаписали свою первую кассету на две дорожки и перенесли ее на вторую кассету, вы безвозвратно фиксировали баланс на этих двух дорожках. Пути назад не было, и даже если бы были устройства Dolby для устранения всего шума, это все равно было бы серьезным недостатком. Было и другое: невозможность сделать дабл-трекинг в большинстве случаев из-за полнейшего отсутствия доступных треков. Я уже кратко упомянул о двойном отслеживании. Это мы выяснили сами, путем эксперимента. Мы обнаружили, что двойное сопровождение голосов или инструментов придает им другое звучание. Другими словами, если вы запишите, как Фред Смит поет песню, а затем перезапишете, как он поет ту же песню, в том же темпе, что и его первая запись, это будет отличаться от двух одинаковых во всех отношениях Фреда Смита. петь одновременно. Почему это так, не совсем понятно. Частично это может быть связано с подавлением вибрато. Возможно, это связано с тем, что вы попадаете в строй и расстраиваетесь, поскольку на самом деле никто не поет одну и ту же песню дважды одинаково - факт, который может иметь странные последствия. Недавно я работал с Bee Gees, и Барри Гибб, в частности, был большим сторонником идеальной гармонии. На самом деле я поймал себя на том, что говорю ему, что, будучи таким точным в настройке, он имеет тенденцию испортить приятные части дабл-трека. Он был настолько точен, что звучал почти как один трек. Однако не все голоса подходят для двойного трекинга. На самом деле существует своего рода обратный закон: чем лучше голос, тем хуже он звучит при дабл-треке, и наоборот. Фрэнк Синатра, например, звучит не очень хорошо на дабл-треке. С другой стороны, Билли Дж. Крамеру почти все время приходилось работать в двух направлениях. Сейчас это делается очень много. Элтон Джон довольно часто играет на двух треках. «Live and Let Die» Пола Маккартни по сути был двухдорожечным. Пол делает это настолько точно, что это звучит почти как один голос, хотя звук все равно получается сильнее и лучше. Как и со всеми эффектами, с ним легко переусердствовать, но при правильном использовании это очень полезный инструмент. Искусственное двойное отслеживание, или ADT, было работой одного из инженеров студии EMI. Кен Таунсенд, который сейчас возглавляет студию Abbey Road, присутствовал на многих моих сессиях в начале шестидесятых и видел, сколько времени и усилий тратилось на дублирование голосов и инструментов. Однажды вечером в 1964 году он подумал об этом, возвращаясь домой после выступления «Битлз». Ему пришла в голову идея, что если бы можно было снимать сигнал с записывающей головки магнитофона, а также с воспроизводящей головки (а не только с воспроизводящей головки), и задерживать его до тех пор, пока он почти не совпадет с сигналом воспроизводящей головки, голову, вы можете получить два звуковых образа вместо одного. Более того, изменяя относительное расстояние между двумя изображениями, можно было вносить коррективы до тех пор, пока звук не стал действительно хорошим. Оригинальное устройство было настоящим хитом. Для этого процесса требовалась пара других магнитофонов, а также многодорожечный, и, конечно, это можно было сделать только во время микширования, поскольку оно включало манипулирование существующей записью. Но мы обнаружили, что изменение скорости второго изображения дает бонус. Он менял частоту, таким образом, второй голос немного отличался от первого. Изменение расстояния может привести нас от эффекта длинного эха через АТД к фазированию, пока два изображения не станут одним. ADT похож на два фотографических слайда, перекрывающихся и частично перемещающихся относительно друг друга. Сам того не желая, я придумал новое слово в нашем техническом языке. Когда я впервые попробовал ADT на голосе Джона Леннона, он был сбит с толку. Что это было? Как это было сделано? Я ответил тарабарщиной: «Ну, Джон, — сказал я очень серьезно, — это двойной раздвоенный фланец». Он знал, что я его подстраиваю, но всегда называл это «флэнжером» голоса. Много лет спустя я был в американской студии и услышал, как кто-то использовал этот термин. Я спросил, откуда он это взял, и мне объяснили, что это относится к изменению скорости ленты на заре звукозаписи путем помещения большого пальца во фланец катушки с лентой. В наши дни существует множество сложных устройств, которые выполняют подобные трюки — ADT, фленджеры, фазеры и другие, помимо гармонайзеров и так далее. И флэнжер теперь означает нечто иное, чем ADT. Двойное трекинг явно является экстравагантным инструментом, если у вас есть только четыре или восемь треков для работы. И хотя это была еще одна причина желания – нет, необходимости – многодорожечных записывающих устройств, даже сегодняшние двадцать четыре дорожки требуют изрядной степени дисциплины. Потакание своим прихотям в одной области может потребовать экономии в другой. Например, я склонен весьма экстравагантно использовать треки для ритма. Обычно у меня есть отдельный трек для бас-барабана, затем два трека для стереозвучания барабанов, чтобы придать атмосферности, и четвертый трек для малого барабана. Это четыре трека только для барабанов. Бас-гитара обычно занимает только один трек; но иногда, если меня немного беспокоит этот звук, я также записываю его из звуков студии, выходящих из усилителя, в то время как другой трек записывается прямым вводом с инструмента, без использования громкоговорителя. . Обычно я записываю фортепиано в стерео, что занимает еще два трека. Возможно, в конечном итоге это не получится в виде стерео, потому что я могу объединить две части позже, но, по крайней мере, я знаю, что у меня есть возможность распространить звук фортепиано, если я почувствую, что мне нужно дополнить свою «стереокартину» 'стирать'. Так что, возможно, в общей сложности восемь треков уже использованы, даже не задумываясь о вокале, духовых инструментах, струнных, аккомпанементах или каких-либо других инструментах. Но за десять лет или около того мы прошли долгий путь с тех пор, как «Битлз», Джефф Эмерик и я сделали «Сержанта Пеппера» на четырехдорожечной пластинке. Иногда, оглядываясь назад, это кажется едва ли возможным. Однако мы это сделали, и то, как мы это сделали, — отдельная история.
Водопад Америки имел большое значение. Это имело значение, потому что, проще говоря, это был самый большой рынок звукозаписи в мире. В январе 1964 года, когда «I Want to Hold Your Hand» занял первое место в американских чартах, он открыл для нас этот рынок. Если в ретроспективе наше волнение кажется слишком драматичным, важно помнить, что ни один британский художник не приблизился к тому, чтобы проникнуть на этот рынок таким же образом. Америка всегда была Эльдорадо в мире развлечений. Во времена славы Голливуда мы поклонялись британским звездам, которые приехали туда и сумели это сделать - Роберту Донату, Мадлен Кэрролл, Рональду Колману, К. Обри Смиту, Кэри Гранту, Рэю Милланду и, конечно же, Чарли Чаплину. Чтобы добиться успеха в мире, нужно было добиться успеха в Америке. В звукозаписывающем бизнесе, казалось, было общепринято, что американцы господствуют. В Англии, конечно, на рынке доминировали импортные американские пластинки, и мы никогда не могли разорвать эту мертвую хватку. Если кто-то думает, что импортные японские автомобили сегодня представляют собой проблему, стоит вспомнить, что американские рекорды продавались лучше, чем отечественная продукция, в пять раз. Вряд ли это было удивительно. В конце концов, поименное голосование проходило от Синатры, Пресли и Кросби до Митча Миллера, Гая Митчелла и Дорис Дэй. Там было множество громких имен и, конечно же, большинство джазистов — Эллингтон, Армстронг, Бэйси и остальные. На этом традиционном фоне любая идея повернуть эту тенденцию вспять была почти немыслима. Вера Линн оказала определенное влияние своей пластинкой «Auf Wiedersehen», которая заняла высокие места в чартах Америки. Единственным англичанином, сделавшим это, была Маленькая Лори Лондон с песней «Весь мир в его руках». Но это были всего лишь разовые успехи с синглами. Никто из британского мира звукозаписи не добился длительного успеха как на синглах, так и на лонгплеях. То, что собирались сделать «Битлз», было беспрецедентным и для нас почти невероятным. Быть там и видеть, как все эти знаменитые американские звезды выстраиваются в очередь, чтобы увидеть «Битлз» и отдать им дань уважения, было необыкновенным опытом. Однако это было непросто. С того момента, как «Битлз» появились в Англии в январе 1963 года, мы изо всех сил старались продать их в Америке. Все, что мы пытались сделать, казалось, встречало оглушительную пощечину. К тому времени, конечно, EMI купила Capitol, поэтому я, естественно, с энтузиазмом воспользовался услугами нашей компании в Штатах. Сразу после успеха «Please Please Me» я сказал: «Правильно! Давайте отправим пластинки «Битлз» в Штаты и продадим их там». Я получил краткий ответ от Алана Ливингстона, президента Capitol: «Мы не думаем, что «Битлз» сделают что-нибудь на этом рынке». Это был отпор номер один. Но мы с Брайаном Эпстайном отказались оставить этот вопрос на достигнутом. Мы придерживались мнения, что если Капитолию они не нужны, мы отправим их куда-нибудь еще. Это где-то еще был VJ Records, крошечный лейбл, но единственный, кто принял предлагаемую нами пластинку «She Loves You». Он продавался не очень хорошо, но, по крайней мере, он что-то сделал, и, по крайней мере, у нас был рекорд на американском рынке. Когда у нас появилась возможность предложить вторую пластинку, мы снова поехали в Капитолий. Нам снова отказали. Результаты с VJ были менее чем впечатляющими, поэтому мы обратились на второй крошечный лейбл Swan Records и стали ждать, что они смогут сделать. Ответ был: не очень. Но опять же, хоть небольшое впечатление осталось. Затем последовал третий рекорд. В третий раз мы поехали в Капитолий. «Ради бога, сделайте что-нибудь с этим», — сказали мы. «Эти ребята ломают это, и они будут фантастическими во всем мире. Так что, ради всего святого, держитесь за них. Капитолий в третий раз отказался. Но в отличие от Святого Петра, им суждено было получить четвертый шанс; наконец, в начале 1964 года они сказали: «Мы возьмем одну пластинку и посмотрим, как пойдет». Дело в том, что к тому времени в Англии произошло так много всего, и так много людей действовали на столь многих фронтах, что даже Алан Ливингстон мог видеть, что он не пойдет на большой риск. Конечно, любой сотрудник EMI, обладающий полномочиями, должен был просто поручить Capitol выпустить более ранние записи. Но никто этого не сделал, и я все еще оставался слабой силой, контролирующей свою маленькую империю в Парлофоне, но не имевшей никакого права голоса в том, что происходило в Америке. Поэтому, когда «Битлз» впервые приехали в Америку, и я вместе с ними, жители Капитолия были в некоторой степени смущены. Они уже тогда намекали, что «Битлз» — их продукт, и мое появление, естественно, поставило под сомнение эту точку зрения. Их реакция заключалась в том, чтобы не мешать мне. На первой пресс-конференции Битлз в Нью-Йорке всем шоу руководил Алан Ливингстон. Он держал меня подальше от прессы, что, должен признать, выглядело несколько странно. В довершение ко всему, он представил «Битлз» как записывающихся артистов Капитолия — слова, которые плохо сорвались с уст человека, который трижды им отказал! Это было не единственное безумие в первом приезде «Битлз» в Нью-Йорк. Произошло полное, коллективное безумие, которое трудно понять тому, кто не был там. Мужчины среднего возраста шли по Пятой авеню в париках «Битлз», чтобы показать, насколько они гармоничны. Мальчики остановились в отеле «Плаза» на вершине Пятой авеню в Центральном парке. Возле отеля есть что-то вроде пешеходной зоны, и за все время пребывания там «Битлз» эта площадь была забита людьми, как Трафальгарская площадь в ночь выборов. Из общей мании было одно или два исключения. Джуди сама заплатила за то, чтобы увидеть, как все это происходит. Она остановилась в женском клубе «Вассар», так как ее подруга когда-то посещала этот американский женский колледж для высших слоев общества. Все дамы, останавливавшиеся там, рассказывали Джуди о культурных достопримечательностях, которые она могла бы посетить, находясь в Нью-Йорке. Ей не хотелось отвечать, что она действительно была на концертах Битлз. Но именно туда большинство людей, казалось, хотели пойти. Если вы включите радио в любое время дня и ночи, на любой станции, вы услышите песню «Битлз», а в Нью-Йорке, конечно, нет недостатка в радиостанциях. К тому времени прошел год записи, и у нас вышел альбом.
EP и пять синглов. Я записал около двадцати наименований, и они постоянно их проигрывали. Конечно, не только музыка вызвала истерию, точно так же, как музыка не была единственной причиной, по которой я подписал контракт с «Битлз». Эта приятная харизма распространилась на мир в целом, который увидел то, чего раньше не видел. Это было выражение молодости, легкое перетирание следов, нашедшее живой отклик у молодежи. Любопытно, что это была реакция, на которую родители, хотя им самим, возможно, и не нравилась музыка, похоже, не возражали. На первый концерт в Вашингтоне пришли многие из них. Его давали на боксерском стадионе, так что ребята были полностью окружены публикой. Примерно после каждого четвертого номера они поворачивались к следующей четверти публики и играли им по очереди. Публика, несмотря на присутствие различных родителей, была в основном подростковой и очень горячей. На сиденье рядом со мной маленькая девочка подпрыгивала вверх и вниз и говорила: «Разве они просто великолепны?» Разве они не просто потрясающие? — Да, это так, — сказал я, полагаю, несколько неадекватно для нее. — Они вам тоже нравятся, сэр? она спросила. — Да, скорее, — сказал я, прекрасно понимая, что она не может понять, что делает этот старик, сидящий рядом с ней! Но, возможно, ей стало легче, когда мальчики сыграли такую песню, как «I Want to Hold Your Hand», и все в зале начали петь вместе с ними, потому что тогда мы с Джуди просто вставали и кричали вместе с остальными. . Возможно, это звучит глупо, но это был точно такой же крик, как кричат взрослые на футбольных матчах. И особенно для нас, среди шестидесяти тысяч людей, которые наслаждались жизнью в полной мере, полностью отождествляя себя с людьми, которые выступали, с людьми, которых мы близко знали, с людьми, с которыми мы сделали все пластинки и каждую частичку музыки. - в этой ситуации было слишком легко закричать, погрузившись в этот огромный поток бурлящего счастья и восторга. Дальше все было не так хорошо. Шел снег, и когда Брайан Эпштейн вывел нас на улицу к теоретически ожидающему лимузину, мы просто не смогли найти указанный автомобиль во всем этом столпотворении, и нам пришлось идти в поисках транспорта, пробираясь через, казалось, два фута слякоти. . Не слишком обрадовались «Битлз» и последовавшей за этим вечеринке в британском посольстве, чья полная норма бесподбородочных чудес вела себя отвратительно. Они подходили к мальчикам с небрежным вопросом: «Ой, а ты кто?», а один даже взял ножницы и отрезал прядь волос Ринго, пока он разговаривал с кем-то другим. Это едва не привело к дипломатическому инциденту. Было еще хуже, когда мы наконец вернулись в Нью-Йорк на поезде. Центральный вокзал осаждали фанаты, и сначала им пришлось запереть нас в поезде. В конце концов нас вытащили в лифте, который должен был использоваться только для посылок и тяжелых грузов. Но единственный раз, когда я действительно испугался, был в Денвере. Откуда мы прилетели, я забыл. Действительно, я, вероятно, никогда не знал. Рок-тур по Америке — это бизнес, который осуществляется по свистку, и вы буквально не знаете, в каком городе вы находитесь. Вас вбрасывают в самолет, вы где-то приземляетесь, даете концерт, возвращаетесь в какой-то отель, снова падаете в постель. , устроить вечеринку - и тут тебя кормят в другой самолет. Мальчики спрашивали: «Мы в Оклахоме или Канзасе?» Мы в Нью-Йорке или Цинциннати? Единственный способ узнать это — спросить кого-нибудь знающего, а таких людей найти было трудно. Но я помню Денвер. Он находится на высоте около семи тысяч футов, и, чтобы попасть в аэропорт, самолету приходится сделать довольно крутой вираж, прежде чем он приземлится. Джордж Харрисон не был к этому готов и перепугался до смерти, то молясь об избавлении, то крича: «Мы потерпим крушение!» На взлетную полосу навстречу самолету выстроились пять «кадиллаков», и мы погрузились в них. Но вместо того, чтобы ехать прямо в отель, мэр спросил нас, не проведем ли мы экскурсию по периметру аэродрома. Причина вскоре стала очевидна. По всему периметру он был забит вентиляторами, человек в десять глубиной, прижатыми к забору из колючей проволоки, словно Шталаг Люфт III, вывернутый наизнанку. Мы проехали, казалось, несколько миль, примерно в пяти футах от забора, в пяти футах от моря счастливых, кричащих людей, которые отчаянно махали руками. Как только эта «королевская» процессия завершилась, мы отправились в отель «Браун» в Денвере, который был окружен таким количеством людей, что нам нужно было отвлечься. Он состоял из нескольких людей, притворившихся «Битлз» и подъехавших на лимузинах к передней части отеля, а мы вошли сзади, через вход на кухню. Беда была в том, что все фотографы и журналисты бросились на то, что мы делали, и ринулись за нами. В результате на кухне завязалась жуткая драка, кастрюли и сковородки летели во все стороны. Брайан, четверо мальчиков и я наконец добрались до служебного лифта, но прежде чем мы успели закрыть двери, репортеры, самые безжалостные люди на земле, когда дело доходит до получения материала, просто втиснулись к нам. Еще до того, как двери закрылись, это было похоже на Черную дыру Калькутты, все плотно прижались друг к другу. Кто-то нажал кнопку, чтобы поднять нас на верхний этаж, но жалкий лифт, перегруженный до предела, продержался всего два с половиной этажа, прежде чем решил прекратить работу. Срок действия истек между этажами. Поскольку у нас почти не было места и воздуха, чтобы дышать, вполне вероятно, что мы могли бы пойти тем же путем. В конце концов они взломали ворота этажа над нами; мы подняли верхнюю часть лифта и полезли наверх один за другим. Но я действительно был очень напуган; а позже тем же вечером мне пришлось испытать другой вид страха. Концерт проходил на стадионе «Ред Рок», естественном амфитеатре, высеченном в скале. В нем вмещалось около двадцати тысяч человек. Сиденья располагались в естественной чаше скалы, а под ней находилась сцена; В двух огромных башнях по обе стороны сцены размещалось все усиливающее оборудование и прожекторы. Во время концерта мы с Брайаном решили, что нам хотелось бы увидеть происходящее с высоты птичьего полета. Итак, мы поднялись на одну из башен, вершина которой находилась примерно на уровне верха толпы. Даже за амфитеатром мы могли видеть людей, сидящих на деревьях и так далее, пытающихся заглянуть внутрь. Это был момент, когда мы поняли, насколько уязвимы были мальчики. Мы могли видеть их внизу в виде маленьких точек, но один снайпер среди всех этих людей мог бы очень легко их подстрелить. И это не какая-то дикая чрезмерная драматизация. Все это было безумно, фанатично и немного нереально, и Брайан уже беспокоился за их безопасность. В конце концов, президента Кеннеди застрелили в 1963 году, а концерт в Денвере состоялся после знаменитых высказываний Джона Леннона о сравнительной популярности Иисуса Христа и «Битлз». Учитывая религиозный фанатизм, который можно встретить в Штатах, это не помогло. Конечно, как и многое из того, что говорилось и сообщалось в то время, все это было раздуто до невероятных размеров. Я не могу вспомнить точные слова Джона, но знаю его намерения. Он был слегка озадачен тем эффектом, который «Битлз» оказали на мир, и его заявление было основано на фактах. Это было так: «Когда вы посмотрите на это, мы на самом деле более популярны, чем Иисус». Это было правдой. Гораздо меньше людей ходили в церковь, чем слушали пластинки «Битлз» и ходили на концерты «Битлз». Но он не имел в виду, что «Битлз» важнее Христа, как интерпретировало это замечание большинство людей. Напротив, он сожалел о сложившейся ситуации, сожалел о том, что так оно и есть. При постоянном чрезмерном разоблачении, от которого они страдали (или наслаждались, в зависимости от точки зрения на этот вопрос), такого рода недоразумения были неизбежны. Каждый небольшой фрагмент информации о том, что они ели, что пили, как спали, почти дышали ли, был сыпью на мельницу СМИ. Собеседования быстро стали утомительными, потому что им снова и снова задавали одни и те же вопросы. В тех редких случаях, когда вопрос был необычным, они поднимали его и пытались ответить на него. Например, они могли задавать ряд вопросов вроде: «Как вы пишете музыку?» Вы пишете слова так же хорошо, как и музыку? Тогда вдруг какая-то яркая искра может внезапно спросить: «Ну, как вы думаете, кукурузные хлопья влияют на интеллект среднего американского мужчины?» Джон Леннон мог сразу ответить что-то вроде: «Нет, но я думаю, что кокаин мог бы подойти». На следующий день заголовки гласят: «ДЖОН ЛЕННОН ЗАЩИЩАЕТ КОКАИН». Каждая мелочь, которую они говорили, была переведена в инструкции «Битлз» о том, как нам следует себя вести – и снова. В конце концов, у них просто не было опыта Джима Каллагана или Гарольда Уилсона в парировании вопросов и обнаружении скрытой опасности в их ответах. Поэтому их постоянно объявляли защитниками вещей, о которых они мало что знали. Затем, если на них нападут, они будут загнаны в угол и им придется оправдываться за то, что они сказали. Для неопытных людей это была очень тяжелая поездка. И это была не просто проблема со СМИ. Общественность тоже относилась к ним жестко. Всякий раз, когда «Битлз» видели что-то происходящее или приближающегося к ним кого-то, что казалось немного сомнительным, они давали друг другу пароль, который они разработали между собой: «Калека!» Это означало, что им пришлось укрыться. Если это кажется суровым, факт в том, что им постоянно навязывали калек и других людей. Они могли бы выступать на телевидении, а во время перерыва сидели бы в своей гримерке и тихо перекусывали. Внезапно дверь открылась, и вошел помощник режиссера, везя больного, желавшего познакомиться с «Битлз». Им придется поговорить с этим несчастным и постараться понравиться. Это происходило постоянно. Это было почти как поездка в Лурд. Были люди, которым действительно хотелось потрогать края одежды, которую они носили. Члены королевской семьи с рождения обучены справляться с подобными вещами; Битлз не были. Вряд ли их можно винить в желании воздвигнуть барьер против мира. Конечно, люди могут справедливо сказать, что истерия и лесть сами по себе помогли продать пластинки, и что продажа пластинок была тем, чем мы пытались заниматься. Но где-то должен был быть найден баланс – а его так и не произошло. Однако музыка продавалась, продавалась и продавалась. После прорыва дамбы продажи в первый год в Америке были огромными, хотя это была лишь капля в море по сравнению с тем, что последовало за этим. Для меня это принесло большое волнение и большую гордость. Это был не вопрос гламура; в конце концов, я привык иметь дело с Питерами Селлерсами и Софи Лоренс этого мира. Это было больше связано с идеей, что что-то, созданное человеком, слышится в миллионах и миллионах домов по всему миру; что оно в буквальном смысле становилось частью языка. Это чрезвычайно взволновало меня и доставило большое удовлетворение – даже если это не принесло мне никакого богатства: я все еще зарабатывал менее 3000 фунтов стерлингов в год с EMI. Оглядываясь назад, я думаю, что более чем вероятно, что «Битлз» думали, что благодаря нашему успеху у меня дела идут ужасно хорошо, и что они несут за это ответственность. Но я никогда не обсуждал это ни с ними, ни с Брайаном. К тому же в те первые два года даже они в деньгах не катались. Чтобы получить гонорары, требуется много времени, и Брайан, конечно же, не торопился с заказом «Роллс-Ройсов». Да и времени думать о деньгах не было. Мы все просто отчаянно работали, чтобы построить все это. В любом случае, «Битлз» никогда не были теми, кто проявлял заботу или благодарность к кому-либо еще. Хотя они, очевидно, ценили то, что я делаю, они никогда не были теми людьми, которые изо всех сил пытались сказать: «Какую замечательную работу ты проделал, Джордж!» Возьмите отпуск на три недели. Но я никогда не ожидал от них такого. У них был независимый и ругательный характер, им было наплевать на всех, и это было одной из тех вещей, которые мне в них нравились в первую очередь, и одним из факторов, которые заставили меня принять решение подписать их. И, честно говоря, меня не особо интересовала какая-либо благодарность или признательность, которые они могли бы выказать мне. Все, что я хотел от них, — это хороших песен. И те, которые они мне дали. Вначале я подумал: Боже, это не может длиться вечно. Они дали мне так много хорошего, что я не могу ожидать, что они будут продолжать это делать. Но они это сделали. Они поразили меня своей плодовитостью. Поначалу материал был довольно сырым, но писательские способности они развили очень быстро; гармонии и сами песни стали более умными на протяжении 1963 года. Хотя, очевидно, нужно было быть хорошим продюсером, чтобы сделать пластинки коммерчески жизнеспособными, на том раннем этапе в моей роли определенно не было гения. Вероятно, нашлось несколько продюсеров, которые могли бы сделать это не хуже. Поворотным моментом, вероятно, стала песня «Yesterday» на Help! альбом, который мы выпустили в 1965 году. Именно тогда, как я могу видеть, оглядываясь назад, я начал оставлять свой след в музыке, когда начал формироваться стиль, частично созданный мной. Именно в «Yesterday» я начал писать их музыку. Именно в «Yesterday» мы впервые использовали инструменты и других музыкантов, кроме «Битлз» и меня (я часто играл на пианино там, где это было необходимо, как, например, в «A Hard Day’s Night»). В «Yesterday» добавленным ингредиентом был не больше и не меньше, чем струнный квартет; и это в поп-мире того времени было большим шагом. Именно с «Yesterday» мы начали выходить из фазы использования всего четырех инструментов и перешли к чему-то более экспериментальному, хотя наши первоначальные эксперименты были сильно ограничены довольно грубыми инструментами, имевшимися в нашем распоряжении, и их нужно было просто отлить в форму. моего опыта записи. Как я предположил ранее, в наших отношениях возникло двустороннее колебание. С одной стороны, по мере появления стиля и развития техники записи мой контроль над тем, как будет звучать готовый продукт, возрастал. Но в то же время моя потребность в изменении чистой музыки становилась все меньше и меньше. Видя, как растет их талант, я мог признать, что идея, исходящая от них, лучше, чем идея, исходящая от меня, хотя мне все равно придется решать, какой подход лучше. В каком-то смысле я сделал своего рода тактическое отступление, признав, что у них больший талант. Это был великий талант. Они были Коулами Портерами и Джорджами Гершвинами своего поколения, в этом нет никаких сомнений. Кто-то сравнил их с Шубертом, что звучит несколько претенциозно, но я бы согласился с этим, поскольку их музыка идеально отражала период, в котором они жили. Конечно, там было определенное количество мусора, но это относилось и к таким людям, как Коул Портер. И хотя такие слова, как «A Day in the Life», возможно, не совсем похожи на Лоренца Харта, это очень, очень хорошие слова очень странного характера. Это своего поколения. Это возбудило детей. Это было правильно для своего времени. Кроме того, конечно, сотни артистов сделали кавер-версии песен Битлз. Теперь многие люди почувствовали, что это критерий их авторитета как композиторов; что когда кто-то вроде Эллы Фицджеральд пел «Can’t Buy Me Love», это давало им почти королевскую печать одобрения. Но я с этим не согласен, потому что фактом является то, что очень много людей присоединилось к этой победе. Даже Элла Фицджеральд в этом мире не выше этого, когда это означает увеличение продаж. Она не обязательно думала, что это была величайшая песня всех времен. Она вполне могла бы предпочесть записать «Moonlight in Vermont», но песня «Битлз» была коммерческой уверенностью. Опять же, в музыке много снобизма. Некоторые люди могли подумать, что Элла Фицджеральд лучше «Битлз» и поэтому оказывает им одолжение. Я не думаю, что это было обязательно так. Она великолепная певица, но с точки зрения артистизма я бы не был слишком уверен в этом сравнении. Не вызывает сомнений то, что их песни были великолепны. Начиная с «Please Please Me», у нас было двенадцать последовательных номеров. Это было уникальное достижение, поэтому, возможно, стоит их перечислить: «От меня к тебе», «Она любит тебя», «Я хочу держать тебя за руку», «Не могу купить мне любовь», «Ночь тяжелого дня». ', 'Я чувствую себя хорошо', 'Билет на поездку', 'Помогите!', 'Однодневная поездка', 'Писатель в мягкой обложке' и 'Желтая подводная лодка'. Это стало почти признанным фактом природы. Вопрос был не в том, достигнет ли рекорд первого места, а в том, как быстро. В конце концов, это произошло в первую неделю, а предварительные продажи составили около миллиона. Затем появился номер тринадцать, невезучий номер тринадцать. Это было весьма необычно, потому что, по моему мнению, это была лучшая пластинка, которую мы когда-либо делали - «Penny Lane» и «Strawberry Fields» (вряд ли в этом контексте можно использовать фразу «поддержано», потому что это действительно была двойная пятерка). -сторонняя запись - это означает, что промоутерам записи следует рассматривать обе стороны как одинаково важные). За неделю выпуска он занял только второе место. Пластинка, которая не позволила мне это сделать, была сделана Питером Салливаном, который в последующие годы стал моим партнером. Это был парень по имени Энгельберт Хампердинк, поющий «Release Me»! Холодным и беспристрастным взглядом задним числом я спрашиваю: «Это было справедливо?» Я до сих пор нахожу это совершенно удивительным. К счастью, однако, наше продвижение было лишь задержкой, и «нормальная служба» первых номеров возобновилась сразу же после этого. Тем временем, конечно, мне все еще нужно было заниматься всеми остальными артистами. ощущение, что некоторым уделяется больше внимания
чем другие. К счастью, единственный раз, когда действительно возникла проблема, был случай с Ширли Бэсси. Карьера Ширли была довольно неоднозначной. Она была очень переменчивым человеком и уже работала в различных звукозаписывающих компаниях, включая EMI, для которой ее записал Норман Ньюэлл. В конце концов она пришла ко мне, потому что, наверное, я был в то время «горячим» человеком, с «Битлз» и так далее. Она была очень эмоциональна, но мне она очень нравилась. И, конечно, она была потрясающим художником. «I Who Have Nothing» был первым большим хитом, который мы с ней сделали, а позже мы записали «Goldfinger». Мы прекрасно ладили, пока однажды она не пришла ко мне в офис, чтобы «запрограммировать» несколько песен. Рутина означала, что я собирал несколько песен, которые, по моему мнению, подходили бы артистке, в данном случае Ширли, а затем она приходила в офис, и мы проигрывали их на фортепиано. Договорившись о номерах, которые она будет петь, мы решали, в каких тональностях они будут исполняться, какова будет форма записи, сколько в них будет припевов, какое оркестровое сопровождение, какое начало и конец. и так далее. Она провела весь день, разучивая со мной эти песни. Когда мы закончили, я сказал: «Есть только одна проблема, Ширли: мы еще не назначили дату записи». «О, да, я знаю, когда хочу записаться», — сказала она. «Я уезжаю в отпуск и вернусь в воскресенье, поэтому я хотел бы записаться в понедельник вечером». — Хорошо, — сказал я. Потом я заглянул в свой дневник. «О, нет, извини, Ширли, я не могу приехать в тот вечер. Я могу это сделать в любой другой вечер на этой неделе или во второй половине дня понедельника. Но я не могу приехать именно в этот вечер». «Но я хочу записать ту ночь». — Прости, Ширли, но я правда не могу. Я могу заниматься во вторник, среду, четверг или пятницу, но не в понедельник». Сейчас я так же уверен, как и тогда, что она знала, почему я не смог приехать в тот вечер. Потому что далее она сказала: «Если я вообще что-то для тебя значу, ты сделаешь это, когда я захочу. Я хочу сделать это в понедельник вечером». «Извините, — повторил я, — но я не собираюсь работать этой ночью, потому что у меня другое задание». При этом она вышла из комнаты, практически разбив стекло двери и сказав: «Я слишком долго жила в тени Битлз и Силлы Блэк, Джордж Мартин». Дело в том, что в тот понедельник вечером Силла выступала на командном представлении, и я обещал быть там. Я настолько уверен, насколько могу быть, что Ширли знала это и что для нее это был просто еще один пример того, как она заняла второе место после других людей. В моей книге она была лишь одной из очень хороших артистов, с которыми я работал. Нет сомнений, что если бы я побежал по коридору и сказал: «Послушай, извини, Ширли, я уверен, что в понедельник все будет хорошо», она была бы очень рада и продолжила бы запись со мной. Но я тоже могу быть упрямым старым козлом. Я подумал: Ты мне нравишься, Ширли, но ты мне не так уж и нужен. Больше я ее никогда не записывал. Это не было потерей ни для кого из нас. Однако она осталась в EMI, и я думаю, что Уолли Ридли взял ее на себя. Я рад сообщить, что с тех пор мы виделись много раз и остаемся хорошими друзьями. Но это был пример того, как ливерпульские триумфы могли вызвать волну волн на берегу пруда Парлофон. Я, в свою очередь, обнаружил, что волны доходят до меня совсем с другой стороны, от организации Apple, которую Битлз основали примерно в 1965 году. Об Apple написано очень много, но чтобы дать представление о том, какие надежды они на нее возлагали, нет ничего лучше, чем дословно процитировать приложение к официальной биографии Битлз Хантера Дэвиса, написанное пару лет спустя. 'Яблоко. На момент написания она все еще развивается и расширяется, но в ближайшие годы это будет основная бизнес-компания Битлз. Уже есть Apple Corps Ltd, Apple Films Ltd, Apple Publishing Company, Apple Electronics и Apple Records. Эти компании управляют различными предприятиями, включая бутик Apple на Бейкер-стрит в Лондоне, а также сеть других магазинов, расположенных по всему миру. Со временем появятся студии звукозаписи и киностудии. Битлз видят, что однажды Apple станет гигантской корпорацией американского типа, производящей самые разные продукты, а также поддерживающей других людей и фирмы. Он полностью принадлежит «Битлз», им управляют люди, которых они лично выбрали, и он поддерживается их огромными финансовыми ресурсами». Apple потерпела полное фиаско и обошлась им в миллионы. С самого начала, и это не говоря уже о прошлом, я предвзято смотрел на все происходящее, потому что видел, как ужасно оно развивалось и что оно было обречено с самого начала. Но меня это не особо беспокоило. Это волновало Брайана, и он все меньше и меньше мог с этим справиться. Проблема заключалась в том, что ею управляли четыре идеалиста, и никто по-настоящему не контролировал ситуацию. Якобы главным был Нил Аспиналл, их гастрольный менеджер. Он был председателем, но каждый из них по очереди отдавал приказы, иногда противоречивые. Я помню, как встретился с сэром Джозефом Локвудом, главой EMI, и он сказал мне: «Знаете, Нил Аспиналл позвонил мне сегодня и сказал: «Как один председатель другому, можете ли вы дать мне совет по тому-то и тому-то?»'! ! На самом деле у Нила довольно хороший мозг, но он был не в своем классе, когда имел дело с такими людьми. Трагедия заключалась в том, что это была чрезвычайно похвальная идея. Они хотели использовать с пользой все поступающие деньги. Мотивация была примерно такой: с этими ресурсами мы можем сделать что угодно. Мы можем нанимать людей для создания вещей для нас, развивать новые искусства и новые науки, поощрять ученых к разработке новых изобретений, поощрять новых писателей. .. . И так далее. Это была чудесная утопическая идея. Если бы с этим справились должным образом, это стало бы большим благом для музыкального бизнеса. Однако он привлекал некоторых необычных людей, и контроль над исследованиями и разработками был очень слабым. Из всей армии прихлебателей мне наиболее ярко запомнился Мэджик Алекс, поскольку он вмешивался в мою работу и мои музыкальные отношения с ребятами. Я так и не смог вспомнить его настоящего имени, но это был грек, который снискал расположение Джона Леннона и был настолько нелепым, что это было бы смешно, если бы он не вызвал у меня столько смущения и затруднений в студии звукозаписи. Он был одним из группы подхалимов, которые постоянно причиняли вред, говоря мальчикам, что они не получают лучшего обращения, говоря им, что они заслуживают лучшего, чем гнилое старое оборудование, которое использовали все остальные. Мне это было не нужно. Я знал лучше, чем кто-либо другой, что нам не хватает определенных возможностей, которые есть в независимых американских студиях. Я все еще работал над четырехгусеничными машинами, когда понял, что восьмигусеничные уже распространены в Америке, а шестнадцатигусеничные машины были не за горами. Меня это раздражало так же, как и мальчиков. Но я мог бы обойтись без Мэджика Алекса, который однажды появился бы и объявил высокомерным голосом: «Ну, конечно, я проектирую семидесятидвухгусеничную машину». Алекс, безусловно, был умен и хорошо разбирался в электронике; но мальчики потворствовали его самым смелым прихотям. Он приносил в студию маленькие игрушки в качестве одноразовых подарков, что, конечно же, радовало мальчиков. Однажды он пришел с маленькой машинкой размером примерно в половину кассеты, питавшейся от микроэлементной батареи. При включении он издавал серию случайных звуковых сигналов. 'Фантастика!' - сказал Джон. — Ты это сделал? «О, всего лишь маленькая штуковина, которую я сделал за десять минут», — сказал Мэджик Алекс. Затем он начинал торговую кампанию. — Это просто для того, чтобы дать представление о том, что мы можем сделать. Теперь у меня возникла идея нового изобретения. Это краска, которая, если я распылю ее на стену и подключу к двум анодам, заставит всю стену светиться. Вам не понадобится свет. 'Фантастика!' - сказал Джон. — Имейте в виду, — сказал Мэджик Алекс. — Мне понадобится небольшая поддержка, чтобы все это настроить. 'Фантастика!' - сказал Джон. В другой раз Пол пришел рассказать мне об идее Мэджика Алекса об изобретении телефона. «Знаете, у нас в стране настолько устарели телефоны», — сказал он. — Но Алекс над чем-то работает. Нам даже не понадобятся телефонные справочники. Я буду в своей гостиной и просто скажу: «Дайте мне Джорджа Мартина», и телефон услышит это и будет компьютеризирован, чтобы понять слова. Он автоматически наберет ваш номер, и вы окажетесь на другом конце телефона, и мне не придется ничего с этим делать. С компьютеризацией все так просто, и Алекс все это придумал». 'Действительно?' Я сказал. Признаюсь, я имел обыкновение глупо смеяться, когда они приходили и объявляли о последнем детище богатого воображения Алекса. Их реакция всегда была одинаковой: «Ты будешь смеяться другой стороной лица, когда Алекс это придумает». Но, конечно, он этого не сделал. Полагаю, его призовой идеей был звуковой экран. Однажды мальчики сообщили мне об этой гениальной изобретательной работе. «Почему вам нужно прятать Ринго с его барабанами за всеми этими ужасными ширмами?» они спросили. — Мы не можем его видеть. Мы знаем, что он издает хороший звук барабанов и отсекает все помехи, попадающие на наши гитары и все такое, но, черт возьми, эти чертовы огромные экраны, запирающие его, вызывают у него клаустрофобию». Я молча ждал, зная, что проблема была бы решена при вспышке греческого вдохновения. Так и случилось. «У Алекса появилась блестящая идея! Он придумал действительно замечательную вещь: звуковой экран! Он собирается окружить Ринго сверхвысокочастотными лучами, и когда они включатся, он ничего не сможет услышать, потому что лучи образуют стену тишины». Слова, я полностью признаю, меня подвели. Проблема заключалась в том, что Алекс всегда приходил в студию, чтобы посмотреть, что мы делаем, и поучиться у этого, и в то же время говорил: «Эти люди настолько устарели». Но мне было очень трудно его выгнать, потому что он очень нравился мальчикам. Поскольку было совершенно очевидно, что я этого не сделал, возник небольшой раскол. Последняя ирония возникла, когда мальчики решили, что собираются построить собственную студию в своем здании на Сэвил-Роу, и что она будет лучшей в мире. И к кому им обратиться за проектированием этой электронной Мекки? Ну, Мэджик Алекс, естественно. Как только он его построил, мальчики сели ждать установки знаменитой семидесятидвухгусеничной машины. Они ждали. И ждал. И наконец, когда в конце 1969 года мы подошли к записи альбома Let it Be, которую они хотели сделать в собственной студии, им пришлось признать, что Алекс так и не сотворил своего чуда. «Тогда вам лучше поставить какое-нибудь оборудование», — сказали они мне. «Хорошо, мы будем использовать мобильное оборудование», — сказал я и вернулся в EMI, от которого к тому времени ушел, чтобы одолжить его. Вместе с Китом Слотером и Дэйвом Харрисом, который в конечном итоге стал моим студийным менеджером в AIR, я установил в Apple все многодорожечные машины и другое оборудование, необходимое для правильной записи — только для одной пластинки. Сделав это, я осмотрел студию, спроектированную Алексом, на предмет ее акустических свойств. Во-первых, в одном углу был очень противный «твиттер». Но на этом наши проблемы не закончились. Алекс упустил из виду одну маленькую деталь: в стене между студией и диспетчерской не было дыры. Единственный способ провести кабели — открыть дверь и проложить их по коридору. Еще один момент: теплоцентраль всего здания располагалась в маленькой комнатке рядом со студией. А поскольку шумоизоляция была не совсем волшебной, то и дело в середине записи раздавался звук, похожий на заводящийся дизель. Если не считать этих мелочей, я полагаю, это была неплохая попытка студийного дизайна. Но это была Apple, и я полагаю, это ирония в том, что человек, привлеченный для устранения административного беспорядка, Аллен Кляйн, ужесточивший контроль и поставивший дело на должное основание, должен был также быть тем человеком, который из-за нелюбви Пола его участие сыграло важную роль в окончательном распаде «Битлз». Он, конечно, вошел, потому что к тому времени Брайан Эпштейн уже был мертв. За те пять лет, что я знал Брайана, мы стали очень хорошими друзьями. Он всегда делал дела с большим размахом и стилем и тратил до отказа. Это всегда было шампанское и копченый лосось, а не рыба с жареным картофелем. Сейчас уже не секрет, что он был гомосексуалистом. Поскольку он редко брал с собой какую-нибудь даму, он, Джуди и я стали тремя близкими друзьями. Он очень любил Джуди, и мы все вместе участвовали в гонках. Один из самых счастливых моментов у нас был в Портмейрионе, с которым он нас познакомил, зная это так же хорошо, как и он, приехавший из Ливерпуля. Я знаю, что он не был счастлив в школе, и знаю, что ему так и не удалось построить настоящие отношения ни с мужчиной, ни с женщиной. Я думаю, что по этим и другим причинам, например, из-за его неудачного желания стать актером, он перенес большое разочарование в жизни. Это разочарование закончилось успехом «Битлз», за который он был во многом ответственен. Он дал им полную преданность делу. Многие люди сдались бы задолго до того, как он наконец пришел ко мне в «Парлофон». Он также придал им стиль. Он сказал им: «Если вы хотите добиться успеха, делайте это по-моему». Именно он настоял на том, чтобы их волосы были одинаковой формы и размера, и одевал их в костюмы без воротников, которые они ненавидели. Но, конечно, он был прав. Изображение стало частью общего пакета. Вы никогда не видели, чтобы мужчины средних лет стояли в очереди за париками Rolling Stones! Позже они от этого отошли и стали проявлять свой вкус в одежде и так далее. Им нравилось видеть, как далеко они смогут зайти, сколько людей возьмут. Должен сказать, что даже я был сбит с толку, когда Джон приобрел свой Роллс-Ройс только для того, чтобы покрасить его полностью в матовый черный цвет, хром и все такое. Я не думаю, что Роллс-Ройс тоже был этому рад! С другой стороны, это были послабления, на которые они имели право, и они никому не причиняли вреда. Но на них передалось большое влияние Брайана. Пол, например, совершил настоящий кутер культуры; Идея Apple как их маркетингового символа была взята из купленной им картины Магритта. Рыба с жареным картофелем и джемом уступили место более элегантным блюдам и хорошим винам, хотя время от времени случались икоты: однажды мы были в ресторане, и Джона спросили, не хочет ли он чего-нибудь из чесотки. «Хорошо, — сказал он, — но положи их там, сбоку. Не рядом с едой. Стиль Брайана Дягилева никогда не был лучше иллюстрирован, чем в июне 1966 года. К тому времени мы с моей первой женой развелись, и мы с Джуди решили пожениться, чего я никогда не мог предвидеть из тех первых морозных встреч, когда я присоединился к EMI в 1950 год. Брайан решил устроить для нас специальный ужин, чтобы отпраздновать это событие. Как обычно, стол в его доме был накрыт красивой серебряной и стеклянной посудой. Вино было превосходным, как и еда, приготовленная Лонни Тримболом, его чернокожим поваром, который был первоклассным. Нас там было одиннадцать: Пол и Джейн, Джон и Син, Джордж и Патти, Ринго и Морин, Джуди и я и Брайан, один. Когда мы сели и вынули салфетки из серебряных подставок, Брайан сказал: «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на свои кольца для салфеток, потому что боюсь, что после сегодняшнего вечера я их больше не увижу». Они были из чистого серебра, и на каждом была написана буква М — свадебный подарок нам с Джуди. Всего одиннадцать, в память о том, что за ужином нас было всего одиннадцать. Это был его стиль. Это отразилось позже, после его смерти, на потрясающем костюмированном вечере, который мальчики устроили по случаю открытия своего фильма «Тайна волшебства». Поскольку весь Лондон знал, что будет вечеринка, и хотел прийти, охрана должна была быть очень строгой, но мальчики все равно настаивали на маскарадных костюмах. Это дало некоторые необычные результаты. Силла Блэк, например, пришла как торговец кокни, в плоской кепке и брюках, а ее муж, Бобби Уиллис, пришел как монахиня. У Бобби очень бледное лицо, и в монашеском одеянии он выглядел невероятно аутентично. Он был в своем костюме, когда они с Силлой ехали в своем кабриолете «Роллс-Ройс Корниш», чтобы забрать друга в отеле «Вестбери» по пути на вечеринку. Он увидел, что их друг ждет, и въехал прямо ко входу в отель, где толпились такси. При этом он на мгновение преградил путь. Комиссар тут же набросился. «Извините, сестра, — сказал он, — но боюсь, мы не можем оставить здесь машину. Не могли бы вы поставить его за угол? Бобби посмотрел ему прямо в глаза и ответил: «Почему бы тебе не разозлиться?» Говорят, что выражение лица мужчины было выражением полнейшего недоверия. Джуди и я выступили как королева и принц Филипп, что было шуткой. Мальчики всегда думали, что она говорит так же, как Монарх, и всякий раз, когда они видели ее, спрашивали: «Как вы с мужем?» Я приобрел форму адмирала флота у одного из поставщиков военно-морского снаряжения; поскольку меча мне не дали, я из чистой грубости приложил к рукаву крылья своего старого наблюдателя. На Джуди была прекрасная тиара и шелковое бальное платье, на груди был перекинут синий пояс с какими-то звездочками и подвязками, а на левом запястье свисала сумочка. Потом Пол сказал мне: «Знаешь, твой выход был очень поразительно.
Люди выстроились в линию, кланяясь и коротко переговариваясь, а мы с Джуди вяло пожимали руки всем и каждому. На заднем плане кто-то громко сказал: «Боже мой! Я не думал, что они их получат? Это было весело. Но для Брайана жизнь становилась очень трудной. У него было постоянно растущее число художников. Затем он начал рассказывать мне о поступках, в которые я мало верил, и мне пришлось неловко говорить ему, что я их не оцениваю. Но, убедившись в его обаянии, я записал бы это как услугу, оказанную ему. Это было неправильно, и я сказал ему об этом. Он имел тенденцию терять контроль. Когда Силла открылась в «Савойе», он сильно расстроил ее, забыв что-то, и был вынужден компенсировать это, послав ей в подарок маленький телевизор. Он слишком распылялся, и его все более сложная личная жизнь начала вторгаться в его жизнь. Он поддерживал себя, принимая таблетки, то усиливающие, то понижающие: снотворное на ночь и таблетки для пробуждения утром. «Битлз» начали очень критически относиться к тому, как он относился к их контракту – тому, который я изначально подписал с ними, начиная с пенни за пластинку. Это была не его вина. Он был не в том положении, чтобы спорить, и знал это. Но как только они вкусили крови, они поняли, что могут получить гораздо более высокие гонорары. В этом было две стороны. С одной стороны, как и многие люди, которые в конечном итоге добились успеха, они были очень рады и благодарны первому прорыву, но в конечном итоге не захотели, чтобы им об этом напоминали. С другой стороны, EMI поступила глупо во всем этом. Они очень грубо отнеслись к контракту с «Битлз», и когда он истек, ребята устроили им скандал. В конечном итоге EMI пришлось платить бешеные деньги за привилегию иметь величайшую группу всех времен, тогда как, если бы они изначально были более справедливыми, я не думаю, что они зашли бы так далеко. Правда заключалась в том, что «Битлз» не были лояльны к EMI по той простой причине, что у них не было никаких оснований для лояльности. Весь этот бизнес привел к революции в звукозаписывающей индустрии. В то время, когда «Битлз» впервые подписали контракт, гонорары были традиционно низкими. Самая высокая ставка, которую мы когда-либо платили, составляла 5%. Когда в результате того, что произошло с «Битлз», произошел прорыв, гонорары стали астрономическими, и звукозаписывающим компаниям пришлось полностью изменить свою политику, взимая гораздо более высокие цены за пластинки. Но это произошло после смерти Брайана. Ирония заключалась в том, что даже если бы он выжил, ему, я думаю, пришлось бы очень тяжело справляться с жизнью. Потому что было неизбежно, что вскоре он потеряет «Битлз», и для него это было бы все равно, что потерять своих детей, всю причину его жизни. Он никогда не смог бы расстаться с ними, как я, с большой дружбой, но без чувства потери. Если бы они пришли к нему и сказали: «Брайан, мы не хотим, чтобы ты больше нами управлял», это бы его уничтожило. И они бы это сделали: в этом нет никакого сомнения. 9 августа 1967 года у Джуди родился наш первый ребенок, Люси. После того, как она выписалась из больницы, мы поехали в наш загородный коттедж. В воскресенье, 20 августа, мы пошли выпить в небольшой деревенский кабак, и трактирщик подошел прямо к нам. — Боюсь, у меня для вас плохие новости. Твой друг умер. 'ВОЗ?' — спросил я, совершенно не имея ни малейшего понятия. «Мистер Эпштейн». Я считаю, что произошедшее было чистой случайностью. Он пил, принял несколько таблеток, чтобы заснуть, вероятно, проснулся среди ночи, забыл, сколько принял, принял еще немного и умер от случайной передозировки. Мы с Джуди сразу же поехали обратно в наш дом в Лондоне. Там нас на рояле ждал чудесный букет цветов от Брайана в поздравление Джуди с рождением Люси. Должно быть, их отправили несколько дней назад; они были очень, очень мертвы. И Брайан тоже.
У «Calling My Own Tune» много отцов, но мало детей, среди них горечь, гнев и обида. Это и стало неприятными ингредиентами моих чувств к EMI. К 1959 году я управлял Parlophone уже четыре года. Мои записи с Питером Селлерсом, Миллиганом, Фландерсом, Сванном и другими начали придавать этому лейблу какое-то значение. Первоначально он был бедным родственником, но теперь стал силой, с которой нужно считаться. Но я по-прежнему зарабатывал всего около 2700 фунтов в год. Там не было даже брошенной машины; пятьдесят с лишним фунтов в неделю — это не так уж и много для того, чтобы быть руководителем звукозаписывающей компании, особенно если сравнить это с 25 000 фунтов в год, которые мне предложили десять лет спустя за то, чтобы я снова присоединился к EMI! Но это был не просто вопрос моего желания иметь больше денег. Я хотел участия, участия в прибылях. Я считал, что если я собираюсь посвятить свою жизнь созданию чего-то, что мне не принадлежит, я заслуживаю какого-то вознаграждения. В конце концов, продавцы это поняли, так почему бы и мне нет? В 1959 году я подписал новый трехлетний контракт, который дал мне щедрую зарплату в 75 фунтов в год. Когда срок его действия истек в апреле 1962 года, мне предложили другой контракт, который в конечном итоге принес бы мне около 3000 фунтов стерлингов в год. «Все это очень хорошо, — сказал я, — но я бы предпочел остаться на своем нынешнем уровне и получать комиссионные с продаж». Они не хотели об этом слышать. — Тогда мне придется уйти, — сказал я. Их щедрый ответ был: «Если вам так хочется, будьте нашим гостем. До свидания.' Я не ушел. Вопреки здравому смыслу я подписал контракт, потому что не мог позволить себе остаться без работы. Но у меня был очень сильный искушение, потому что я мог видеть новое поколение ржавых молодых предпринимателей, таких как Микки Мост и Эндрю Олд Хэм, у которого были «Роллинг Стоунз», получающих от компаний более выгодные предложения за ту же работу. Затем, в 1962 году, появился Брайан Эпштейн с «Битлз». Если я и думал, что раньше много работал, то это было ничто по сравнению с той бешеной, бешеной деятельностью, которая вот-вот должна была начаться. Я работал каждый вечер и почти каждые выходные. Это было очень тяжело, но все же очень весело, потому что, по крайней мере, из моих ушей вылетали успешные пластинки. Это была моя единственная награда. Кроме удовольствия я получил – ничего. На самом деле я получил меньше, чем ничего. Обычно сотрудники EMI получали на Рождество премию, размер которой соответствовал зарплате каждого сотрудника и обычно соответствовал недельному заработку. Так что, по крайней мере, я с нетерпением ждал своей рождественской премии в конце 1963 года. В тот год, первый полный год существования «Битлз», директора EMI объявили с высочайшей щедростью, что каждый получит четырехдневную зарплату в качестве рождественской премии. Зарплата за четыре дня в конце года, в течение которого я занимал первое место в чартах в течение тридцати семи недель! Но я даже этого не понял. Когда письмо не пришло, я позвонил бухгалтерам в Хейс. — Должно быть, это какая-то ошибка, — сказал я. «Моя секретарша получила зарплату за четыре дня, а я сам ее не получил». «О нет, — сказали они, — ошибки нет. Знаешь, сейчас ты этого не понимаешь. — Что ты имеешь в виду, говоря, что я сейчас этого не понимаю? «Ну, одно из правил компании гласит, что люди, зарабатывающие более 3000 фунтов в год, имеют другую шкалу заработной платы, чем остальные, и они не имеют права на рождественский бонус. Вы зарабатываете чуть больше 3000 фунтов в год». Вот и все. За этот невероятный год работы я получил вежливую записку, в которой примерно говорилось: «Какую чудесную работу ты проделал, Джордж». Абсолютно супер. В следующем году сделай лучше». Это недвусмысленно приняло мое решение. «Взорвите это ради шутки», — подумал я. Я ухожу. В то время я находился на полпути к своему новому контракту, который предусматривал, что я должен уведомить в письменной форме за год, если хочу уйти, в противном случае контракт автоматически продлевался. Итак, шесть месяцев спустя, в середине 1964 года, я написал им: «Обратите внимание, что через год я больше не буду здесь работать».
Это действительно выделило кота среди представительных голубей. — Что ты имеешь в виду? Меня спросили. — Ведь ты с нами четырнадцать лет, и вдруг ты делаешь это... . «Это очень просто. У меня была EMI прямо здесь». Они хотели знать, кто преследовал меня. Я им сказал, что никого нет, и они явно не поверили. Когда я сказал им, что ухожу один, мне сказали: «Ой-ой, вы долго не протянете». Затем курс изменился. В течение следующих двенадцати месяцев, с регулярными трех- или четырехнедельными интервалами, меня угощали обедами и напитками, а также уговаривали меня типа: «Да ладно, старина, я думаю, ты ведешь себя немного глупо». Я имею в виду, что тебе следует иметь больше денег, ты совершенно прав. В основном я имел дело с человеком, который теперь был управляющим директором EMI Records, Леном Вудом. «Мне не нужно больше денег, Лен», — сказал я ему. «Мне просто нужны комиссионные. Я хочу ощутимых результатов от своих усилий, вот и все. Я хочу увидеть что-то в каждой моей пластинке. Меня не волнует, насколько он мал, но я этого хочу». В конце концов наступила решающая встреча. Лен Вуд позвонил мне в свой офис и сказал: «Послушайте. Я знаю, что ты очень упрям в этом вопросе. Но я полон решимости удержать тебя. Ты хороший продюсер и хороший парень, и ты слишком хорош, чтобы его терять. Ты обязательно останешься с нами. Я скажу вам это прямо сейчас. — Хорошо, что ты можешь предложить? Я спросил его. «Ну, вы определенно получите комиссию от продаж. Я предлагаю, чтобы вы получали 3% от нашей прибыли за вычетом ваших накладных расходов». — Ну, это немного расплывчато, — сказал я. — Можете ли вы сказать мне, что это значит? — Да-да, подожди, — сказал он, как какой-нибудь рыболов, убежденный, что рыба вот-вот клюнет на наживку. «Возьмем, к примеру, прошлый год. Если бы это действовало в прошлом, 1963 году, вы бы получили премию в размере 11 000 фунтов стерлингов. Как это звучит для вас? — торжествующе спросил он. — Звучит очень хорошо, — сказал я. — Но как вы к этому пришли? «Ну, возьмем вашу зарплату, зарплату вашего секретаря, вашего помощника и его машинистки, и ради спора мы удвоим ее, чтобы учесть накладные расходы. К этому прибавляем гонорары музыкантам, которые вы платили в течение года за сессионную работу. Исходя из этого, я подсчитал, что в прошлом году ваш отдел обошелся нам примерно в 55 000 фунтов стерлингов». «Я знаю, чем я занимался в прошлом году и как усердно работал, но мне кажется, что я был очень экономен!» — Да, ты был очень хорош, — сказал он. «Ты всегда такой. В этом нет проблем. Теперь, с другой стороны суммы, вы бы получили 3% комиссии от нашей прибыли. ХОРОШО? В прошлом году эта сумма составила бы 66 000 фунтов стерлингов. Из этой суммы мы вычитаем 55 000 фунтов, и у вас остается 11 000 фунтов». Наступила пауза, пока я размышлял. Он наблюдал за мной, очевидно думая, что я немного ошеломлен его щедростью. Правда заключалась в том, что явный ужас от того, что он только что сказал, медленно начал проникать в мой мозг. Потом я заговорил. 'Подождите минуту. Думаю, я тебя неправильно понял. Вы, должно быть, говорите об обороте, а не о прибыли. Потому что 66 000 фунтов — это 3% от двух миллионов двухсот тысяч? — Верно, — сказал он спокойно. «Но это, должно быть, текучка», — воскликнул я. — Нет, нет, — сказал он. «Это прибыль. Это прибыль, которую мы получили от продаж ваших пластинок в прошлом году». Этим простым предложением он перерезал все остатки пуповины, которые все еще связывали меня с EMI. Но мне нужно было сделать еще одну последнюю проверку, чтобы убедиться, что то, что я слышу, действительно правда, и убедиться, что сочетание моего разочарования и их подлости не превратило меня в параноика. — Есть еще кое-что, Лен. Кажется, вы сравниваете чистую прибыль с общей суммой моих расходов. Если бы, например, прибыль составила всего полтора миллиона, то 3% от этой суммы составили бы пятьдесят тысяч. Итак, при затратах в пятьдесят пять тысяч теоретически я верну вам пять тысяч! — Это общая идея, — сказал он невозмутимо. 'Мне жаль. Возможно, первый пример был не очень ясен». Я был ошеломлен. Во-первых, подлость всего этого была настолько очевидна. Во-вторых, я с трудом мог поверить в глупость этого человека, сообщившего мне, чего я стою. «Большое спасибо», — сказал я. — Я ничуть не передумал. Я ухожу.' Трудно, оглядываясь назад, описать всю глубину моей горечи. Я действительно был предан компании и всегда ценил лояльность в других людях. Но наступает момент, когда вы понимаете, что ваше представление о том, чтобы быть хорошим, лояльным работником без осложнений, истолковывается неверно, и вас водят за нос. Мне было горько; Мне было грустно, грустно за компанию, которую, как я знал, мне пришлось покинуть. В то время существовала группа из восьми человек, которые занимались творческой работой над поп-музыкой для EMI. Кроме меня, там были Норман Ньюэлл, глава Колумбийского университета, Уолли Ридли из HMV и Норри Парамор вместе с нашими помощниками. Я решил предложить молодым людям возможность поехать со мной: моему собственному помощнику Рону Ричардсу, помощнику Нормана Ньюэлла Джону Берджессу и, кроме того, Питеру Салливану, который был помощником Уолли Ридли, хотя год назад уехал в Декку, и которого Я знал, что нужно дружить с Роном и Джоном. Были у нас и очень преданные дамы. Кэрол Уэстон, секретарь Джона, вызвалась пойти с нами. Ширли Спенс (теперь миссис Бернс) и моя Джуди приехали вместе со мной и Роном Ричардсом. Семеро из нас должны были основать новую компанию. Мы уехали в августе 1965 года, и за время нашего существования EMI лишилась всей своей молодой крови. Осталось только старое. В каком-то смысле это была «Месть Мартина». Но на этом дело не закончилось. Артисты, которых мы продюсировали, составили внушительный список. У Джона были Адам Фейт, Манфред Манн, Питер и Гордон. Рон Ричардс продюсировал Пи Джей Проби и Холлис. У меня были «Битлз», Силла Блэк, Джерри и «Пейсмейкеры», Билли Дж. Крамер и «Дакота», а также «Четвёртый». Когда мы начали работать самостоятельно, большинство из них предпочли остаться с нами и выпускать свои пластинки. Для EMI это была большая потеря. Мы создали AIR — Associated Independent Recording — по образцу коммуны. План был основан на том, как работал Спайк Миллиган, когда вместе с Эриком Сайксом, а затем с Гальтоном и Симпсоном, Фрэнки Хауэрдом и другими он основал Associated London Scripts. Я предложил своим партнерам следующее: «Давайте создадим продюсерскую организацию». будет четыре за
все и все за одного. Мы объединим наш доход и распределим его в соответствии с тем, как мы зарабатываем. Я по-прежнему очень заинтересован в стимулах, но для начала у нас будут равные доли в компании, по 25% каждая». Я добавил всаднику: «Я считаю, что я равен тебе, но с другой стороны, как сказал бы Джордж Оруэлл, я считаю, что я немного более равен». Все равно у нас будет по 25%». Я продолжал: «Доходы — это другой вопрос. Если мы будем вести индивидуальные записи, мы будем управлять компанией за счет сбора с каждого человека. Каждый из нас будет вносить 25% своего дохода в управление компанией. Если я заработаю 10 000 фунтов на записи, я вложу 2500 фунтов в компанию, чтобы она управляла ею. Если вы зарабатываете всего 1000 фунтов стерлингов, вы вложите всего 250 фунтов стерлингов. В то же время, когда дело дойдет до нашей оплаты, мы установим верхний предел в 10 000 фунтов стерлингов для любого производителя и нижний предел в 3 000 фунтов стерлингов, ниже которого никто не сможет опуститься. Все излишки мы вложим обратно в бизнес. Это были общие параметры, с которыми мы согласились. Но непосредственной проблемой был капитал или его отсутствие. Для открытия компании нужны деньги на зарплату, аренду, канцтовары, мебель, пишущие машинки. А денег у нас не было. Никакого золотого, серебряного или даже свинцового рукопожатия от EMI определенно не было. Когда я уходил, Лен Вуд сказал: «А как насчет вашей пенсии?» Когда ты один, ты этого не получишь. Мне вернули все взносы, которые я сделал за эти годы, что составило 1800 фунтов стерлингов. Это то, что я получил за пятнадцать лет работы в EMI. Тем не менее, именно с EMI нам пришлось иметь дело. Переговоры вращались вокруг «Битлз», которые к тому времени были в полном разгаре. Я, конечно, сказал Брайану Эпштейну, что намерен покинуть EMI, и он мне очень сочувствовал, потому что знал о проблемах. Но я старался не оказывать на него давления. «Это не значит, что ты должен остаться со мной, Брайан», — сказал я ему. «EMI вполне может выбрать для «Битлз» другого продюсера, кого-нибудь из штата. Вам решать. Я не хочу, чтобы мой уход стал для меня неловким стыдом. Но я намерен уйти, что бы ни случилось, независимо от того, запишу я «Битлз» или нет». Решение действительно было принято по чистой логике ситуации. Я был, наверное, самым успешным продюсером EMI. Думаю, они боялись сменить лошадей на переправе, расколоть выигрышное партнерство. Поэтому они обратились ко мне по этому поводу. «Когда ты уйдешь, ты можешь потерять Битлз, не так ли?» Они сказали. — Это их дело, не так ли? «Вы бы смогли их записать, если бы они этого захотели?» «Да, — сказал я, — я предоставлю себя, но только на условиях гонорара. Я не потерплю твоего старого хлама за 3000 фунтов в год». С этими переговорами была связана сделка, по которой EMI могла приобретать любую нашу продукцию, какую пожелает. Мы должны открывать и выпускать новых артистов, и у EMI будет первая возможность их выпустить. Человеком, с которым я имел дело, был тот самый человек, который в конце концов заставил меня уйти, Лен Вуд; а когда дело доходит до переговоров, он действительно очень хитер. Я должен добавить, что в моих отношениях с Леном существует любопытная двойственность. У меня есть горький опыт переговоров с ним. В то же время факт в том, что я вырос в этом бизнесе вместе с ним. Когда я начал работать в Parlophone, он был менеджером по продажам в Columbia, и он мне всегда очень нравился. Я думаю, что то, как он всегда вел дела, — это просто его беда, часть того, каким он устроен. У него есть пуританские черты, которые всегда не одобряли пикантность бизнеса, и он пытается проявлять к нему свою сдержанность. Ирония в том, что он был самым успешным человеком в звукозаписывающей индустрии. На церемонии вручения наград Britannia Awards, учрежденной в 1977 году в ознаменование серебряного юбилея королевы, когда мне вручили награду как лучший продюсер звукозаписи за последние двадцать пять лет, награда, непосредственно предшествовавшая моей, была специальной за выдающиеся заслуги перед Британская звукозаписывающая индустрия. Человеком, который поднялся на трибуну, чтобы получить его, был, как вы уже догадались, Лен Вуд. Контракт, который я подписал с ним, был чрезвычайно сложным. На его изучение и прилагаемое к нему расписание, которое охватывало все территории и все виды записей, ушли часы. Это казалось излишне сложным. Суть контракта заключалась в том, что если AIR выпустит пластинку, которую она профинансирует сама, она должна будет предложить эту запись EMI.
Если бы они его приняли, они заплатили бы роялти в размере 7% от розничной цены. С другой стороны, если бы мы записали для них кого-нибудь из артистов EMI, мы бы получили гонорар продюсера, который я установил в размере 2% от розничной цены. Самый высокий гонорар, выплачиваемый артисту в то время, составлял 5%, поэтому мы просили две пятых от этой суммы. Учитывая, что в те дни артисты не зарабатывали на жизнь своими пластинками, а продажи пластинок были не такими уж высокими, это не было грабительским требованием, и EMI согласилась. Чтобы дать нам капитал, я попросил и получил аванс в размере 5000 фунтов под этот контракт. Как и следовало ожидать, был один элемент, не подпадающий под эти общие условия, — «Битлз». Для них 2% были цифрой, не подлежащей судебному разбирательству с точки зрения EMI. Они придерживались мнения, которое некоторым могло показаться любопытным в данных обстоятельствах, что я не имел права наживаться на чем-то, что уже установлено; они упустили из виду щекотливый вопрос о том, кто вообще это установил! После нескольких месяцев переговоров я наконец договорился о гонорарах продюсеров за пластинки «Битлз» — один для Британии, один для Америки и один для остального мира. Они, как обычно, были чрезвычайно сложными. В Англии мы получили 1% от оптовой цены, что составило около 50% розничной. Америка, однако, дала гораздо меньше; мы должны были получить 5% гонорара за прессинг, который EMI получит от своих американских лицензиатов. Хотя Capitol Records Inc. была дочерней компанией EMI, вполне возможно, что другие компании смогут выпускать пластинки Beatle. Саундтрек к фильму «Ночь тяжелого дня» был выпущен на United Artists, у них была опция, согласно которой «Битлз» появятся еще в двух картинах. В настоящее время роялти четко обозначены в процентах от продажной цены на всех территориях. Но в 1960-е годы было вполне нормально получать часть гонорара за прессование, которую получала компания-инициатор. В любом случае, до прорыва «Битлз» в Америке в США было выпущено очень мало пластинок британского происхождения. Если эта сделка кажется сумасшедшей, соглашаться на нее, то факт в том, что у меня не было альтернативы. Это произошло в конце месяцев торгов, и все сводилось к вопросу о том, согласиться или отказаться от «Битлз». И при этом я даже не был слишком уверен, насколько я мог рассчитывать на их поддержку в то время, потому что к тому времени они начали возмущаться своей собственной сделкой с гонорарами. Они обвинили меня в этом, и это было справедливо, поскольку именно я подписал с ними контракт, работая по священным принципам EMI. Чего они не могли знать, так это того, что после первого года работы, когда у нас уже были огромные продажи, я вернулся к Лену Вуду от их имени. «Это ерунда, нам следует разорвать этот контракт и начать все заново», — сказал я ему. «Теперь они у нас есть. Мы должны реализовать первый вариант контракта в июле 1963 года; в этот момент их гонорар должен вырасти до пенни фартинга. Я хотел бы немедленно удвоить их гонорар и сделать его двухпенсовым. — Хорошо, — сказал Лен, — это хорошая идея. Заставьте их подписать соглашение еще на пять лет». — Нет, вы меня неправильно поняли, — сказал я. «Я не хочу ничего от них получать. Я просто хочу дать им два пенса. — Это не коммерческий смысл, старина. Дайте им больше гонорара, но получите еще больше продления времени». Я отказался это сделать. В каком-то смысле я умыл руки. Я просто ушел от него, сказав: «Вы должны дать им гонорар в два пенни». В конце концов они получили повышение, но только после долгих переговоров. Теперь я, в свою очередь, ощущал тяжесть переговорной машины EMI, или, возможно, лучше сказать «махинации». Помимо основного контракта с AIR, мне пришлось подписать отдельный документ, касающийся меня лично, в котором оговаривалось, что я буду доступен для записи «Битлз» в любое время в течение следующих десяти лет и на тех же условиях. Это произвело на меня бумеранг. Много лет спустя, после распада «Битлз», пришел Пол и сказал, что хочет, чтобы я поработал с ним над «Live and Let Die». Я был в восторге и поначалу не думал о деньгах. Я никогда этого не делаю; Меня слишком волнует перспектива работы, которая меня интересует. Итак, мы пошли дальше и сделали «Live and Let Die», которую я написал и продюсировал вместе с Полом. Затем я позвонил Лену Вуду и сказал: «Слушай, Лен, я записал эту пластинку с Полом, и он, очевидно, хочет выпустить ее как сингл. Я хочу знать гонорар, который ты собираешься получить
заплатите мне за мою работу, поскольку она касается только Пола и, следовательно, выходит за рамки нашего контракта. Я считаю, что 2% было бы справедливо, потому что это то, что получают все остальные, и теперь это стандартный гонорар, так что я не думаю, что я жадный. Моя нормальная ставка сейчас составляет 3%». «Дорогой мой, — сказал Лен, — вы забыли, что подписали документ, в котором говорилось, что вы будете действовать на тех же условиях в течение десяти лет, начиная с 1965 года, а мы все еще находимся в этом периоде». «Но, Лен, Битлз больше не существует», — возразил я. «Вы посмотрите на формулировку вашего контракта», — сказал он. «Там сказано, что вы сможете записать «Битлз» или любую из них». «Это правда, но они больше не Битлз», — сказал я. «Тем не менее, старина. .. Боюсь .. . Вы можете подать на это в суд, но дело в том... - Но, Лен, - перебил я, - ты говоришь мне, что, когда эта пластинка станет номером один в Америке, а это, уверяю тебя, так и будет, я только собираюсь чтобы получить 0,15 цента за запись? Помимо всего прочего, Пол собирается поместить на оборотную сторону одну из своих пьес, так что даже при таком низком уровне я получу только половину своего обычного гонорара». — Не повезло, старина, — сказал Лен, не сумев передать ощущение, что он действительно имел это в виду. Вскоре после этого он попросил меня увидеться в его офисе. «Это действительно кажется немного трудным», — сказал он. — Я скажу тебе, что я сделаю. Я отнесусь к этому так, как будто у вас есть обе стороны дела. — Вы хотите сказать, что заплатите мне двойную гроши, — сказал я. Не обращая внимания на это замечание, он продолжил: «Но прежде чем я это сделаю, мне придется позвонить Бхаскару и узнать, согласен ли он, потому что платить придется именно ему». Итак, пока я сидел в его офисе, он позвонил Бхаскару Менону в Калифорнию. Даже с того места, где я сидел, я мог слышать смех Бхаскара на другом конце телефона. Потом он спросил: «Что это значит для меня, Лен?» «За каждые сто тысяч проданных вами пластинок вам придется заплатить еще 155 долларов». Я сидел и кипел. Если бы я не обратился к Лену Вуду, моя компания получала бы царские 155 долларов за каждые 100 000 продаж. В своей щедрости он удвоил сумму, и мы получили 310 долларов. Это была последняя капля. Мои отношения с EMI были на самом низком уровне. Но худшее было впереди. Нам вообще не заплатили за альбом «Битлз» Let It Be; и мы решили действовать по-настоящему жестоко. Мы приняли мнение адвоката. Пока я обсуждал это с ним, я случайно вспомнил историю о том, что произошло с «Живи и дай умереть». К тому времени он очень подробно изучил контракты и сказал мне, что, по его мнению, на тот момент я не должен был быть связан этим контрактом с Битлз. Это еще больше возмутило меня: если бы я раньше обратился за юридической консультацией, я мог бы сразу же подать в суд на EMI, вместо того, чтобы пытаться «вести переговоры» с Леном Вудом. Я рад сообщить, что наконец-то усвоил этот урок. Конечно, AIR заключалась не только в спорах по поводу контрактов. Мы действительно потратили часть своего времени на то, что намеревались сделать, а именно на создание пластинок! Нашим первым контрактом стала группа Дэвида и Джонатана. Их настоящие имена были Роджер Кук и Роджер Гринуэй, и они были авторами песен, написавшими немало песен для других моих артистов, включая хит «You’ve Got Your Troubles». В то время они были частью группы под названием Fortunes. Теперь они должны были быть просто парой, и нам нужно было найти имя. Мы не могли назвать их «Два Роджерса», и нам не нравились Кук и Гринуэй, поэтому Джуди пришла в голову идея о библейских персонажах Дэвиде и Джонатане, на самом деле как о примере двух людей, которые были очень близкими друзьями. Первой пластинкой, которую я продюсировал с ними, была «Michelle», которую «Битлз» не выпустили как сингл. Он стал большим хитом здесь и за рубежом. Впоследствии они имели огромный успех с песней Coca-Cola (Гринуэй был очень силен в джинглах), которая вышла под названием «Я хотел бы научить мир петь». Несмотря на то, что мне приходилось посвящать большую часть своего времени признанным артистам, таким как Силла и Битлз, мне все же удалось найти место для некоторых из моих старых «сумасшедших» идей. Были, например, «Мастерзингеры», группа из четырех учителей из школы Абингдон, которые специализировались на очень хорошем подходе к пению в стиле соборной простой песни. Я случайно услышал их шутку «Вечеринка», в которой в церковном стиле пели Правила дорожного движения, и решил ее записать. К некоторому удивлению в бизнесе, она стала хитом, и мне, естественно, захотелось продолжить ее. Я спросил их, что еще они могли бы придумать, и им пришла в голову идея записать телефонный справочник. Я подумал, что это чудесно. К сожалению, в дело вмешалась тяжелая рука бюрократии. Почтовое отделение заявило: «Мы не позволим вам этого сделать». Джо Блоггс с Ланчестер Драйв, возможно, не захочет, чтобы его адрес был включен в песню». По моему мнению, мистеру Блоггсу это понравилось бы; но почта не согласилась на это, и идея ни к чему не привела. Мне предстояло использовать Mastersingers только еще раз, на стороне B шекспировского сингла Питера Селлерса, который был взлетом Лоуренса Оливье. Стороной А была песня «A Hard Day's Night», которую он исполнил в манере Ричарда III, следуя версии этой части Оливье. На стороне B была песня «Help», которую Мастерзингеры исполнили в своей лучшей церковной манере в качестве фона для Петра, произносящего строки, как проповедник с кафедры. Эта пластинка стала своего рода классикой; Я полагаю, что мастера-певцы вернулись к преподаванию. Но в то же время звукозаписывающий бизнес полон подобных маленьких инцидентов, когда люди делают что-то немного исключительное, например, «Альберт и Лев» Стэнли Холлоуэя. И еще был хор, исполнявший номер «Счастливый странник», имевший огромный успех – Детский хор Обенкирхена. ВОЗ? Что ж, уверяю вас, после этого они сделали много пластинок; но ни один из них не приблизился к этому первому успеху. Это даже не ограничивается поп-музыкой. Классика полна примеров, например, Скерцо Литольфа из его Симфонического концерта. Я не думаю, что многие люди когда-либо слышали что-нибудь еще от Литольфа. Еще одним аспектом моей новой независимости было то, что я смог больше писать от себя. Однажды в 1967 году Дик Джеймс, менеджер Northern Songs, компании Битлз, позвонил мне и сказал: «Вы знаете, что BBC запускает новое Radio One?» Ответственного человека зовут Робин Скотт, и он хочет, чтобы Пол Маккартни написал для него фирменную мелодию. Но Пол ни в коем случае не собирается это делать. Если я смогу убедить его использовать вместо этого тебя, будет ли тебе это интересно?'
'Конечно;' Я сказал: «Но если он хочет Пола Маккартни и получает меня, это плохая замена». — Ну, почему бы тебе все равно с ним не встретиться? - сказал Дик. Я так и сделал, и Робин Скотт, очаровательнейший человек, дал мне свои характеристики. Музыка должна была быть очень английской, очень современной, с классическим подтекстом и поразительно необычной. Это была довольно трудная задача; но я ушел и подумал об этом и придумал «Theme One». Поскольку идея была в большей степени оркестровой, а не чем-то, что можно было бы выбить на фортепиано, я решил, что лучше всего сделать ее запись и отправить ему. Я хотел использовать соборный орган, чтобы открыть его, поэтому, сделав основную часть записи, я сделал вступление в Центральном зале Вестминстера, где есть большой орган, и врезал его в начало песни. записывать. Это был настоящий опыт сам по себе, потому что я сам играл на органе и обнаружил, что звук раздается через добрую четверть секунды после того, как я положил пальцы на клавиши. Играть в ритме действительно было довольно сложно, потому что звук проходит по трубам очень долго. Считается, что покойная Анна Инстон, которая тогда была главой Библиотеки пластинок BBC, сказала, впервые услышав это: «Боже мой, это звучит так, будто Уильям Уолтон сошел с ума!» Но им это очень понравилось, они приняли это и выставляли каждое утро и вечер в начале и в конце программы. Думаю, если подумать, многие люди просыпались от звука пальцев Мартина, сражающихся с этим органом. Пару лет спустя, в 1969 году, мне позвонил Ричард Армитидж, один из моих старых друзей в музыкальном мире, который какое-то время занимался моими делами в Америке. Одним из его клиентов был Дэвид Фрост, которого я очень хорошо знал по старым временам «Это была неделя, которая была», когда я записал все шоу с Лэнсом Персивалем, Милли Мартин и другими. Ричард рассказал мне, что Дэвид должен был участвовать в новой серии телешоу в Америке, но ему надоела его старая фирменная мелодия. Хотел бы я написать новый? — Конечно, хотел бы, — сказал я. Статья, которую я написал, была своего рода отправной точкой идеи Дэвида в Америке, потому что он всегда был «своим» человеком - всегда пытался быть самым ярким человеком, которого только можно вообразить, но в то же время довольно честным внутри себя. Это был своего рода нежный микки-тейк с оттенком Синатры. Я назвал это «Джордж, это тема Дэвида Фроста». А почему бы не? Но я полагаю, что самая травматичная неделя в те первые годы работы в AIR, а возможно, и за всю мою жизнь, пришлась на июнь 1967 года. Джуди была на последнем сроке беременности. Во вторник умер мой отец. Мы были в процессе переезда. А в конце недели мы с «Битлз» должны были стать британским вкладом во всемирную сеть спутникового телевидения под названием «Наш мир». Шоу должно было выйти в прямом эфире перед ожидаемой аудиторией в 200 миллионов человек, и даже «Битлз», которые редко чем-то восхищались, были этому немного рады. «Но вы не можете просто так сходить с ума», — умолял я их. — Нам нужно кое-что подготовить. Итак, они пошли что-то делать, и Джон придумал «All You Need Is Love». Это нужно было держать в строжайшем секрете, потому что основная идея заключалась в том, что телезрители действительно увидят, как «Битлз» за работой записывают свой новый сингл, хотя, учитывая современность записи, мы, очевидно, не могли сделать это по-настоящему; поэтому в первую очередь мы заложили базовый ритм-трек. Я помню, что одной из мелких проблем было то, что Джордж раздобыл скрипку, на которой он хотел попробовать сыграть, хотя и не мог! Я написал партитуру к этой песне, аранжировку довольно произвольную, поскольку она была сделана в такой короткий срок. Когда их затухание подошло к концу, когда песня закрылась, я спросил их: «Как вы хотите выйти из этого?» «Пиши абсолютно все, что хочешь, Джордж», — сказали они. «Соберите любые мелодии, которые вам нравятся, и просто играйте их вот так». Смесь, которую я придумал, была взята из «Марсельезы», двухчастной инвенции Баха «Зеленые рукава» и небольшого отрывка из «Настроение». Я сплел их все вместе, в несколько разном темпе, так что все они по-прежнему работали как отдельные объекты. Настал день выступления, и телекамеры въехали в большую студию номер один на Эбби-роуд. Но меня все еще беспокоила идея полностью выступить вживую. Поэтому я сказал ребятам: «Мы собираемся подстраховаться. Вот как мы это сделаем. У меня будет четырехдорожечная машина, и когда мы выйдем в эфир, я включу вам ритм-трек, который вы будете притворяться, что играете. Но ваши голоса и оркестр действительно будут живыми, и мы все это сведем и вот так передадим ожидающему миру». Мобильная станция управления BBC была установлена во дворе Abbey Road, и я должен был подавать им микс из нашей аппаратной внутри студии. Джефф Эмерик, мой инженер, сидел рядом со мной, но даже в этом случае общение было довольно затруднено из-за того, что прямо над нами располагалась телевизионная камера, наблюдающая за каждым нашим движением. В довершение ко всему, в последнюю минуту, перед самым выходом в эфир, раздался панический звонок от продюсера, сидевшего снаружи в фургоне управления. «Джордж, я потерял связь с камерами в студии. Они меня не слышат. Можете ли вы передать им мои инструкции? Итак, помимо беспокойства об огромной аудитории, которая будет наблюдать за мной, беспокойства о звуке, который мы будем производить, и беспокойства об оркестре в студии, которым дирижировал Майк Викерс, в момент истины я: беспокоиться о связи телеоператоров с их продюсером. Все стало так сложно, что я был на грани истерического смеха. Я помню, как подумал: если мы собираемся сделать что-то не так, мы могли бы сделать это стильно перед 200 миллионами человек. В конце концов, трансляция имела большой успех, и после некоторых изменений в треках, которые я записал во время самой трансляции, мы выпустили сингл "All You Need Is Love". Он по праву занял первое место. К сожалению, меня ужалили в хвост. Мне заплатили огромную сумму в пятнадцать фунтов за аранжировку музыки и написание фрагментов для начала и конца, и я выбирал мелодии для микса, полагая, что все они не защищены авторскими правами. Еще обмануть меня. Оказалось, что, хотя сама песня «In the Mood» не защищена авторскими правами, ее аранжировка Гленна Миллера не защищена. Я выбрал лишь аранжировку, а не саму мелодию, и в результате владельцы EMI потребовали от EMI гонорар. Битлз, я полагаю, вполне справедливо сказали: «Мы не собираемся отказываться от гонорара за авторские права». Итак, Кен Ист, человек, который к тому времени стал управляющим директором EMI Records, подошел ко мне и сказал: «Послушай, Джордж, ты сделал аранжировку. Они ждут за это денег. — Вы, должно быть, с ума сошли, — сказал я. — За эту договоренность я получаю пятнадцать фунтов. Вы хотите сказать, что мне придется платить чертовы авторские права из моих пятнадцати фунтов? Его ответ был кратким и однозначным. 'Да.' В конце концов, конечно, EMI пришлось договориться с издателями. С тех пор мы прошли долгий путь, но это путешествие не обошлось без невзгод. Люди всегда хотели купить меня, владеть мной, а я не хотел, чтобы мной владели. Давным-давно, когда я сказал Брайану Эпштейну, что подумываю об уходе из EMI, он сказал: «Знаешь, было бы здорово, если бы мы вместе занялись бизнесом. Если бы ты занимался записью, а Дик Джеймс — публикацией, у нас получилась бы отличная компания». Но он не думал о партнерстве. Он считал себя вершиной огромной империи талантов, а я был назначен руководителем звукозаписывающего подразделения. У меня не было намерения покидать одну компанию, чтобы перейти в другую. Я тоже хотел быть сам себе начальником. Кроме того, хотя он был вполне готов поместить меня в звукозаписывающую компанию, в прибыли которой я бы участвовал, не было и речи о моем участии в других сторонах бизнеса, издательстве и управлении. Поэтому я просто сказал: «Я не думаю, что это хорошая идея. Я останусь таким, какой есть. Эти короткие деловые переговоры были единственными, которые у нас когда-либо были, и эта тема больше никогда не упоминалась, чему я рад. Как я узнал позже, гораздо лучше не ложиться в деловую постель с друзьями. Следующий подход появился вскоре после того, как мы открыли наши студии. На этот раз письмо пришло от Гордона Миллса, который основал свою компанию Management Agency Music (MAM) на деньги Тома Джонса и Энгельберта Хампердинка. Питер Салливан, еще работая в Decca, познакомил Тома Джонса с Гордоном. Том приехал в Decca на тест по записи и искал менеджера. Гордон только начинал заниматься менеджментом. Питер свел их вместе и с того времени продюсировал пластинки как Тома, так и впоследствии Энгельберта. Теперь Гордон пришел к нам с умопомрачительным предложением. «Я куплю тебя за два миллиона фунтов», — сказал он. «Но я не хочу продавать», — сказал я ему. «Это глупо, после всех усилий по созданию собственной компании». С другой стороны, ни у кого из нас не было на его счету ни гроша, и трудно было устоять перед искушением получить по полмиллиона фунтов каждому. Итак, мы вступили в неизбежную дискуссию, в которой он предоставил разобраться своим «топорикам». Затем начали всплывать истинные подробности. «Конечно, мы не можем дать вам два миллиона наличными», — сказали они. «Мы дадим вам бумажные акции МАМ, которые по текущим котировкам, по нашему мнению, стоят столько-то и столько-то. . . ' и так продолжалось. Когда все было сведено к минимуму, предложение стоило гораздо меньше двух миллионов, хотя все же больше миллиона. Излишне говорить, что к этому была привязана кошачья колыбелька, и все это означало, что мы не будем сами себе боссами. Но затем произошел последний штрих, который действительно решил нас. Нам довольно тяжело дали понять, что если мы не заключим сделку и не заберемся к ним в постель, Тома и Энгельберта заберут у Питера. Это сделало это. «Хорошо, — сказал я, — пусть это произойдет. Черт с ними! Это не связывало Питера — он мог уйти из AIR и пойти работать на Гордона; но он решил не делать этого. Гордон, по понятным причинам, я думаю, по сути сказал: «К черту их». Я заберу у них Тома и Энгельберта и продюсирую их сам. Почему я должен отдавать им гонорары, если я могу сделать их пластинки самостоятельно?» Вот и все. Затем, в 1972 году, появился Дик Джеймс — человек, которому я «отдал» «Битлз» и который в результате стал мультимиллионером. Я думаю, правда в том, что он так и не простил мне этого. В конце концов, носить с собой это бремя. Однажды он сказал мне: «Сколько раз мужчина должен сказать «Спасибо»?» Я никогда не хотел, чтобы он сказал «Спасибо»; Я не хотел, чтобы это мешало нашим отношениям. Но в конце концов это произошло. Дик предложил нам миллион фунтов, и на этот раз это были настоящие деньги. Поскольку наша компания была частной, решение о продаже должно было быть единогласным среди нас четверых. Но мы все еще были без гроша в кармане, и, имея перед носом каждый четверть миллиона, мы решили поговорить. Дело в том, что, если не считать наших индивидуальных проблем, у нас не было никаких основных средств, кроме самой компании, в которую мы вкладывали все, что зарабатывали. Мы были бы не против продать часть компании, чтобы привлечь капитал. Но в этом была проблема; немного не хватило. С точки зрения Дика Джеймса, это должно было быть то, что в конечном итоге станет контрольным пакетом акций. Дискуссии продолжались на протяжении 1973 года и, наконец, прервались в начале 1974 года. Честно говоря, я был крайне раздражен, потому что понял, что он пытается купить не только компанию, но и меня и мою будущую работу. Это было то, чего он действительно хотел. Встречи стали очень ожесточенными. Он начал стучать кулаком по столу; Я начал кричать на него; и мы пошли разными путями. Это было именно то, чего я не хотел, и я уверен, что основной причиной всего этого было то мучительное чувство виноватой благодарности, которое возникло еще в тот день, когда я предложил Брайану Эпштейну: «Почему бы?» Неужели ты не назначишь Дика Джеймса своим издателем? Распродажа была отменена, но нас снова ждало жало в хвосте. К нашему ужасу, мы обнаружили, что гонорары адвокатов (которые были довольно высокими, поскольку они участвовали во всех переговорах) должны были нести не компания, а мы индивидуально как акционеры. Их также нельзя было обложить налогом. Таким образом, мы фактически потеряли деньги из-за отсутствия сделки и оказались в худшем положении, чем раньше. Именно на этом фоне в октябре 1974 года мы, наконец, уступили, если можно так выразиться, еще одному наступлению: на этот раз со стороны Кризалис, империи, созданной Крисом Райтом и Терри Эллисом. Но это был совсем другой набор трюков. Первоначально они намеревались купить лишь небольшую часть компании. Это дало нам необходимый капитал. Опять же, хотя они хотели иметь возможность купить контрольный пакет акций компании, который у них сейчас есть, при четком понимании того, что они не будут вмешиваться в то, как мы хотим ею управлять. По сути, оно должно было остаться нашим. Это был идеальный брак, основанный на взаимном уважении. Они оставили нас в покое, разве что для того, чтобы давать финансовые советы и помогать в управлении. Это, в свою очередь, дало мне возможность продолжить свой постбитловский период работы в Америке, что значительно увеличило доходы компании – и, естественно, меня самого – в огромной степени. Самое замечательное в этой сделке, насколько я понимаю, то, что она не стоила мне свободы. Я могу делать именно то, что хочу. Я свободен, как ветер. Если я хочу написать музыку для фильма, я могу. Если я захочу уйти и написать симфонию, я смогу. Если бы я захотел – нет, если бы я захотел уделить время работе над этой книгой, я бы смог. Эти свободы очень важны для меня. Если бы я хотел стать миллионером (а я им не являюсь, но я прекрасно знаю, что мог бы им стать, если бы захотел), это означало бы отказ от некоторых из них. Все, чего я хочу, это чтобы, когда я стану слишком старым или мне надоест то, что я делаю сейчас, я и моя семья могли жить комфортно. Идея вереницы яхт и частных самолетов меня не привлекает. Эти цели в жизни приносят только заботы. Не то чтобы создание AIR было осуществлено без каких-либо головных болей; и впереди был еще один. Будучи в Америке в 1976 году, я испытал потрясение, природу которого можно было бы назвать невероятным. Потому что это было именно так: невероятно. Каждый из первоначальных партнеров AIR, включая меня, получил заказное письмо от EMI. В нем говорилось, что EMI расторгает первоначальный контракт следующей осенью, на что они имели право, но, несмотря на общие договорные договоренности, в которых четко указано, что роялти будут выплачиваться в течение двадцати пяти лет, роялти больше не будут выплачиваться со стороны компании. дата прекращения. Мы были разбиты. Не было и речи о том, чтобы кто-то позвонил нам и сказал: «Слушай, старина, вот чем мы занимаемся». Просто заказное письмо. Джон Бёрджесс был, мягко говоря, крайне расстроен, и нам вновь пришлось обращаться к юристам. Мы обнаружили, что в контракте был пункт, который в силу (или позора) своей коварной двусмысленности давал им аргумент, на котором можно было основывать свои действия. Но причина была в другом. Мы были недовольны гонорарами, которые получали, и не имели отчета в течение восемнадцати месяцев. Устав от этой постоянной задержки, мы провели аудит EMI. Результат
197
было заказное письмо. В конце концов все уладилось, но не без изрядной доли злобы. В целом, справедливо будет сказать, что отношения между AIR и EMI были далеко не сердечными с тех пор, как мы впервые от них освободились. И это несмотря на множество успешных пластинок, которые мы сделали для них с тех пор, как стали независимыми. И это несмотря на то, что в 1967 году, через два года после моего ухода, мы с «Битлз» записали для EMI пластинку, которую некоторые любезно назвали самой влиятельной в истории поп-музыки: пластинку под названием Sergeant. Группа Клуба одиноких сердец Пеппера.
Дэш оф Пеппер приехал для эксперимента. Битлз знали это, и я это знал. К ноябрю 1966 года у нас была огромная череда хитов, и у нас была уверенность, даже высокомерие, чтобы знать, что мы можем попробовать все, что захотим. Достигнутые нами продажи оправдали бы нашу ерунду с записью, если бы мы этого захотели. Но тогда нам бы не сошло с рук вскармливание публики чушью. Сингл «Yellow Submarine» и «Eleanor Rigby», а также альбом Revolver были выпущены в августе того же года. Итак, прошло несколько месяцев с тех пор, как мы были в студии, и нам пора подумать о новом альбоме. «Новое» определенно было таким, каким оно должно было получиться. Полагаю, что признаки уже были. «Элеонора Ригби» и «Tomorrow Never Knows» из «Револьвера» стали убедительными намеками для тех, у кого есть уши, чтобы услышать то, что должно было произойти. Они были предвестниками полной смены стиля. Даже я тогда не осознавал, насколько это важно и причины этого. «Власть цветов», революция хиппи и наркотиков происходили, затрагивая мальчиков прямо у меня на глазах, но моя собственная наивность не позволяла мне увидеть все это таким, каким оно было на самом деле. Я почти не знала, чем пахнет горшок, хотя он был прямо у меня под носом! Но я осознавал, что что-то происходит с музыкой, и это меня взволновало. Как ни странно, альбом Sergeant Pepper начался с песни «Strawberry Fields», которой на нем никогда не было. В ноябре того же года Джон пришёл в студию, и мы занялись своим обычным распорядком дня. Я сел на свой высокий табурет, Пол стоял рядом со мной, а Джон стоял перед нами со своей акустической гитарой и пел песню. Это было просто прекрасно. Потом мы попробовали это с Ринго на барабанах, а также с Полом и Джорджем на басу и электрогитарах. Время начало усложняться – это была не та нежная песня, которую я услышал впервые. В итоге у нас получилась пластинка, которая представляла собой очень хороший хэви-рок. Тем не менее, очевидно, это было то, чего хотел Джон, поэтому я метафорически пожал плечами и сказал: «Ну, на самом деле это было не то, о чем я думал, но все в порядке». И Джон ушел. Через неделю он вернулся и сказал: «Я тоже об этом думал, Джордж. Возможно, то, что мы сделали, было неправильно. Я думаю, нам следует попытаться сделать это еще раз. До этого момента мы никогда ничего не переделывали. Мы посчитали, что если не получилось с первого раза, то больше не надо. Но на этот раз мы это сделали. «Может быть, нам следует поступить по-другому», — сказал Джон. — Я бы хотел, чтобы ты за это что-нибудь заработал. Может быть, нам стоит взять немного струн, духовых инструментов или чего-нибудь еще». Между нами мы договорились, что я должен писать для виолончели и трубы вместе с группой. Когда я закончил, мы записали его еще раз, и я почувствовал, что на этот раз все гораздо лучше. Джон снова ушел. Несколько дней спустя он позвонил мне и сказал: «Мне это нравится, правда нравится». Но, знаешь, у другого тоже что-то есть. «Да, я знаю, — сказал я, — они оба хороши. Но разве мы не начинаем мудрить? Возможно, мне не следовало использовать слово «раскол», потому что ответ Джона был: «Мне нравится начало первого, и мне нравится конец второго». Почему бы нам просто не объединить их вместе?» — Ну, против этого есть только два обстоятельства, — сказал я. «Во-первых, они в разных тональностях. Во-вторых, они в разных темпах». — Да, но ты можешь что-нибудь с этим поделать, я знаю. Ты можешь это исправить, Джордж. Джон всегда оставлял мне подобные вещи. Он никогда не утверждал, что знает что-либо о звукозаписи. Он был наименее техничным из Битлз. У него была глубокая вера в мою способность справиться с такими проблемами, вера, которая иногда была неуместной, как я определенно чувствовал в этом случае. Он поставил передо мной почти непреодолимую задачу. Но мне нужно было попробовать. Я снова прослушал обе версии и внезапно понял, что, если повезет, мне это сойдет с рук, потому что из-за расположения клавиш более медленная версия была на полтона бемоль по сравнению с более быстрой. Я подумал: если я смогу ускорить одно и замедлить другое, я смогу получить одинаковые тона. И если повезет, темпы будут достаточно близкими, чтобы их не было заметно. Я именно это и сделал на ленточной машине с регулируемым управлением, точно выбрав правильное место для разреза, чтобы соединить их как можно точнее. Именно так вышел "Strawberry Fields", и таким он остается и по сей день - две записи. Следующей песней, которую мы записали, была «When I’m Sixty-Four»; это было гораздо проще. Это была своего рода водевильная мелодия, которую Пол время от времени придумывал, и он сказал, что хочет «своего рода зубастый звук». Итак, я записал ее для двух кларнетов и бас-кларнета. Я помню, как записывал его в огромной студии номер один на Эбби-Роуд и думал, что три кларнетиста выглядели такими же потерянными, как судья и два линейных судьи в одиночестве посреди стадиона Уэмбли. Следом за этим последовала "Penny Lane", которая началась как довольно простая песня. Но Пол решил, что ему нужно особое звучание, и однажды, побывав на концерте Бранденбургских концертов Баха, он сказал: «В них есть парень, играющий на этой фантастической высокой трубе». «Да, — сказал я, — труба-пикколо, труба Баха. Почему?' «Это отличный звук. Почему мы не можем его использовать? «Конечно, можем», — сказал я, и при этом он попросил меня организовать это для него. Теперь обычная труба звучит в си-бемоль. Но есть еще труба D, которую чаще всего использовал Бах, и труба F. В данном случае я решил использовать трубу-пикколо си-бемоль, на октаву выше обычной. Для ее исполнения я пригласил Дэвида Мэйсона, который играл в Лондонском симфоническом оркестре. Это была трудная сессия по двум причинам. Во-первых, на этой маленькой трубе чертовски сложно играть в лад, потому что на самом деле она не гармонирует сама с собой, так что для достижения чистых нот музыканту приходится «проговаривать» каждую из них. Во-вторых, у нас не было подготовленной музыки. Мы просто знали, что нам нужны небольшие междометия. У нас был опыт, когда профессиональные музыканты говорили: «Если бы Битлз были настоящими музыкантами, они бы знали, что они хотят, чтобы мы играли, еще до того, как мы придем в студию». К счастью, Дэвид Мейсон был совсем не таким. К тому времени «Битлз» и так были очень громкой новостью, и я думаю, он был заинтригован возможностью сыграть на одной из их пластинок, не говоря уже о том, что ему хорошо заплатили за свои хлопоты. Когда мы подходили к каждому небольшому разделу, где нам нужен был звук, Пол придумывал нужные ему ноты, а я записывал их для Дэвида. Результат был уникальным, чего раньше никогда не делалось в рок-музыке, и это придало "Penny Lane" совершенно особый характер. Потом наступило Рождество, и мы договорились снова собраться вместе после того, как они напишут еще немного материала. Но тем временем EMI и Брайан Эпстайн сказали мне, что им нужен еще один сингл, поскольку его уже давно не было. Я сказал: «Хорошо. Это значит, что нам придется найти дополнительный материал для альбома, но давайте соединим два лучших, которые у нас есть на данный момент — «Strawberry Fields» и «Penny Lane» — и выпустим их в двустороннем формате. записывать.' Я до сих пор не могу себе представить, почему этот сингл занял первое место, ведь за мои деньги это было лучшее, что мы когда-либо выпускали. Но это было так, и теперь у нас осталась отдельная песня «When I'm Sixty-Four» для нового альбома. Мы снова приступили к работе в феврале 1967 года, и мальчики начали приносить различные написанные ими песни. Но сам «Sergeant Pepper» появился только в середине работы над альбомом. Это была песня Пола, обычный рок-номер, не особенно блестящий, если говорить о песнях. В ее записи не было ничего сложного или особенного. Но когда мы закончили его, Пол сказал: «Почему бы нам не сделать альбом так, как если бы группа Пеппер действительно существовала, как если бы пластинку делал Сержант Пеппер?» Мы озвучим эффекты и все такое». Мне понравилась эта идея, и с того момента у Pepper было такое ощущение, будто она жила своей собственной жизнью, развиваясь сама по себе, а не благодаря сознательному усилию Битлз или меня интегрировать ее и сделать из нее «концептуальный» альбом. Например, «A Little Help from My Friends» изначально задумывался как отдельная композиция, написанная специально для Ринго – мы всегда чувствовали, что в каждом альбоме должен быть какой-то уголок, который навсегда останется Ринго! Ребята поддержали его вокальными припевами и так далее, поскольку голос у него никогда не был блестящим, но песня ему подошла превосходно. Опять же, вклад Джорджа, «Внутри тебя без тебя», при всем уважении к Джорджу, был довольно унылой песней, на которую сильно повлияла его одержимость индийской музыкой того времени. Я очень тесно работал с ним над озвучкой, используя струнный оркестр, и он пригласил нескольких друзей из Индийской музыкальной ассоциации, чтобы они играли на специальных инструментах. Меня познакомили с дилрубой, индийской скрипкой, при игре на которой используется множество техник скольжения. Это означало, что при написании музыки для этого трека мне пришлось заставить струнников играть очень похоже на индийских музыкантов, изгибая ноты и делая переходы между одной нотой и другой. Но даже такие совершенно разные песни, как эти две, казалось, слились воедино, как только они стали «работой» самого Сержанта Пеппера, с того первого момента на пластинке, когда вы слышите звуки настройки группы и атмосферу аудитория. То, как пластинка, казалось, создавала собственную «единственность», стало особенно очевидным во время редактирования. Прекрасным примером этого была «Good Morning», быстрая, довольно хриплая песня с любопытным, нерегулярным размером. Обычно мы приглушали музыку в конце песни, но на этот раз мы решили заглушить затухание множеством звуковых эффектов, особенно животных. Мы вставили все: от крика своры гончих до более простых звуков фермы. Порядок, который мы разработали для альбома, означал, что за этим треком должна была последовать реприза песни «Sergeant Pepper», и, конечно, я пытался заставить все это идти плавно. Итак, представьте себе мой восторг, когда я обнаружил, что кудахтанье курицы в конце «Доброе утро» удивительно походило на звук гитары в начале «Сержанта Пеппера». Мне удалось вырезать и свести два трека так, что один фактически превратился в другой. Это было одно из самых удачных изменений, которые только можно было получить. В других случаях мы могли только прибегнуть к нашим собственным безумным идеям, чтобы добиться желаемого эффекта: не больше, чем в «Быть на благо мистера Кайта». Как и большинство песен Джона, она была основана на том, что он видел; он часто брал газету и видел какой-нибудь материал, который послужил поводом для песни. В данном случае это была старая афиша цирка и ярмарки, которую он повесил у себя дома. В нем говорилось: «В интересах мистера Кайта, Большого цирка, Хендерсонов, ярмарки Пабло Фанкес». . и включал в себя все фигурки, которые появятся, включая Лошадь Генри. Когда мы подошли к средней части песни, где «Конь Генри танцует вальс», нам, очевидно, пришлось перейти к вальсу, и Джон сказал, что хочет, чтобы музыка «кружилась вверх и вниз», чтобы придать ей ритм. атмосфера цирка. Как обычно, написав отличную песню, он сказал мне: «Делай с ней, что можешь» и ушел, оставив меня с ней. Чтобы добиться эффекта шарманки, я попросил Мэй Эванс, роуди, сыграть на его огромной басовой гармошке, а мы с Джоном занимались своими делами на двух электрических органах, Wurlitzer и Hammond. Джон должен был сыграть основную мелодию, а я должен был сыграть вихревые шумы — основанные на ней хроматические партии. К сожалению, мои цифровые возможности игры на органе не впечатляют, и я обнаружил, что не могу достичь той скорости, которую хотел для этих пробежек. Поэтому я сказал Джону: «Мы замедлим весь процесс вдвое». Вы играете мелодию в два раза медленнее и на октаву ниже, а я бегу так быстро, как только могу, но тоже на октаву ниже. Затем, когда мы удвоим скорость ленты, все получится красиво, гладко и очень закрученно». Конечно, мы всегда могли привлечь для этого профессионального органиста, но наша позиция была такой: «Какого черта!» Почему мы должны позволять кому-то другому участвовать в нашем веселье?» Кроме того, мы все это делали спонтанно: пригласить кого-то еще означало бы задержку и массу утомительных объяснений. Но даже когда мы сделали это по-новому, это все равно звучало не совсем правильно, и я сказал Джону, что подумаю об этом. Тогда я нашел ответ. Я собрал много записей старых викторианских паровых органов — тех, которые можно услышать на каруселях на окружных ярмарках — играющих все традиционные мелодии, марши Соузы и так далее. Но я явно не мог использовать даже отрывок из них, который можно было бы идентифицировать; поэтому я записал несколько записей на пленку, отдал их инженеру и сказал ему: «Я возьму полминуты этой, полторы минуты той, минуты той» и скоро. — Тогда что мне с ними делать? он спросил. «Вы разрезаете эту ленту на части длиной около фута». 'Что?!!' «Разрежьте его на небольшие кусочки длиной около фута и не будьте слишком осторожны с порезами». Явно думая, что я потерял рассудок, он сделал это, оставив мне связку кусков ленты длиной около фута, всего около шестидесяти. 'Что теперь?' — Подбросьте их в воздух. Я полагаю, уже полагая, что мир полностью сошел с ума, он сделал, как его просили. «Теперь, — сказал я, — соберите их в том порядке, в каком они идут, и снова склейте их вместе». Бедняга не смог сдержаться. 'Зачем ты это сделал?!!' — Вот увидите, — сказал я. После того, как он снова кропотливо склеил их все вместе, мы прослушали пленку, и я сказал: «Этот фрагмент слишком похож на оригинал». Поверните его в другую сторону, задом наперед. Так продолжалось до тех пор, пока пленка не превратилась в целую смесь карусельных шумов, но бессмысленную в музыкальном плане, поскольку состояла из фрагментов мелодий, связанных в ряд долей секунды. Это была нереальная смесь звуков, возникшая без всякой рифмы и причины; но когда он был добавлен в качестве фоновой «размывки» к уже созданному нами треку органа и гармошки, это действительно создавало общее впечатление присутствия в цирке. По сравнению с песнями Пола, каждая из которых, казалось, в какой-то степени соприкасалась с реальностью, песни Джона имели психоделический, почти мистический оттенок. В этом отношении «Lucy in the Sky with Diamonds» была типичной песней Джона, и многие аналитики и психиатры позже назвали ее песней о наркотиках всех времен. Они говорили чушь, но ярлык прижился. Недавно я очень обиделся, когда увидел по телевидению передачу о наркорейде «Операция Джули», в ходе которой были задержаны некоторые крупные мировые поставщики ЛСД. Программа предварялась «Люси», как если бы это была песня о наркотиках – «факт», который люди сочли окончательно доказанным просто потому, что «Люси», «Небо» и «Бриллианты» начинаются с букв ЛСД. Вся правда в том, что Джулиан, маленький сын Джона, однажды пришел домой из школы с фотографией маленькой девочки на черном небе со звездами вокруг нее. Джон спросил, сделал ли он эту картину, и когда Джулиан ответил, что да, Джон спросил его: «А что же это такое?» Лучшим другом Джулиана в школе была маленькая девочка по имени Люси, и он ответил: «Это Люси, в небе, с бриллиантами». Образы Джона — одна из замечательных особенностей его работ: «мандариновые деревья», «мармеладное небо», «целлофановые цветы». Надеюсь, это не прозвучит претенциозно, но я всегда видел в нем слухового Сальвадора Дали, а не какого-то наркозависимого артиста. С другой стороны, было бы глупо делать вид, что в то время наркотики не играли большой роли в жизни Битлз. В то же время они знали, что я, в своей роли учителя, этого не одобряю, и, как непослушные мальчики, они скатывались в столовую, запирали дверь и терзали суставы. Я не только не увлекался этим, но и не видел в этом необходимости; и нет никаких сомнений в том, что, если бы я тоже принимал наркотики, альбом Pepper никогда бы не стал тем альбомом, которым он был. Возможно, сработало сочетание допинга и его отсутствия, кто знает? Факт остается фактом: они часто очень хихикали, и это часто мешало нашей работе; никогда больше, чем в эпизоде с Джоном. Мы перезаписывали голоса на один из треков Pepper, и Джон в студии явно чувствовал себя плохо. Я позвонил по внутренней связи: «В чем дело, Джон?» Разве ты не очень хорошо себя чувствуешь? — Нет, — сказал Джон. Я спустился и посмотрел на него, и он сказал: «Я не знаю». Я чувствую себя очень странно». Он определенно выглядел очень больным, поэтому я сказал ему: «Тебе нужен свежий воздух». Давай оставим остальных работать, а я выведу тебя наружу. Проблема заключалась в том, куда идти; впереди нас, как обычно, ждало около пятисот ребят, дежуривших, как сторожевые собаки, и если бы мы осмелились появиться у входа, поднялся бы шум, и они бы
вероятно, сломали ворота. Поэтому я отвел его на крышу, над студией номер два. Я помню, это была прекрасная ночь с очень яркими звездами. Затем я вдруг понял, что единственной защитой по краю крыши был парапет высотой около шести дюймов с отвесным перепадом примерно девяноста футов до земли внизу, и мне пришлось сказать ему: «Не подходи слишком близко к край, там нет перил, Джон. Мы некоторое время гуляли по крыше. Потом он согласился вернуться вниз, и мы собрались на ночь. Лишь намного позже я узнал, что произошло. У Джона была привычка принимать таблетки «апперсы», чтобы дать ему силы пережить ночь. В тот вечер он по ошибке принял не ту таблетку — очень большую дозу ЛСД. Но Пол знал, пошел с ним домой и тоже включился, чтобы составить ему компанию. Кажется, у них было настоящее путешествие. Я знал, что они курят травку, и знал, что они принимают таблетки, но по своей наивности понятия не имел, что они также употребляют ЛСД. Вдумчивость Пола, когда он пошел домой с Джоном, была типичной для одной из лучших сторон его характера. Но во время создания «Пеппер» он также причинил мне одну из самых больших травм в моей жизни. Речь шла о песне «She's Leaving Home». В то время мне все еще приходилось записывать всех остальных моих артистов. Однажды Пол позвонил мне и сказал: «У меня есть песня, над которой я хочу, чтобы ты поработал со мной». Ты можешь прийти завтра днем? Я хочу сделать это быстро. Мы наймем оркестр, и ты сможешь его записать». — Завтра я не смогу, Пол. Я записываю Силлу в два тридцать. 'Ну давай же. Вы можете прийти в два часа. — Нет, я не могу, у меня сеанс. — Хорошо, тогда, — сказал он, и на этом разговор закончился. Затем, как я узнал позже, он попросил Нила Аспиналла, гастрольного менеджера, позвонить и найти кого-нибудь другого, кто напишет за него музыку, просто потому, что я не мог сделать это в такой короткий срок. В конце концов он нашел Майка Леандера, который смог. На следующий день Пол подарил мне его и сказал: «Вот и мы. У меня есть балл. Мы можем записать это прямо сейчас.
Я записал это, внеся несколько изменений, чтобы оно работало лучше, но мне было больно. Я подумал: Пол, ты мог бы подождать. Потому что я действительно не смог бы сделать это в тот день, если бы я не посвятил все Битлз и никогда не имел дела ни с одним другим артистом. Пол, очевидно, не считал важным, чтобы я делал все. Для меня это было так. С финансовой точки зрения я не получил от этого особой пользы, но, по крайней мере, получил удовлетворение. Сама партитура была достаточно хороша и актуальна до сих пор, но это была единственная партитура, написанная кем-либо еще за все время, что я играл в «Битлз». Однако это произошло, и с этим ничего не поделаешь. Затем мы подошли к главной части всего альбома — «A Day in the Life». Это началось во многом как одна из песен Джона, взятая со страниц газет: «Я читал новости сегодня, о боже». Например, был момент, когда он упомянул «четыре тысячи лунок в Блэкберне, Ланкашир». Какой-то волшебник анализа утверждал, что это относится к дыркам в руке наркомана, но на самом деле Джон прочитал небольшую газетную заметку о плачевном состоянии дорог в этом городе. Один из местных советников сказал: «Пришло время что-то сделать. Знаешь, я был в окрестностях Блэкберна и насчитал четыре тысячи лунок. Джон просто вписал это в текст. Затем Джон спросил Пола, есть ли у него что-нибудь, что можно было бы добавить в середину песни, и Пол придумал: «Проснулся, встал с постели». . . это на самом деле совершенно другая песня. Но оно слилось с другим, потому что представляло собой своего рода последовательность сновидений. Мы разделили две части, по сути, очень длинной музыкальной паузой. Когда мы записывали оригинальный трек, Пол просто бил одну и ту же ноту, такт за тактом, в течение двадцати четырех тактов. Мы согласились, что речь идет о том, «Это место будет заполнено позже». Чтобы сохранить время, мы попросили Мэй Эванс считать каждый такт, и на записи до сих пор слышен его голос, когда он стоял у рояля и считал: «Один-два-три-четыре». . . . Ради шутки, Мэй поставила будильник, который будет звонить по истечении двадцати четырех тактов, и вы тоже это слышите. Мы оставили его, потому что не могли его снять! Вопрос заключался в том, как мы собираемся заполнить эти двадцать четыре полоски пустоты? Ведь это было довольно скучно! Поэтому я спросил Джона о его идеях. Как всегда, я пытался проникнуть в его сознание, выяснить, какие картины он хотел нарисовать, а затем попытаться воплотить их для него. Он сказал: «То, что я хотел бы услышать, — это грандиозное развитие событий, от ничего до чего-то абсолютно похожего на конец света». Хотелось бы, чтобы это было от предельной тишины до предельной громкости, не только по громкости, но и чтобы звук расширялся. Я бы хотел использовать для этого симфонический оркестр. Вот что я тебе скажу, Джордж: ты нанимаешь симфонический оркестр, а мы приглашаем его в студию и говорим, что делать. «Да ладно, Джон, — сказал я, — невозможно заставить симфонический оркестр сидеть и говорить им: «Послушайте, ребята, вот что вы собираетесь делать». Потому что вы не заставите их делать то, что вы от них хотите. Ты должен что-нибудь для них записать. 'Почему?' — спросил Джон со своим типичным подходом к таким вопросам с широко раскрытыми глазами. «Потому что все они играют на разных инструментах, и если у вас нет времени обойти каждого из них по отдельности и посмотреть, что именно они делают, это просто не сработает». Но он объяснил, чего хочет, достаточно, чтобы я смог написать партитуру. На фразу «Я хотел бы возбудить тебянннннн». . . ' немного, я использовал виолончели и альты. Я попросил их сыграть две ноты, которые отражают голос Джона. Однако вместо того, чтобы перебирать инструменты, которые давали четкие ноты, я заставил их водить пальцами вверх и вниз по ладам, увеличивая интенсивность до начала оркестровой кульминации. Эта кульминация снова была чем-то другим. Там я написал в начале двадцати четырех тактов самую низкую ноту для каждого инструмента оркестра. В конце двадцати четырех тактов я написал самую высокую ноту, которую мог достичь каждый инструмент, которая была около аккорда ми мажор. Затем я провел волнистую линию через двадцать четыре такта с ориентирами, которые примерно указывали им, какую ноту они должны были достичь в каждом такте. Музыкантам также было дано указание как можно изящнее переходить от одной ноты к другой. В случае со струнными инструментами это заключалось в скольжении пальцев по струнам. Что касается инструментов с клавишами, таких как кларнет и гобой, им, очевидно, приходилось перемещать пальцы от клавиши к клавише при подъеме, но их также просили «сглаживать» изменения, насколько это возможно. Я отметил музыку «пианиссимо» в начале и «фортиссимо» в конце. Все должны были начать как можно тише, почти неслышно, а закончить (метафорически) разрывающим легкие шумом. И вдобавок к этому необычному произведению музыкальной гимнастики я сказал им, что они должны не подчиняться самому фундаментальному правилу оркестра. Они не должны были слушать своих соседей. Хорошо обученный оркестр в идеале играет как один человек, следующий за руководителем. Я подчеркнул, что именно этого им делать нельзя. Я сказал им: «Я хочу, чтобы каждый был индивидуальным». Это каждый сам за себя. Не слушай парня рядом с тобой. Если он находится на расстоянии трети от вас, и вы думаете, что он идет слишком быстро, отпустите его. Просто делайте слайд вверх по-своему, по-своему». Излишне говорить, что они были поражены. Им наверняка никогда этого раньше не говорили. Чтобы исполнить эту небольшую экстравагантность, Джон и Пол попросили у меня целый симфонический оркестр. Но хотя к тому времени я уже привык к довольно щедрым расходам в отношении «Битлз», мое чувство осторожности, вызванное EMI, не покинуло меня полностью. Поэтому я сказал: «При всем уважении, я думаю, что это немного глупо приглашать девяносто музыкантов только для того, чтобы добиться такого эффекта». Поэтому я остановился на половине симфонического оркестра, с одной флейтой, одним гобоем, одним фаготом, одним кларнетом и так далее, вместо двух каждого. В итоге у нас осталось сорок два игрока. Запись должна была проходить в студии номер один на Эбби-Роуд, и мы все чувствовали себя счастливыми, поскольку это был самый большой оркестр, который мы когда-либо использовали при записи Битлз. Поэтому я не особо удивился, когда Пол позвонил и сказал: «Послушай, ты не против прийти в вечернем платье?» 'Почему? В чем идея? «Мы думали, что нам будет весело. Раньше у нас никогда не было большого оркестра, поэтому мы решили, что вечером нам будет весело. Так ты придешь в вечернем платье? И мне бы хотелось, чтобы весь оркестр тоже пришел во фраках. «Ну, это может стоить немного дороже, но мы это сделаем», — сказал я. 'Что вы собираетесь носить?'
«О, наши обычные уроды» — под этим он имел в виду их яркую одежду хиппи, пальто с цветочным рисунком и все такое. Наступила ночь, и я обнаружил, что они также пригласили с собой всех своих друзей, таких как Мик Джаггер, Марианна Фейтфулл, Саймон и Марийке, психоделические художники, которые управляли магазином Apple на Бейкер-стрит. Они ходили в оркестр и выходили из него, раздавая бенгальские огни, косяки и черт знает что, да еще привезли с собой массу партийных новинок. После одной из репетиций я пошел в аппаратную, чтобы посоветоваться с Джеффом Эмериком. Когда я вернулся в студию, зрелище было невероятным. Там сидел руководитель оркестра Дэвид МакКаллум, который раньше был руководителем Королевской филармонии, с ярко-красным накладным носом. Он посмотрел на меня сквозь бумажные очки. Эрик Грюнберг, ныне солист, а когда-то руководитель Симфонического оркестра Би-би-си, весело играл на выезде, его левая рука совершенно нормально держала струны скрипки, но его смычок держал в лапе гигантской гориллы. У каждого участника оркестра поверх вечернего платья была забавная шляпа, и общий эффект был совершенно странным. Где-то есть видеозапись этого дела, снятая индийским оператором, которого знали «Битлз». Оркестр, конечно, подумал, что это глупое хихиканье и пустая трата денег, но я думаю, что они прониклись духом вечеринки только потому, что это было так нелепо. На самом деле, стоит отметить, что единственный раз, когда у нас были серьезные возражения со стороны оркестра, это была запись «Hey Jude», самого продаваемого сингла из всех. Я хотел, чтобы они пели и хлопали в ладоши, а также играли, и один мужчина вышел. «Я не собираюсь хлопать в ладоши и петь чертову песню Пола Маккартни», — сказал он, несмотря на то, что за свои хлопоты получал двойную плату. В конце концов, вечеринка «День из жизни», конечно, не была пустой тратой денег, потому что на ней был записан невероятный звук. На самом деле, оглядываясь назад, я думаю, что мне следовало быть более экстравагантным и заказать полный оркестр. Но даже в этом случае у меня получился эквивалент не одного, а двух полноценных оркестров. После репетиции мы записали этот звук четыре раза, и я добавил эти четыре отдельные записи друг к другу с немного разными интервалами. Если прислушаться, то можно услышать разницу. Они не совсем вместе. Этот звук использовался дважды во время песни. В первый раз мы закончили это искусственно, буквально разорвав ленту, оставив тишину. После громкого звука нет ничего более возбуждающего, чем полная тишина. Второй раз, конечно, пришелся на конец пластинки, и для этого мне нужен был финальный аккорд, который мы позже озвучили. Я хотел, чтобы этот аккорд длился как можно дольше, и я сказал Джеффу Эмерику, что добиться этого будет его делом, а не мальчиками. Я собрал всех четырех «Битлз» и себя в студии за тремя фортепиано, пианино и двумя роялями. Я дал им связку аккордов, которые они должны были сыграть. Затем я крикнул: «Готовы?» Раз, два, три — вперед! С этим, АВАРИЯ! Мы все бьём по аккордам как можно сильнее. В контрольной комнате фейдеры Джеффа, которые контролируют входную громкость из студии, были сильно опущены в момент удара. Затем, когда звук затих, он постепенно поднял фейдеры, а мы вели себя тихо, как пресловутые церковные мыши. В конце концов, они оказались так высоко, а микрофоны настолько живые, что можно было слышать работу кондиционера. На это ушло сорок пять секунд, и мы проделали это три или четыре раза, создавая мощный звук фортепиано за фортепиано за фортепиано, и все делали одно и то же. Этот аккорд стал достойным завершением «A Day in the Life». Ну почти конец. Когда мы приступили к сборке пластинки, Пол сказал: «Знаете, когда эти пластинки печатаются, появляется выходная канавка, по которой игла перемещается взад и вперед, чтобы заработало автоматическое изменение». Почему бы нам не добавить туда музыку? Что-то глупое. «Хорошо, — сказал я, — если хочешь немного пошутить. Я не думаю, что кто-нибудь когда-либо делал это, но почему бы и нет? «Тогда давай спустимся и сделаем что-нибудь в студии», — сказал он. Итак, они вчетвером спустились вниз и начали петь глупые вещицы, каждый по-своему, без всякого смысла; Звук типа «ням, поворот, тайм-тинг». Я отрезал с ленты примерно две секунды и вставил ее в выходную канавку, чтобы она крутилась и крутилась вечно. Конечно, когда пластинка вышла, все фанатики услышали этот странный шум на бегущей дорожке и начали задаваться вопросом, что это такое и зачем они это сделали. Потом начались интерпретации.
Наконец, это вспомнилось мне как самый безумный из всех анализов Битлз: «Эй, если проиграть это задом наперед, получится непристойная фраза». Что ж, с огромным воображением, я полагаю, так оно и было, но это определенно никогда не было задумано. Это было просто типично для того, что мог создать культ Битлз: каждую пластинку выворачивали наизнанку и переворачивали, пытаясь различить скрытый смысл. Они даже обнаружили запись собаки, которая была задумана только как частная шутка; об этом никогда не было объявлено публично. Не довольствуясь своей чепухой в конце концов, Пол сказал: «Мы никогда ничего не записываем для животных. Вы это понимаете, не так ли? Давайте включим что-нибудь, что сможет услышать только собака». — Хорошо, — сказал я. «Диапазон звука собаки намного выше, чем у человека. Давайте возьмем ноту около 20 000 герц». Это был небольшой личный сигнал для собак. Они это услышали, да. Но они не были любителями Битлз; они ненавидели ее и ныли всякий раз, когда в нее играли. Я очень сомневаюсь, что она сохранилась на современных тиражах пластинки. Зная иерархию EMI, я думаю, они сказали бы: «Это глупая трата времени». Отрежьте его. Однако, не будучи собакой, я просто не знаю. Когда дело дошло до выпуска пластинки, ребята были совершенно справедливо убеждены, что сделали что-то действительно стоящее, чего еще никто еще не пробовал. Они были уверены, что обложка должна быть не менее оригинальной. Поэтому они попросили человека по имени Питер Блейк поставить это для них. Это стоило очень дорого. Они хотели, чтобы на фотографии были лица всех людей, которыми они когда-либо восхищались, вместе, просто так, с множеством людей, которыми они вообще не восхищались. Они позаимствовали свои восковые модели из музея мадам Тюссо, а также скульптуры Дианы Дорс и Сонни Листона. А почему бы не? Марлен Дитрих была там в виде картонной фигуры вместе с Д. Х. Лоуренсом. Затем они добавили все, что, по их мнению, было характерно для их времени: музыкальные инструменты, кальян, телевизор. . . и растения марихуаны. По этому поводу, естественно, возник скандал. По поводу обложки в целом тоже разгорелся скандал. На самом деле в EMI были, мягко говоря, возмущены. Они позвонили мне и сказали: «У нас не может быть этого прикрытия». Вы не можете выпустить эту пластинку». 'Почему нет?' — Потому что… ты понимаешь? ...все лица на обложке... нам нужно получить разрешение от каждого. Нам даже нужно получить разрешение от поместий. Мы знаем, что Мэрилин Монро мертва, но нам еще нужно спросить исполнителей. То же самое и с WC Fields. Мэй Уэст еще жива, так что нам придется спросить ее напрямую. И так продолжалось. В некоторых случаях они не знали, кто были люди на обложке, и звонили, чтобы спросить. EMI сильно волновалась, и я полагаю, у них была для этого какая-то причина. Кто-то вроде Марлона Брандо мог бы возразить. Им пришлось написать сотни писем по всему миру, чтобы получить все разрешения. Вдобавок ко всему, «Битлз» решили заказать специальную униформу из тонкого шелка от Дугласа Хэя Уорда, модного портного того времени. Надев эту униформу для фотографии, они хотели держать в руках несколько инструментов, совсем не принадлежащих Битлз: Джон - валторну, Ринго - трубу, Пол - английский рожок и Джордж - флейту. Беда была только в том, что они не знали, как их держать! Но в конце концов все сложилось хорошо, как в лучших сказках, и альбом стал самым продаваемым из всех, что у них когда-либо были. Со своей стороны, я чувствовал, что именно этот альбом превратил «Битлз» из обычной рок-н-ролльной группы в внесших значительный вклад в историю артистических выступлений. Это был поворотный момент, поворотный момент. Это был переломный момент, который превратил искусство звукозаписи из того, что просто создавало забавные звуки, в нечто, что выдержит испытание временем как полноценный вид искусства: скульптуру в музыке, если хотите. Технически это был настоящий кошмар. Если бы у меня было записывающее оборудование на восемь или шестнадцать дорожек, я мог бы сделать свою работу гораздо лучше. У меня была только четырехгусеница, и мне пришлось растянуть ее до предела. Любой, кто слушает эту пластинку, должен понимать, что для обеспечения звучания некоторых песен должно быть более четырех треков, а это действительно так. Я перезаписывал с одной четырехдорожечной машины на другую, иногда не один, а два раза. Возвращаясь к тому, что я написал ранее, это, конечно, означало бы потерю до девяти поколений качества звука. Соотношение сигнал/шум, если бы я дублировал дважды, было бы в девять раз хуже. Я сделал вот что. Я записывал ритм, самую громкую часть записи, на четыре оригинальных трека. Я бы записал их в один трек на отдельной машине, оставив мне три запасных трека. Если бы мне понадобилось больше, как только они были записаны, я бы перезаписал вторую партию из четырех треков до двух треков на третьей машине, оставив мне еще два запасных трека. Это означало, что только исходный ритмический звук был ухудшен в качестве в девять раз, и из-за его существенной громкости маловероятно, что слушатель сможет услышать разницу в качестве. Вторая партия из трех свежих треков, перезаписанная на третью машину, потеряет всего четыре поколения качества звука. С помощью этого метода мне удалось получить до девяти треков из наших четырехдорожечных объектов. По моему мнению, на этом история сержанта Пеппера должна была закончиться. Но в ноябре 1976 года, почти через десять лет после выхода альбома, Роберт Стигвуд обратился ко мне с просьбой написать музыку для фильма о Сержанте Пеппере, который он снимал. Моим первым желанием было сразу же сказать «нет». В глубине души я знал, что «Битлз» не одобрили бы это, и, хотя мне не нужно их разрешение, чтобы управлять своей жизнью, я все же задавался вопросом, правильно ли было бы идти по старой дороге. С другой стороны, Роберт заверил меня, что если я возьмусь за эту работу, то получу полный творческий контроль над музыкой и смогу точно диктовать, как она должна звучать. Вдобавок он сунул мне под нос небольшое состояние, больше, чем я когда-либо получал за фильм. Затем я спросил себя, действительно ли я думал об этом из-за денег. Если вы делаете что-то ради денег, чего в противном случае вы не хотели бы делать, вы делаете это по неправильной причине и вам вообще не следует этого делать. Я пытался быть честным с самим собой, но в подобных ситуациях редко кто уверен в своих мотивах. В конце концов, решение за меня приняла Джуди, как это часто делают жены. Она сказала: «Я понимаю проблемы, через которые вы проходите. Вы хотите быть уверены, что делаете правильные вещи с художественной точки зрения. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что если вы этого не сделаете, это сделает кто-то другой, и вы возненавидите то, что он сделал? Таким образом, вы не будете защищать целостность музыки, а с другой стороны, если вы сделаете это, вы сможете гарантировать, что с музыкой не будут плохо обращаться». Это, а также обещание Роберта полной свободы, которое в конечном итоге было полностью выполнено, окончательно решило меня. Съемки планировалось начать в апреле 1977 года, но затем начались трудности с поиском подходящих артистов. Были подписаны контракты на «Би Джиз» и Питера Фрэмптона, но на другие роли никто не был выбран, и всевозможные имена, некоторые правдоподобные, другие совершенно неправдоподобные, были запрещены. Потом случилась беда с режиссёром. Первым наняли телевизионного директора, который оказался неподходящим, и поиски замены заняли некоторое время. Когда они его нашли, это был абсолютно правильный выбор - Михаэль Шульц, прославившийся благодаря своей режиссуре фильма «Мойка автомобилей». Мы с ним нашли общий язык с момента нашей встречи. Я обнаружил, что с ним очень легко познакомиться, и, что более важно, мы были едины в том, как следует обращаться с музыкой. Это было бы прекрасно, но чтобы снять фильм, нужны артисты, а кастинг шел очень медленно. Они пригласили Джорджа Бернса сыграть мистера Кайта; затем пошли разговоры о Мике Джаггере на другую роль, которую в конечном итоге исполнила Aerosmith, американская хэви-метал группа. Несмотря на все эти задержки, съемки наконец начались только в октябре 1977 года. Прежде чем это произошло, мне пришлось подготовить все музыкальные треки. Поскольку это был музыкальный фильм, все музыкальные фрагменты пришлось имитировать под существующие записанные исполнения. Это означало не создание готовых треков, а придание им ядра, ритма и голосов. Поскольку в фильме было почти два часа музыки, очевидно, предстояло записать массу материала, прежде чем они могли даже начать съемки. Я начал работать в Лос-Анджелесе 1 сентября. Что касается ритм-секции, я пригласил Макса Миддлтона, старого друга из группы Джеффа Бека, в качестве клавишника; Уилбур Баскомб, также из Джеффа Бека, на басу; Бернард Пёрди, великий барабанщик из Нью-Йорка; и Роберт Авай, гитарист, много работавший с Максом. Хотя я подготовил для них определенные партитуры, в основном мы работали с так называемыми «аранжировками головы». Это означало, что я давал им символы аккордов и басовые партии, но сам стиль определялся в студии. Я говорил им: «Это ощущение, которое я хочу, вот ритм, который мне нужен, вот стиль игры, вот модуляции, вот как мы идем отсюда туда». Нам нужно столько инструментала здесь и столько вокала там... ' и так далее. При прокладывании этих треков мне приходилось очень тесно сотрудничать как с режиссером, который говорил мне, сколько времени будет длиться сцена и что в ней будет происходить, так и с хореографом, который должен был решить, как будут выглядеть люди. собирается двигаться во время сцены. Во многих случаях они говорили: «Эта песня недостаточно длинная в ее нынешнем виде». Нам нужен участок здесь, где они с важным видом проходят через ратушу» — или где бы то ни было. Мне пришлось бы добавить так много ритмических тактов, работая в соответствии с их спецификациями. Затем, после записи ритм-треков, мы приглашали артиста для создания окончательных вокальных треков. Работать с Bee Gees и Питером Фрэмптоном было очень легко. Bee Gees чрезвычайно профессиональны, и у меня, как ни странно, возникло чувство дежавю. Хотя я никогда не думал о них как о «Битлз», у них такое же непочтительное чувство юмора, и было странно, как некоторые ситуации и переживания, казалось, возрождались десять лет спустя. Когда дело дошло до гармоничного пения, они были невероятно легки. Фильм не ограничивался песнями из альбома Pepper, и когда мы подошли к песне «Because» из альбома Abbey Road, я решил, что фоном должно быть аутентичное звучание Abbey Road; то есть хоровая структура голосов, электрический клавесин, на котором я играл на оригинальном альбоме, и вообще очень тонкая поддержка. Поэтому я снова сам записал трек для электрического клавесина, а затем отдал Bee Gees ноты всех очень сложных гармоний. Было три трека, каждый из которых содержал по три голоса, и способ перемещения линий был довольно сложным, но они справились с ними почти так же легко, как это сделали Битлз. Это было удивительно. Группе профессиональных певцов было бы сложнее это сделать, но у Bee Gees было врожденное чувство того, куда это должно идти. Однако с некоторыми другими песнями и исполнителями возникла большая проблема. Многие песни были написаны для Джона Леннона или Пола Маккартни, и у них очень характерные голоса. Без них неизбежно чего-то будет не хватать, особенно если новые голоса сильно отличаются от их собственных. Например, «Strawberry Fields», первоначально написанная и исполненная Джоном, в фильме была исполнена Сэнди Фариной. Тональность, в которой она пела, отличалась на добрую четверть от оригинальной тональности Джона, и мне было интересно услышать, как это изменило весь характер песни. У него была совершенно другая текстура. Даже тогда его пришлось переделывать, как и ряд треков, потому что то, что сделал Майкл визуально, иногда не вписывалось в музыку. Поэтому музыку нужно было сделать так, чтобы она соответствовала картине. Изначально я намеревался сделать «Strawberry Fields» очень непристойным и гипнотическим образом. Но в фильме она поет ее в очень нежный момент между собой и Питером Фрэмптоном, и мне пришлось смягчить ее, добавить струнные и так далее, чтобы она больше подходила для песни о любви. Было довольно много других отклонений от первоначальной концепции песен «Битлз», но сделано это было с определенной идеей. Моя основная предпосылка заключалась в том, что, хотя группа в фильме, которую сыграли Bee Gees, начинала в своем необработанном виде, песня должна быть воспроизведена как можно ближе к оригиналу. Но по мере того, как они становились более успешными и утонченными в фильме, музыка тоже менялась, становясь более «модной» и утонченной. Там, где выступали артисты, не входящие в группу, я вообще не считал себя прикованным к оригиналу. Например, у мистера Мастарда, злобного электронного гения, которого играет Фрэнки Хауэрд, есть две женщины-помощницы-роботы. Они поют песню «Mean Mr Mustard» из «Abbey Road», которая изначально была своего рода быстрым и одноразовым номером. Я замедлил его и сделал его немного более заводным. Но была еще проблема, как должны были звучать поющие голоса этих двух андроидов — ну, поющие андроиды. Я сделал это с помощью инструмента под названием «Вокодер», который записывает слоги и согласные человеческого голоса, но не учитывает тон. Затем вы можете наложить его выходной сигнал на тон синтезатора, на котором вы можете играть, создавая отчетливо жуткий и похожий на робота голос. Работа над фильмом была очень интересной и сложной задачей. Был один эпизод, где оркестр марширует по улицам, символизируя различные периоды, начиная с Первой мировой войны, своим стилем игры. Так что мне пришлось аранжировать мелодию «Сержант Пеппер» в стиле рэгтайм, чарльстон, гершвин, свинг, биг-бэнд и современный стиль – и все это исполнить за три минуты! Фильм не имел большого успеха, хотя альбом саундтреков стал мультиплатиновым. Мне понравился огромный объем работы, проделанной над фильмом, но ирония в том, что его сравнивают с «Желтой подводной лодкой». В этом мультфильме, помимо множества треков «Битлз», мне пришлось написать оригинальную музыку продолжительностью около часа. Это было очень полезно как в художественном, так и в финансовом отношении. В картину «Пеппер» не разрешалось включать оригинальную музыку, но мне пришлось подготовить два часа музыки со многими разными артистами, что потребовало гораздо больше работы, чем «Желтая подводная лодка». Желтую подводную лодку хвалили как произведение искусства; Сержанта Пеппера приняли менее любезно. Я думаю, что, возможно, само название было недостатком. Это определенно не был фильм-рекордсмен. Но я не думаю, что сейчас кто-нибудь сможет снять фильм об оркестре Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Это было и остается уникальным.
«Напиши в картинке» В детстве я писал музыку для фильмов. Когда в 1962 году мне наконец представился первый шанс, это было больше похоже на небольшой кошмар. Это был малобюджетный британский фильм категории «Б» с «Семеркой умеренности» в главной роли. Поскольку я записывал с ними пластинки, меня попросили написать музыку к фильму за королевский гонорар в 112 фунтов. Не то чтобы меня действительно заботили деньги. Это был мой большой шанс. Песни, которые я написал для них, и сопутствующая музыка в типичном стиле двадцатых годов отлично сработали и очень хорошо соответствовали настроению фильма. Но когда мы подошли к подбору музыки к картине, у меня начались проблемы. Это было сделано в Шеппертоне и дало мне первый опыт работы на киностудии; Я понятия не имел, насколько это будет тяжело. Мне не помог тот факт, что на снимке играли «Семерка умеренности», и поэтому мне пришлось подогнать музыку к тому, что они делали в фильме. Это была основная ошибка со стороны продюсеров. Сначала им следовало записать музыку, а затем группа должна была имитировать ее на пленке, что было бы гораздо проще. На самом деле мне пришлось делать это задом наперед, я понятия не имел, как это сделать. Это был самый утомительный и нервный опыт в моей жизни, и я прошел через него методом проб и ошибок. Мои проблемы не облегчались тем фактом, что «Темперанс-7» не были хорошо обученными музыкантами. Они и так не очень хорошо следили за моим дирижированием, и вряд ли это помогло, когда картину начали смотреть вместо меня! Опять же, оборудование в Шеппертоне было крайне устаревшим. Не было рок-н-ролльной машины, позволяющей прокручивать фильм вперед и назад, как сегодня. Вместо этого, если мы что-то приглушили, а ему снилось, что мы это делали постоянно, всю катушку приходилось перематывать; это потребовало задержки примерно на десять минут, прежде чем мы смогли повторить попытку, что было далеко не успокоением для моих и без того изрядно потрепанных нервов. Фильм назывался Take Me Over, но это было противоположно тому, что я чувствовал по этому поводу. Помню, как в конце записи я пришел домой и сказал: «Я больше никогда не хочу сниматься в другом фильме». Если это музыка из фильма, вы можете ее получить!» Более того, я не думал, что после этого маленького фиаско мои услуги кому-нибудь потребуются; поэтому я был удивлен, когда вскоре после этого ко мне обратился Мьюир Мэтисон, громкое имя в индустрии, который, вероятно, имел больше, чем кто-либо другой, опыта дирижирования оркестрами для британских фильмов. Его, прекрасного человека и шотландца, попросили написать музыку для комедийного фильма «Анонимные мошенники» с Уилфредом Хайдом Уайтом, Лесли Филлипсом и Джеймсом Робертсоном Джастисом в главных ролях. Так получилось, что в то время я записывал Лесли Филлипс. Мьюир, хотя и был прекрасным дирижером и аранжировщиком, не был особенно сильным композитором и чувствовал, что не сможет написать целую партитуру. Поэтому он подошел ко мне и сказал: «Почему бы тебе не написать песню для Лесли Филлипс?» Мы попросим его спеть вступительные титры, а потом ты сможешь поработать со мной над музыкой к фильму. Ты сделаешь всю рекламную работу, а я сделаю все небольшие монтажные работы». Вот что мы сделали. Это было маленькое счастливое сотрудничество, и я многому научился у него методам написания фильмов. Единственная небольшая проблема заключалась в том, что, как он сам первым признал, Лесли Филлипс пел не слишком хорошо, и в последнюю минуту режиссер и продюсер решили, что им не нравится, как он поет заглавную песню. Однако по какой-то причине нас не пригласили снова, чтобы сделать новый дебют. В результате, когда я впервые увидел картину в Одеон Актон, я был совершенно поражен. Вступительные названия сопровождались партитурой, которую я написал для дерзкой вступительной музыки к песне. Это было прекрасно. Но когда голос должен был появиться – ничего. Ни слова. Все, что я мог слышать, это аккомпанемент пропавшего голоса. Должно быть, это был очень полный аккомпанемент, потому что, похоже, никто этого не заметил. Фильм имел умеренный успех. Следующее предложение, к моему удивлению, поступило от продюсеров моего первого фильма. Он должен был написать музыку и проконтролировать озвучивание фильма под названием «Расчетный риск». Это было удачное название, как с их точки зрения, так и с моей, но я согласился, и это дало мне более ценный опыт. Возможно, это была не такая уж рискованная игра, потому что я многому научился, работая с Мьюиром. Я научился сочетать музыку с фильмом. Я узнал о кадрах пленки и скорости, с которой пленка проходила через «ворота» камеры. Я научился делать свои собственные измерения музыки, связанной с кино, и как справляться с измерениями других людей. Все это, конечно, происходило, когда я еще работал в EMI, и делалось в свободное время; но это было время, проведенное с пользой, ценная основа, которая сослужила мне добрую службу, когда в 1964 году произошел мой первый настоящий прорыв. Это был фильм «Ночь тяжелого дня», первый фильм «Битлз» и, вероятно, самый успешный из них. Дик Лестер был режиссером, а я вместе с «Битлз» сделал специальные записи песен, которые вошли в фильм, продюсируя их специально для фильма. Потом мне пришлось связать все это воедино и написать сопутствующую музыку. Это сработало очень хорошо. Более того, я был разочарован тем, что фильм будет черно-белым, поскольку считал, что первый фильм о Битлз должен быть в гламурных цветах, если это тоже сработает очень хорошо. Сумасшедший монтаж Дика Лестера и особенно его опыт работы в рекламе, который позволял ему складывать все в плотные, плотно упакованные небольшие эпизоды, были превосходны. Единственная проблема заключалась в том, что он сам был чем-то вроде музыканта. Он из тех людей, которые в ночном клубе или на вечеринке подходят к пианино в углу и играют свою идею джаза, чтобы развлечь людей. Он сносно играет на джазовом фортепиано, и у меня сложилось впечатление, что он считает меня уступающим ему в музыкальном плане. Пословица о том, что немного учиться — опасно, подтвердилась и привела к неприятному расколу между нами. Была одна из моих партитур, которая ему особенно не понравилась. Я бы не возражал, но он дождался момента самой записи, чтобы сказать мне об этом. Я стоял на трибуне перед оркестром из тридцати человек, когда он с ревом подскочил и оторвал от меня гигантскую полосу. «Это абсолютная чушь, которую вы написали», — разразился он. «Что, черт возьми, ты думаешь делать? Ты чертов дурак. Как вы называете это… это… дерьмо? Я был очень смущен и очень зол. «Это то, что вы просили меня написать в первую очередь», — сказал я ему. Но это не помогло, и последовал один из тех глупых споров, которые не могут принести никому пользы. Поэтому я тут же сделал небольшой пересмотр и записал кое-что в соответствии с его новым ходом мыслей. После этого мы почти не разговаривали. Ирония заключалась в том, что, когда фильм вышел, американцы дали ему две номинации на премию Оскар. Один был по сценарию Алана Оуэна. Другой был моим музыкальным направлением. Дик не получил никакого упоминания. Возможно, это была поэтическая справедливость. Кроме того, это была единственная номинация на «Оскар», но я даже не пошел на церемонию. Я знала, что у меня нет шансов, потому что в оппозицию входили «Мэри Поппинс» и «Моя прекрасная леди». За последнее, кстати, Андре Превен получил музыкально-режиссерский «Оскар». Со следующими людьми, с которыми я работал, братьями Боултинг, никаких раздражений не было. Фильм назывался «Семейный путь», и они попросили Пола Маккартни написать основные темы. Я должен был записать их и написать музыку. Действие фильма происходило на Севере, с крутыми мощеными улицами и так далее, и Полу пришла в голову хорошая идея использовать что-то вроде северного звучания духовых инструментов. Но мне нужно было больше материала, чем он мне дал. Поэтому я пошел к нему и сказал: «Мне нужна маленькая задумчивая мелодия. Ты должен писать музыку для этой штуки, а я должен ее оркестровать. Но для этого мне нужна мелодия, и ты должен мне ее дать». Его ответ был: «Хорошо, чего ты хочешь?» Я сказал ему еще раз, но он все еще уклонялся от ответа; поэтому я сказал: «Если вы не дадите мне ни одного, я напишу свой собственный». Это помогло. Он дал мне милый отрывок из вальса, который был именно тем, что мне было нужно, и этим я смог завершить партитуру. Как и в случае с моим первым фильмом, запись должна была производиться в Шеппертоне; но я был настолько недоволен неэффективностью этого места по сравнению с настоящими студиями звукозаписи, что пошел к Джону Боултингу и сказал ему: «Я не хочу работать в Шеппертоне». Я бы предпочел сделать это в CTS». CTS, расположенная в Бэйсуотере, была в то время лучшей киностудией Лондона. 'Почему? В чем смысл?' он спросил. «У нас в Шеппертоне очень хорошая студия звукозаписи». «Я там работал, — сказал я, — и считаю, что это просто ужасно!» Проблема заключалась в том, что братья Боултинг были частью British Lion и совладельцами Shepperton, и запись там стоила им очень мало. Поэтому ему, естественно, не хотелось выходить на улицу. Я мог это понять, но я настаивал на этом. Я сказал ему: «Я собираюсь использовать духовой квинтет и струнный квартет в большинстве партитур, а таких музыкантов не так много. Таким образом я сэкономлю вам деньги, даже несмотря на то, что мы будем использовать очень хороших игроков. Но записать струнный квартет или духовой квинтет – дело очень клиническое и очень сложное. Баланс чрезвычайно важен. Здесь нет права на ошибку, потому что все увеличено. В большом симфоническом оркестре кто-то может издать пронзительный звук где-то за скрипичным столом, и никто этого никогда не заметит. Но со струнным квартетом можно услышать все – и я хочу, чтобы запись была идеальной». Это, по крайней мере, убедило его к компромиссу. «Я скажу вам, что мы будем делать», — сказал он. — Проведите со мной сеанс в Шеппертоне. Я обещаю тебе, что это будет испытание. Если все пройдет хорошо, а я в этом уверен, мы доделаем остальную часть партитуры там. Но если вы сможете убедить меня, что в студии нет того, что вам нужно, я обещаю, вы будете иметь полное право пойти куда-нибудь еще». Итак, мы провели сессию в Шеппертоне со струнным квартетом под руководством Невилла Марринера из Академии Святого Мартина в полях. Невилл, замечательный музыкант, оказал мне огромную помощь, но когда я вошел в студию и увидел установку, я едва мог поверить своим глазам. Они сгруппировали струнный квартет как камерный оркестр на концерте в Вигмор-холле. Микрофоны были подвешены на высоте примерно пятнадцати футов. «Ну, честно говоря, так не пойдет», — сказал я. «Я хочу услышать смолу на смычке виолончели, когда он откусывает. Я не хочу слышать всю атмосферу этой комнаты». Глядя на духовых музыкантов, я продолжил: «Более того, вы услышите очень много духовых инструментов на струнных микрофонах. Это просто не сработает». Мои замечания не были встречены каким-либо воодушевляющим всплеском сотрудничества. Сотрудники студии ясно чувствовали, что, проработав в этом бизнесе около шестидесяти пяти лет, им не нужен какой-то молодой человек, который будет рассказывать им, как это делать. Их отношение было, откровенно говоря, кровавым. Когда я сказал, что микрофоны должны быть ближе к инструментам, особенно к виолончели, я был в студии, когда из аппаратной послышался ответ: «Эрни… э…». . . не могли бы вы опустить стрелу примерно на четыре фута для мистера Мартина, пожалуйста? Инженер и не мечтал бы сделать это сам. Ему нужно было найти подходящего члена профсоюза, которым был Эрни. И даже после того, как Эрни немного опустил его, это все равно не имело большого значения. Можно сказать, это была несчастливая сессия. Джон Боултинг был убежден. — Я знаю, что ты его не саботировал, — сказал он. «Иди и пройди сеанс в CTS, и посмотрим, получится ли от этого лучше». Так мы и сделали, и так и произошло. Это сработало блестяще, и в итоге мы все это записали там. Это стало откровением для Джона. За обедом в Бэйсуотере, после одного из сеансов CTS, он спросил: «Какая разница, Джордж?» Я вижу, что здесь дела у тебя идут лучше. Почему наши студии в Шеппертоне не могут быть такими?» «Честно говоря, Джон, — сказал я, — я думаю, что тема слишком длинная!» У вас неправильное оборудование. Это устарело. Мы больше не используем микрофоны, которые вы используете. Более того, мы больше не используем людей, которых вы используете. Все дело в базовом отношении к работе». Я знал, что в любом случае я был на довольно безопасной почве, говоря это - фильм Роя и Джона «Я в порядке, Джек» был ярким показателем их отношения к профсоюзной мелочности. К счастью, с тех пор киностудии значительно улучшились. Что касается Битлз, следующим фильмом стал «Помогите!», и он был снят без моей помощи! Конечно, я продюсировал для него все записи «Битлз», и они определенно думали, что я буду писать музыку для фильма; но поскольку режиссером снова стал Дик Лестер, неудивительно, что, цитируя Сэма Голдвина, меня исключили. Музыку написал Кен Торн, приятель Лестера. Затем, в 1966 году, появилась «Жёлтая подводная лодка». В этом фильме был целый комплекс проблем, не в последнюю очередь тот факт, что «Битлз» с самого начала были против этой идеи. В то время они с подозрением относились ко всему, что не было их собственной идеей, и это была сделка, заключенная между EMI, Брайаном Эпштейном и продюсерами. Это должен был быть мультипликационный фильм, а продюсерами выступила King Features, американская синдикационная компания, чьей главной претензией на известность был фильм «Флинстоуны». «Битлз» явно думали, что это будет очередной грабеж, и не хотели иметь с этим ничего общего. Но Эпштейн заключил контракт не только на использование в фильме около дюжины старых песен Битлз, но и на написание четырех совершенно новых названий. Их реакция была такой: «Хорошо, мы должны предоставить им эти чертовы песни, но мы не собираемся отступать, предоставляя их». Мы предоставим им их, когда захотим, и дадим им все, что считаем приемлемым». В результате, когда мы записывали песни для будущих альбомов, они в конце сессии пробовали какую-нибудь ерунду, и, пока это работало достаточно хорошо, они говорили: «Хорошо, этого достаточно для фильм. Пусть они это получат. Таким образом, фильм поцарапал дно музыкальной бочки «Битлз» в том, что касается нового материала: песни, которые они спродюсировали, были «Only a Northern Song», «All Together Now», «Hey Bulldog» и «It’s All Too Much». Другая серьезная проблема заключалась в скорости создания фильма: год от начала до конца по сравнению с минимум двумя годами, которые Дисней всегда тратил на создание полнометражного анимационного фильма. Обычно в таких фильмах сначала пишут музыку, а затем анимируют ее, как в случае с «Фантазией». Но с «Желтой подводной лодкой» это было просто невозможно. Режиссером был Джордж Даннинг, блестящий канадский аниматор, и поскольку он хотел, учитывая отведенное время, сразу приступить к написанию и визуализации, нам пришлось разработать систему, по которой я мог бы работать бок о бок с он и его команда. Он сказал мне: «Мы не можем дать вам время написать музыку до того, как мы начнем, и мы не можем выделить вам время, чтобы написать ее, когда мы закончим, поэтому ответ таков: вам придется написать ее». это пока мы делаем картину. «Как же мне это сделать?» Я спросил его. «Ну, я буду присылать вам по катушке, когда она будет близка к завершению, и вам просто нужно будет писать и записывать как можно быстрее. У меня нет времени советоваться с вами, куда следует направить музыку. Вы просто пишете это там, где, по вашему мнению, оно должно быть, а мы потом это вписываем». Было достаточно приятно получить такой карт-бланш, но это был невероятно хаотичный способ работы. Я мог бы получить барабан 4, за которым последует ролик 7, и даже в этом случае может отсутствовать пара сцен, с небольшим уведомлением на барабане, сообщающим мне, как долго будет сцена. Я провел сумасшедший месяц, сочиняя музыку, пятьдесят пять минут, таким бессистемным способом, и ошибкам не было места. Все должно было быть адаптировано к картине. Если открывалась дверь или в окне появлялась забавная рожица, и нужно было указать на эти моменты, то эту работу должна была выполнить музыкальная партитура. К счастью, один из моих самых ранних опытов в мире киномузыки дал мне инструмент, с помощью которого можно добиться этого. Я поехал в Элстри, чтобы увидеть, как Нельсон Риддл снимает фильм для фильма Питера Селлерса «Лолита». Что меня особенно поразило, так это фрагмент, где Питер уезжает с этой молодой девушкой. Нельсон Риддл написал ее с использованием одной из своих типичных ритм-секций: набора струн, а не какой-либо конкретной мелодии. Вы видели, как Питер смотрел в зеркало заднего вида, а затем внезапно его глаза широко раскрылись в зеркале, потому что он понял, что за ним следят. Это произошло дважды, и каждый раз оркестр раздавал резкую ноту, подчеркивающую происходящее. Эта нота не имела ничего общего с основным ритмом. Это произошло даже не на сильной доле, а в середине такта, но при первом прохождении точно совпало. Я задавался вопросом, как, черт возьми, Нельсон Риддл добился этого. Ответ на самом деле был очень простым. Вы планируете темп, в котором будет ваш ритм, а затем устанавливаете так называемый «клик-трек». То есть отдельная дорожка, которая просто содержит звук щелчка, который появляется через каждые несколько кадров фильма. Вы знаете, что 35-миллиметровая пленка работает со скоростью двадцать четыре кадра в секунду, поэтому, зная, какой темп вам нужен, вы просто просите монтажера фильма нажать кнопку с любым интервалом, который вам нужен. Затем, дирижируя оркестром, вы надеваете наушники, через которые слышите щелчки, и, придерживаясь определенного ритма, «привязываете» оркестр к фильму. Таким образом, вы можете написать свою партитуру, зная, что, даже если что-то произойдет на трети или в середине такта, вы можете безопасно добавить любой музыкальный эффект, который захотите, с абсолютной уверенностью, что он будет соответствовать картинке. Вот как это сделал Риддл, и так я сделал это с Желтой субмариной. Я писал очень точно, даже с авангардными и странными звуками, такими как «Sea of Holes», придерживаясь тактовых линий, зная, что клик-трек обеспечит его соответствие. На «Жёлтой подводной лодке» тоже были проведены довольно странные эксперименты. В одном эпизоде, в «Море чудовищ», желтая подводная лодка бродит, а по морскому дну ползают всякие странные мелочи, некоторые на трех ногах, некоторые катятся, как велосипедные звонки. Один монстр огромен, без рук, но с двумя длинными ногами и в резиновых сапогах. У него огромный хобот, из верхушки которого торчит голова, а вместо носа — что-то вроде длинной трубы. Это подсасывающий монстр; когда он видит других маленьких монстров, он использует свою трубу, чтобы засосать их. В конце концов он засасывает желтую подводную лодку и, наконец, захватывает угол экрана и засасывает и его, пока все не становится белым. Я, естественно, чувствовал, что эта сцена требует особой «засасывающей» музыки! Вопрос был в том, как это сделать с оркестром? Внезапно я натолкнулся на очевидное – музыку наоборот. Музыка, проигрываемая задом наперед, в любом случае звучит очень странно, а тромбон или тарелка, проигрываемая задом наперед, звучат как втягивающий шум. Поэтому я выделил около сорока пяти секунд для игры оркестра, чтобы музыка соответствовала картине, когда мы проигрываем ее задом наперед. Инженером, работавшим в то время в CTS, был замечательный человек по имени Джек Клегг, и когда я объяснил ему эту идею, он сказал: «Прекрасно!» Отличная идея! Я переверну фильм, а ты запиши музыку к фильму задом наперед. Затем, когда мы повернем фильм в правильном направлении, ваша музыка будет наоборот». Это звучало как что-то из сценария Goon. Мы так и сделали, и в конце дубля вместо обычного крика, призывающего меня войти в аппаратную, я услышал, как Джек говорил на пленке на каком-то странном языке японского типа. Я слышал это в наушниках и понятия не имел, что происходит. Затем, когда пришло время проиграть фильм, чтобы услышать, как он звучит, я понял. В начале дубля можно было услышать голос Джека, говорящий что-то вроде «Мьелла суммарин, тиковое дерево». Пока мы записывали, он тщательно продумал, каким должно быть его объявление, если он произнесет его задом наперед, чтобы при воспроизведении вперед оно звучало по-английски. Ну примерно английский! Это было очень трудно сделать, и мы все упали — смеясь, изумленные, но в то же время полные поздравлений, — когда услышали это. После того, как вся музыка была записана, мы дублировали ее в фильм, и даже тогда возни было еще больше. В некоторых местах мы вырезали музыку, потому что звуковые эффекты работали лучше; в других мы устранили звуковые эффекты, потому что то, что я написал, звучало лучше. Тем не менее, несмотря ни на что, этот саундтрек оказался чрезвычайно успешным и принес мне массу писем от фанатов. Джимми Уэбб даже спросил меня, может ли он использовать вступительную часть «Страны Пепперланда» для телешоу Ринго Старра в Америке. Когда дело дошло до создания альбома саундтреков, которого хотели продюсеры, проблем было больше. «Битлз» по-прежнему держались в стороне от всего предприятия и просто предоставили нас самим себе. Поэтому я сказал киношникам: «Очевидно, что нужно позволить «Битлз» выпускать из своих песен все, что они захотят. Свои вещи я выдам отдельно, потому что не хочу ездить на их спинах». The Beatles решили выпустить EP со своими четырьмя новыми песнями из фильма. Со своей стороны, создатели фильма хотели, чтобы я выпустил пластинку с фоновой музыкой, голосами из фильма и повествованием. Он должен был рассказать историю «Желтой подводной лодки», и его должен был собрать человек, написавший оригинальную историю, — Эрих Сигал, который позже сделал себе имя и прославился благодаря «Истории любви». Я очень тесно работал с ним над сценарием фильма, и пластинка должна была представлять собой сочетание слов и музыки, как «Петя и волк». Мы собирались начать над этим работу, как вдруг «Битлз» изменили свое коллективное мнение. «Нет, мы не хотим этого делать», — сказали они. «Мы хотим иметь долгоиграющую пластинку». Они, конечно, осознавали, что EP не продаются в Америке, в отличие от пластинок. Более того, к тому времени они, вероятно, поняли, что, несмотря на отсутствие у них интереса или сотрудничества, фильм, скорее всего, будет иметь тот успех, каким он в конечном итоге оказался. Поэтому было решено, что на одной стороне альбома должна быть их музыка, а на другой — моя. К своим четырем новым песням они добавили «Yellow Submarine», которая изначально была синглом, и «All You Need Is Love». На моей стороне были «Перцовая страна», «Море времени», «Море дыр», «Море монстров», «Марш подлых», «Пустошь Пепперленда» и «Желтая подводная лодка в Стране перца». все это я перезаписал. Так было удобнее — и не дороже, поскольку оригинальному оркестру в любом случае пришлось бы платить дважды, если бы мы использовали саундтрек для записи. Успех «Желтой подводной лодки» вскоре принес мне дивиденды. Совершенно неожиданно кинорежиссер по имени Майк Ходжес позвонил Ширли Бернс, моей давней и многострадальной помощнице, и спросил: «Могу ли я приехать и увидеть Джорджа Мартина?» Он появился в моем офисе, сказал, что снимает фильм на Мальте с Майклом Кейном, и спросил, хочу ли я написать музыку. Честно говоря, я был поражен. «Есть много писателей, которые занимаются только музыкой для кино», — сказал я. «Когда меня просят написать музыку для фильма, я обычно делаю оркестровку песни, написанной Полом Маккартни, или что-то в этом роде. Почему ты выбрал меня? «Я думаю, что твоя «Желтая подводная лодка» — лучшее, что я слышал за последние годы, и именно поэтому я хочу, чтобы ты написал музыку для моей картины». 'Ну, что ж, спасибо. Как мило с твоей стороны это говорить. Надеюсь, я смогу оправдать вашу веру, — сказал я. С Ходжесом было здорово работать, и я был вполне доволен саундтреком, но, к сожалению, фильм потерпел небольшую неудачу - я считаю, что это результат плохого проката, а также всего остального. Он назывался «Криминология» и рассказывал о писателе в мягкой обложке, который ввязался в сценарий, который мог бы написать сам. У него был хороший актерский состав: Майкл Кейн, Микки Руни, Элизабет Уэбб и Лайонел Стэндер; он был хорошо построен и хорошо направлен. Более того, когда я это увидел, мне понравилось! Но это не меняет того факта, что его «бомбили». От этой бомбы я пошел к Бонду. Пола Маккартни попросили написать песню для фильма «Живи и дай умереть», и я оркестровал и записал ее для него. После того, как продюсеры Альберт «Кабби» Брокколи и Гарри Зальцманн услышали его, мне позвонил ассистент Гарри, Рон Касс, и сказал, что они хотели бы со мной встретиться. Рон и Кабби пригласили меня на обед в «Тиберио» на Керзон-стрит и дали понять, что меня рассматривают как кандидата на написание музыки к фильму, поскольку оркестровка на пластинке их впечатлила. Они спросили, готов ли я полететь за их счет на Ямайку, чтобы встретиться с Гарри Зальцманном, который находился там на съемочной площадке? — Я не возражаю. Я мог бы вывести себя из себя, — сказал я. Они выполняли всю работу по натуре в Очо-Риосе, и моя первая встреча с Гарри была прямо к делу. Он усадил меня и сказал: «Отлично. Как и то, что ты сделал. Очень хорошая запись. Как и счет. А теперь скажи мне, как ты думаешь, кого нам следует пригласить, чтобы это спеть? Это меня совершенно ошеломило. В конце концов, он держал в руках запись Пола Маккартни, которую мы сделали. А Пол Маккартни был — Пол Маккартни. Но он явно относился к нему как к демо-диску. — Я не понимаю. У вас есть Пол Маккартни. . . ,' Я сказал. «Да, да, это хорошо. Но кого мы собираемся попросить спеть эту песню для фильма?» 'Мне жаль. Я до сих пор не слежу, — сказал я, чувствуя, что, возможно, мне что-то не сказали. — Знаешь, нам нужна девочка, не так ли? Что вы думаете о Тельме Хьюстон? — Ну, она очень хороша, — сказал я. «Но я не вижу в этом необходимости, когда у вас есть Пол Маккартни». Возможно, я был немного туповат. Дело в том, что он всегда считал девушку поющей главную песню в своих фильмах, как Ширли Бэсси в «Голдфингере» и «Лулу»; и кто бы это ни был, ему нужен был узнаваемый голос, а не голос Пола. Как можно мягче я отметил, что, во-первых, Пол был идеальным выбором, даже если он не был чернокожей женщиной, и что, во-вторых, если запись Пола не использовалась в качестве заглавной песни, это было бы очень сомневаюсь, что Пол все равно разрешит ему использовать эту песню в своем фильме. Это требовало некоторой степени дипломатии, потому что, если бы я сказал то, что думал, с какой-либо враждебностью, Гарри, вероятно, обиделся бы, если не сказать больше. Он бы выбросил это и все испортил с Полом. Как бы то ни было, он согласился. Я тоже не причинил себе никакого вреда, потому что, когда я вернулся в Лондон, мне поручили написать музыку к фильму. Режиссером был Гай Хэмилтон, с ним было очень легко работать. Как и Рой Боултинг, снявший «Семейный путь», он не был музыкантом, и это всегда помогает. Но он всегда был очень краток в своих характеристиках и кратком описании. Он говорил мне, где именно он хочет видеть музыку и какого эффекта он от нее хочет. Он говорил что-то вроде: «В этом эпизоде Бонд взбирается на холм». Он не знает, что за холмом. Он добирается до вершины. Мы видим его и видим, что злодей наблюдает за ним на экране телевизора. Что-то произойдет. Когда он добирается до вершины холма и смотрит вниз, мы знаем, что там. Теперь я хочу, чтобы вы усилили напряжение, пока он поднимается на холм и за ним наблюдает злодей. Он добирается до вершины, и вы видите его лицо, оглядывающее все вокруг, и вы должны думать, что вот-вот увидите какую-то зону бедствия. Тогда, и только тогда, вы, наконец, увидите это сами и поймете, что там нет ничего, кроме полей. Вот что я хочу, чтобы вы передали в музыке». Когда партитура была готова, он пришёл на запись и послушал, как я играю её с оркестром. Выслушав, он попросил меня внести лишь несколько очень незначительных изменений. Меня это, естественно, порадовало, и я почувствовал, что это говорит как о его точном брифинге, так и о моей музыке. В фильме было около пятидесяти пяти минут музыки; Я дважды использовал песню Пола: один раз в его собственной версии во вступительной части, а второй раз в исполнении Бренды Арнау.
Затем появился сержант Пеппер, и этого уже достаточно. Во многих отношениях музыка из фильмов стала частью нашей культуры. Зрители знают, например, когда вот-вот произойдет убийство, или кавалерия уже в пути, или влюбленные собираются поцеловаться, потому что об этом им говорит музыка и условность понятна. Без этого музыкального оформления большинство фильмов показались бы клинически бесплодными. Но публика не обязательно должна знать музыку. В «Живи и дай умереть» была очень захватывающая автомобильная погоня, в которой другой водитель пытается убить Бонда отравленным дротиком, но ему удается убить только водителя Бонда. Автомобиль выходит из-под контроля, акселератор заклинивает под мертвым водителем, и Бонд изо всех сил пытается контролировать его, пока он въезжает в поток машин и выезжает из него. Наконец ему удается остановить машину, он выходит, отряхивается и упоминает что-то о чистом бритье. Все это было невероятно захватывающе, и пока он говорил, вся публика неизбежно восклицала: «Уф!» Я уверен, что если бы вы спросили любого из зрителей, на что была похожа музыка в этом эпизоде, он бы вообще не подозревал о существовании музыки. Но оно было – и без него и звуковых эффектов большая часть волнения была бы лишена этой сцены. Проблема с музыкой для кино сегодня заключается в том, что пишется так много, особенно с учетом огромной продукции телевидения, что неизбежно возникнут и будут постоянно использоваться клише, потому что существует не так уж много способов сделать конкретную вещь. Когда вы видели одну автомобильную погоню, вы видели их все, и визуальные клише, как правило, сопровождаются звуковыми клише. Это не так уж и удивительно, если учесть, что в Лос-Анджелесе действительно есть музыкальные фабрики. Я обнаружил это много лет назад, когда поехал туда с Брайаном Эпстайном. Я пошел искать молодого автора песен по имени Рэнди Ньюман, который с тех пор добился известности, но тогда был неизвестен. Его издатель прислал мне несколько его песен; Я подумал, что они действительно очень хороши, и записал одну с Силлой Блэк. Я знал, что он был родственником Альфреда Ньюмана, великого кинописателя, и что Лайонел Ньюман, руководитель музыкального отдела компании Twentieth Century-Fox, приходился ему дядей. Поэтому я сначала пошел к Лайонелу, которого знал, и он сказал мне: «Рэнди работает в отделе аранжировки и копирования. Вы найдете его там. «Там» находилось здание, которое было лишь частью типичной голливудской студии. Музыкальный отдел представлял собой обширное помещение, похожее на набор машинописи, где за анонимными столами сидели мужчины и писали музыку. На одном из них сидел невысокий темноволосый парень в очках и слегка косоглазый. Это был Рэнди Ньюман. Мы представились, и я рассказал ему, как мне нравится его работа. Но в то же время мне было интересно, что же он делает в этом месте, когда у него такой талант. Затем, оглядев ряды столов, я заметил знакомого мне английского писателя, который написал много музыки для Тони Ньюли и Лесли Брикусса. Я был поражен. Конечно, они этим хорошо зарабатывали, но это было так утомительно: совсем как машинописный машиностроительный завод, поточная линия музыкальной фабрики. Их просили написать семнадцать секунд музыки для автомобильной погони или сорок пять и три пятых секунды музыки для лунного романа. Иногда они не знали, для какого фильма пишут. Но опять же, телевизионных фильмов выпускалось так много, что они содержали стандартные ситуации, и поэтому приходилось писать стандартные отрезки музыки. Треки кликов, о которых я упоминал ранее, были настолько важной частью сцены, что у них была целая библиотека, задающая каждый темп, от доли каждые пять секунд до одной доли каждую микросекунду. Это действительно был машинный процесс. Как только музыка была написана, ее занесли в студию, где музыканты ждали ее записи. Им даже не пришлось записывать это на картинку. Если бы была выбрана дорожка щелчка правой кнопкой мыши, музыка подошла бы. Весь подход, весь процесс объясняет, почему телевизионная музыка такая незаурядная: всегда одна и та же музыка, одно и то же музыкальное сопровождение. Время от времени появляются хорошие мелодии, но, когда используется так много материала, скука становится правилом. Честно говоря, я уверен, что все эти люди, пишущие всю эту музыку, пытаются сделать что-то другое. Но если вы делаете это все время, это должно становиться все труднее и труднее. Это одна из причин, почему я рад, что моя мечта не сбылась, что музыка для кино не стала моей профессией. Если бы я делал это все время, не думаю, что у меня это получалось бы очень хорошо. Одна фотография в год — это хорошо, но удержаться на этом очень сложно, потому что это своего рода золотая беговая дорожка. Чтобы быть принятым в кинематограф, нужно иметь кинокредиты. Вам придется идти от одного успеха к другому, а это значит, что вы не занимаетесь ничем, кроме музыки для кино. Джон Уильямс – хороший пример. Он написал музыку для «Челюстей», затем для «Звездных войн», а затем для «Близких контактов третьего рода». Ему предлагают больше работы в кино, чем он может осилить, поэтому он больше ничего не делает. Я считаю, что мне повезло, потому что я не только пишу для фильмов, но и могу продюсировать пластинки, строить студии звукозаписи, писать другую музыку и даже написать эту книгу (с небольшой помощью моего друга). Возможно, я даже смогу найти время, чтобы осуществить мечту всей своей жизни — написать музыку для балета. Мне нужно не просто писать музыку для фильмов; если бы я это сделал, думаю, мне бы это вскоре надоело, и моя музыка, как следствие, тоже стала бы очень скучной. Но мне бы не хотелось, чтобы это воспринималось как означающее, что я считаю всю музыку из фильмов повседневной. Напротив, большая часть из них носит весьма творческий и вдохновляющий характер. Это не значит, что когда я пишу музыку для фильмов, я хочу писать мелодии, которые понравятся всем в мире. Я стараюсь писать хорошие, и когда они не продаются по миллиону, меня это не беспокоит. Начнем с того, что песни продаются гораздо легче, чем оркестровые мелодии, потому что человеческий голос гораздо легче воспроизводит музыку и находит более быстрый путь к внутренним чувствам людей. Были, конечно, инструментальные хиты, такие как «Love Is Blue» и «A Walk in the Black Forest», но их немного, наверное, меньше одного из ста от общего числа хитов. Поэтому, чтобы писать хиты, нужно быть автором песен, а я не являюсь. Но дело в том, что написание музыки к фильмам — это, по сути, написание инструментальной музыки, и такие люди, как Джон Уильямс и Лало Шифрин, чрезвычайно хороши в этом, не сочиняя при этом никаких хитов. Отсутствие хитов не мешает таким альбомам, как музыка из «Звездных войн», продаваться в огромных количествах. В фильмах используются самые разные музыкальные звуки, но основной рацион — симфонический оркестр. Сегодня, конечно, также используются ритм-секции, электрогитары, синтезаторы и так далее.
Но с момента перехода от фортепиано в яме немого кино к ранней версии «Бен-Гура» через Виктора Янга и Дмитрия Темкина и по сей день основой киномузыки является миниатюрный симфонический оркестр. Итак, базовая логика на первый план: если вы хотите писать для фильмов, вы должны уметь оркестровать для симфонического оркестра. Оркестровка — это огромная тема, о различных аспектах которой написано множество книг. Есть определенные правила, которые, если им следовать, очень хорошо работают. Несмотря на это и несмотря на все эти книги, многие люди не следуют этим правилам. Им это редко сходит с рук, если вообще когда-либо. Одна из несложных ловушек при написании струнных инструментов — думать о струнной части как о фортепиано. Люди, которые так делают, пишут партии виолончели, как если бы они были левой рукой, а альты и скрипки, как если бы они были правой рукой. Затем они объединяют их вместе с промежутком между ними, что и происходит, когда вы играете на пианино. Я обнаружил, что секрет хорошего написания строк (и я не претендую на оригинальность этой мысли) заключается в написании четырех частей. Это может показаться довольно очевидным, но если вы сможете ограничиться четырьмя частями и не баловаться слишком большим количеством гармоний, вы получите гораздо лучший звук струнных. Также полезно, если вы сбалансируете эти части струны внутри себя, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга. Подумайте о виолончелях, альтах, вторых скрипках и первых скрипках как о четырех человеческих голосах, эквивалентных басу, тенору, альту и сопрано, и вы не ошибетесь. Лучший способ научиться писать для струнного оркестра — это писать прежде всего для струнного квартета. Тогда вам придется быть экономным. В полном оркестре стоят скрипичные парты, за каждой из которых сидят по два человека. Второй человек переворачивает музыку первому, потому что перед ним только одно музыкальное произведение. В основном они играют одни и те же ноты. Но иногда композитор «разделяет» ноты. Это означает разделение скрипки на две части. Руководитель оркестра и все остальные, сидящие по правую сторону парт, играют верхнюю строку, а сидящие слева — нижнюю, так что секция в целом играет две строки вместо одной. Вы не можете сделать это со струнным квартетом, потому что на каждую музыкальную линию приходится только один человек, так что сочинение для струнного квартета учит вас реальной экономии. Он также учит вас ценности каждого конкретного инструмента. Важность этого в том, что еще одна легкая ловушка, в которую попадают люди при написании строк, — это писать слишком много частей. Они думают, что должны покрыть каждую ноту в гармонии. Когда вы играете на фортепиано, вы играете до десяти нот одновременно просто потому, что у вас десять пальцев, и композиторы, работающие на фортепиано, используют этот факт. Но неопытные люди склонны писать это для струнного оркестра, и сочетание десяти разных нот среди струнных звучит ужасно густо. Подумайте всего о четырех нотах, по две в каждой руке. Тогда вы будете писать чисто для строк, и каждая написанная вами строка будет что-то значить, потому что ей придется плести свое особое направление. Каждая из них представляет собой одну линию, переплетающуюся среди трех других. Это способ записи строк. Написание духовых инструментов совсем другое, потому что трубы любят располагаться достаточно близко друг к другу. Если разложить их слишком сильно, они станут тонкими. Кроме того, диапазон среди духовых инструментов не так широк, как среди струнных. Диапазон от нижней ноты виолончели до верхней ноты скрипки гораздо шире, чем от нижней ноты обычного тромбона до верхней ноты трубы. Таким образом, написание медных духовых инструментов должно быть немного более компактным - хотя многое зависит от того, сколько инструментов вы используете, поскольку каждый из них воспроизводит только одну ноту за раз. У деревянных духовых инструментов есть проблемы и ограничения, как и у духовых, но важно знать текстуру инструментов и звук, который они издают. Когда пишешь для оркестра, действительно полезно знать, на что способен инструмент. Это может показаться очевидным; в конце концов, учебник по оркестровке скажет вам, что диапазон гобоя начинается с си-бемоль ниже среднего до и поднимается на две с половиной октавы примерно до соль, и предоставит вам аналогичную информацию о каждом инструменте в оркестре. , чтобы теоретически вы могли точно знать, что каждый из них может сделать. Но вот чего вам не расскажет учебник, так это того, какие ноты звучат лучше других и на каких инструментах. Эта информация приходит только из опыта и знания инструмента. Идеальный способ добиться этого, конечно же, — сыграть в нее. Но невозможно каждому пойти и выучить каждый инструмент в оркестре. Студентам-музыкантам, однако, было бы полезно получить как можно больше практического опыта. Когда я изучал оркестровку в Ратуше, вторым предметом я выбрал гобой, поэтому выучил его очень тщательно, даже если мои пиковые выступления приходились только на общественные парки! Но я тоже взял на семестр скрипку. Это было довольно болезненно для любого, кто находился в пределах слышимости, но я узнал, что я могу с ним сделать, на что способен лук, каков диапазон действия пальцев. Я узнал, например, что на скрипке довольно сложно играть открытые квинты на двойной стопе, потому что пальцы мешаются друг другу. Этот переход к музыкальному жаргону не означает, что книга скоро станет техническим трактатом. Это просто указывает на важность знания возможностей каждого инструмента. Проще говоря, большинство людей знакомы с фортепиано. Даже если они ничего не знают о композиции, они понимают, что было бы абсурдно писать музыкальное произведение, в котором большой палец правой руки должен был бы играть среднюю «до», а мизинец правой руки играл бы «до» на две октавы выше — не если только они не писали для гигантов! И для большинства людей, конечно, игра на фортепиано — это самое близкое знакомство с музыкальным инструментом. У них просто никогда не будет возможности научиться чему-то другому. Для них, большинства, главное — слушать инструменты и пытаться понять, что есть что. Если вас действительно интересует оркестровка, проведите мысленный анализ того, что вы слышите, когда слушаете пластинку. Большинство людей, слушая оркестр, позволяют ему растекаться по ним однородной массой, прекрасным звуком. На самом деле их не волнует, из каких звуков состоит его составляющее. Но серьезный музыкант, который хочет оркестровать, будет слушать это очень внимательно. Он спросит себя: «Это ли я слышу там флейту, играющую на скрипках двойные трети?» Я слышу фагот, усиливающий виолончели? Возможно, он не знает наверняка, но у него появится хорошая идея. Если он сможет увидеть настоящую партитуру, а это возможно при исполнении классической музыки, он сам выяснит, что и что делает, и научится на этом. Затем он сможет с нетерпением отправиться на золотую беговую дорожку карьеры в музыке для кино. Но если он хочет разнообразия, ему следует надеяться стать продюсером.
Типичного «Дня из жизни» звукозаписывающего продюсера «Ангела звукозаписи» не существует. Он может заниматься разными делами в каждый день недели. И эта активность умножается в десять тысяч раз по той простой причине, что мир полон продюсеров звукозаписи или начинающих продюсеров. Меня сильно поразило то, что, особенно в Соединенных Штатах, большинство молодых людей с амбициями в области звукозаписи хотят быть не главными поп-звездами, как можно было бы себе представить, а лучшими продюсерами звукозаписи. Когда в 1977 году я выиграл премию «Британия» как лучший британский продюсер за последние двадцать пять лет, после презентации меня спросили: «В чем ваш секрет?» В чем ключ к успеху в производстве пластинок?» Ответа я не мог дать. Нет однозначного ответа, и нет простого ответа. Все, что я могу предложить, как и сейчас, — это ряд порой разрозненных наблюдений, основанных на том, чему меня научили те годы, в надежде, что они могут быть полезны всем этим молодым стремящимся. Но я должен сделать оговорку: то, что сработало у меня, может сильно отличаться от того, что сработало у других, столь же успешных продюсеров. Волшебной формулы не существует. он Т
Когда я пришел в этот бизнес в 1950 году, такого понятия, как продюсер, еще не существовало. Такие люди, как Оскар Пройсс и я, были людьми A и R – артистами и репертуарами, менеджерами артистов. Создание пластинки начиналось с того, что я и, скажем, Сидни Торч вместе обедали и пару часов говорили о том, что должно быть на его следующей пластинке. Лерой Андерсон был очень популярен в то время, и мы записали такие номера, как «Музыкальная пишущая машинка», «Sleighride» и «Serenata». Предложения могли исходить от него, или я мог дать ему что-то из всего материала, который нам приносили издатели. Я подарил ему «Ecstasy», пьесу с испанским звучанием, которая оказалась настоящим хитом. Затем мы обсуждали, кто будет оркестровать пьесы, когда будет проходить запись и какой размер оркестра он хочет. Моя работа заключалась в том, чтобы организовать все это, найти оркестратора, забронировать студию и организовать набор музыкантов. Но когда наступил назначенный день, главным стал именно инженер. Поп-концом студии EMI руководили Чарли Андерсон и Лори Бамбер, и Чарли, в частности, был одним из самых лучших инженеров. Они принадлежали к поколению, которое действительно летало на месте своих штанов. Они ничего не знали об электронике, но имели большой опыт в расстановке микрофонов и акустике студии. Техника обращения со струнами, которую использовал Чарли в студии Number One, не имела себе равных, но он ужасно завидовал своему секрету и не хотел, чтобы кто-нибудь знал, как он это делает. Если бы журналист хотел сфотографировать артиста, Чарли пошел бы в студию и расставил все микрофоны в невозможных положениях, чтобы мир не узнал о его блестящем макете. И он боялся не только внешнего мира. Если кто-нибудь, как я, находился с ним в аппаратной, он горбился над панелью управления, закрывая ручки руками, так что никогда не знаешь точно, что он делает. Это было похоже на то, как школьник пытается предотвратить списывание его работы во время экзамена. Мои функции при записи были очень ограничены. Решение о том, как было исполнено произведение, было прерогативой исполнителя, Сидни Торча или кого бы то ни было. Запись была детищем Чарли, и конечной целью инженера в те дни было просто воссоздать звук как можно точнее. Все, что я мог бы сказать, было бы что-то вроде: «Думаю, нам не помешало бы добавить немного больше струн в этом отрывке, Чарли» или «Сможешь ли ты подавить темпы?» Я думаю, они немного тяжеловаты. Или я мог пойти к Сидни, или к кому бы то ни было, в студию и сказать: «Мне это показалось немного медленным». Можешь ускориться? Если бы это был вопрос баланса, я мог бы спросить Чарли, может ли он получить что-нибудь получше, и он мог бы сказать: «Нет, это все, что у меня есть». Я не могу дать тебе больше. Им придется играть дальше». В этом случае мне пришлось бы пойти и объяснить проблему Сидни и спросить его, может ли он приглушить литавры и заставить трубы играть немного громче, или что-то в этом роде. Затем он слушал запись и судил сам. Именно в те дни я понял, что одним из наиболее важных аспектов производства пластинок является умение обращаться с людьми. Такт является обязательным условием. В списке элементов, необходимых для того, чтобы стать хорошим продюсером, это и терпение стоят гораздо выше музыкальности. Такт должен был распространяться и на мои отношения с инженерами. Официально, конечно, Чарли Андерсон должен был делать то, что я хотел. Я мог бы сказать: «Прости, Чарли, но мне не нравится то, что ты делаешь со струнами». Ему придется что-то с этим делать, и, вероятно, он будет бормотать себе под нос, выходя из диспетчерской, чтобы переместить микрофон примерно на шесть дюймов, прекрасно зная, что это не будет иметь ни малейшего значения. Говоря языком военно-морского флота, я был мичманом, молодым двадцатичетырехлетним луцианом, а Чарли был магистром по оружию, пятидесятилетним мужчиной с огромным опытом. Гардемарин не слишком часто спорит, если у него есть хоть немного здравого смысла, с магистром над оружием. Но все это должно было измениться. Одновременно со мной в бизнесе появилось новое поколение молодых инженеров, изучавших электронику и готовых адаптироваться к новым методам записи на магнитную ленту. Революция уже началась примерно в то время, когда я вернулся из своей первой поездки в Америку. Молодёжи начали давать головы. Клиффа Ричарда записывал Питер Баун, волшебник электроники двадцати с небольшим лет; Малкольм Адди записывал Адама Фейта; и со мной работал талантливый молодой инженер по имени Стюарт Элтэм. Наряду с новыми методами произошло еще одно изменение. В Соединенных Штатах, столице рекордного королевства, с крупнейшей звукозаписывающей индустрией в мире, начали говорить о «продюсерах звукозаписи». Это использование вскоре пересекло Атлантику. Это было показателем меняющейся роли актера/продюсера и растущего значения, которое ему придавалось. Впервые он начал приобретать некоторый статус, тогда как раньше он был просто еще одним Джо Габбинсом, работающим на фабрике.
Сегодня роль продюсера полностью изменилась. Вместе с инженером он работает над созданием чего-то, что с точки зрения обычной акустики невозможно, чего-то большего, чем жизнь. Он здесь для того, чтобы навязать свою волю артисту, направить запись в конкретное музыкальное направление, которое он хочет. В каком-то смысле он стал звездой сам по себе.
Но не все продюсеры становятся звездами. Сегодня любой может стать продюсером, и самое ужасное, что практически каждый этим занимается! Когда я начинал, я присоединился к элитной группе из примерно дюжины человек в Великобритании, которая выпускала пластинки. Теперь каждый третий человек, которого я встречаю, кажется, либо продюсер, либо пытается им быть. Это стало желанным делом. Студент с большей вероятностью поступит в музыкальный колледж с идеей стать продюсером, чем концертирующим пианистом. И на каждого, кто поступает в музыкальный колледж, приходится десять тысяч тех, кто этого не делает, но которые все еще хотят стать продюсерами и все равно становятся продюсерами. Все, что вам нужно, это необходимые деньги, чтобы пойти в студию с группой музыкантов. Вы найдете Фреда Флэнджа, который живет в доме 29 Acacia Villas, дальше по дороге. У Фреда есть своя маленькая группа. Вы и Фред соглашаетесь, что группа — это колени пчелы, и вы подписываете его, говоря: «Я буду твоим менеджером; Я возьму 30% и запишу с тобой пластинку». Вы набираете что-то от 600 до 1000 фунтов и ведете группу в студию. Независимо от того, знаете ли вы что-нибудь об этом вообще или (что наиболее вероятно) нет, в конце дня вы выходите с небольшой пленкой, обычно с каким-то ужасным шумом на ней. Если вам очень повезет, вы сможете продать эту кассету звукозаписывающей компании. Если вам еще повезет, это может стать хитом. Именно тот огромный элемент случайности, как и пулы, привлекает людей к этой идее. Но это не имеет ничего общего с настоящей профессией продюсера, где элемент случайности не является частью игры. Любой может не только стать продюсером звукозаписи, но и открыть свой собственный лейбл. Когда я начинал, в этой стране было очень мало звукозаписывающих компаний. Это были старомодные, почти феодальные институты; хотя они втирали своих сотрудников в пыль, они были очень строгими и чрезвычайно порядочными в своих отношениях с записывающимися артистами и другими людьми. Затем произошла революция с притоком американских компаний, появлением независимых продюсеров и созданием небольших звукозаписывающих организаций. Власть первоначальных компаний рассеялась до такой степени, что они почти стали распространителями чужих пластинок и фабриками по их производству. Сегодня сочетание воли, энергии и определенной суммы денег – это все, что требуется для открытия лейбла. Выпустить пластинки даже легко. Вы можете нанять студию звукозаписи, используя независимого продюсера или довольствуясь работой «сделай сам». Затем вы можете взять мастер-пленку и отдать ее на обработку за определенную плату в любой звукозаписывающей компании. Вы можете заказать, скажем, пять тысяч дисков, зашить обложки и отправиться в путь самостоятельно. Конечно, это стоит денег, и если вы не знаете, что делаете, вы обожжете пальцы. У вас также должно быть распространение, которое вы можете организовать, придя в любой магазин или сеть магазинов и сказав: «Хорошо, я продаю пластинки. Ты принесешь их мне? Обычно они так и делают, тогда как в прежние времена пластинками торговали только признанные дилеры пластинок. На самом деле, большинство людей не утруждают себя созданием лейбла, а заключают лицензионные соглашения с крупными звукозаписывающими компаниями. Даже такая компания, как AIR, прежде чем действительно выпустить пластинку, сначала договаривается с крупной компанией о выпуске этой пластинки. Мы делали наши собственные пластинки и лицензировали их через EMI для Columbia, Parlophone или кого бы то ни было: пластинка выходила, скажем, как пластинка Parlophone, но также и как продукция AIR. Мы оплатили бы стоимость записи и возместили бы ее в виде аванса и гонорара, из которых мы заплатили бы артистам. Именно так работают многие мелкие производственные компании. Но в 1976 году мы изменили все это в нашем случае, запустив лейбл AIR, и будем выпускать наши пластинки только на этом лейбле. У любого, кто хочет стать профессиональным продюсером, есть два основных варианта. Он может стать штатным продюсером в одной из крупных компаний, и в этом случае он будет получать зарплату. Или он может стать независимым производителем и добывать корм для себя. Независимый нанимает себя тому, кто предложит самую высокую цену. Обычно он рассчитывает получить гонорар от продажи пластинок и делает ставку на то, что его мастерство приведет к тому, что эта пластинка будет продаваться. Если он достаточно хорош, он потребует аванс в счет гонорара, подобно соглашению автора с книжным издателем. Когда мы запустили AIR в 1965 году, мы установили стандарт размера роялти. Мы сказали, что 2% — это обычный базовый гонорар, на который должен иметь право продюсер. Сегодня это меняется. Лучшие производители получают гораздо больше. Я могу получить 4% или даже больше, в зависимости от обстоятельств. Ирония в том, что, добившись прорыва для независимых продюсеров, мы также выиграли битву и для штатных продюсеров. В дополнение к своей зарплате любой достойный штатный продюсер сегодня также будет получать очень солидный гонорар. Когда к независимому продюсеру обращаются с просьбой сделать пластинку, этот подход может исходить либо непосредственно от исполнителя или группы, либо от звукозаписывающей компании. Но мы давно поняли, что с отдельными исполнителями, какими бы важными и дружелюбными они ни были, по вопросу денег разумнее не иметь дело. Итак, если ко мне обратится группа, мой менеджер, который ведет все переговоры, скажет своему менеджеру: «Вот наши условия: столько-то процентов гонорара; столько-то тысяч долларов вперед. Существует довольно стандартная форма контракта, по которой продюсер получает гонорары и отчеты каждые три месяца, каждые шесть месяцев или как угодно. Но мы всегда настаиваем на том, что какой бы ни была сделка, нам должна платить непосредственно соответствующая звукозаписывающая компания. Они присылают нам отчеты и гонорары, независимо от каких-либо выплат артистам. Вся область очень договорная. Например, может существовать группа, заключившая контракт на выпуск определенного количества пластинок для компании. Эта группа может захотеть использовать своего любимого независимого продюсера, в то время как компания может предпочесть использовать одного из своих штатных продюсеров, что, вероятно, будет означать, что им придется платить меньше гонораров. Результат будет зависеть от конкретной ситуации. Если, как в случае с группой America, которую я записываю, продюсер будет признан жизненно важным звеном в цепи звучания конечного продукта, звукозаписывающая компания не будет спорить. В других обстоятельствах, если дело дойдет до лобового разногласия, группа, если они считают, что конкретный продюсер важен для их успеха, может согласиться на получение более низкого гонорара для себя, чтобы удовлетворить требования продюсера. Это все вопрос спроса и продажи, исходного рынка. Если вы пользуетесь спросом, вы, очевидно, будете получать более высокий гонорар, чем если бы вы только начинали. А когда вы только начинаете, добиться признания в бизнесе — это настоящий труд. Не заблуждайтесь: хотя продюсером может стать каждый, добиться успеха в качестве профессионального продюсера очень сложно. Но как только наступит прорыв, вас снова спросят; это точно. На производителей существует мода. Я знал случаи, когда люди пытались продать пластинки под предлогом того, что они являются «продукцией Джорджа Мартина». Но я думаю, что эта модная сторона бизнеса может быть очень опасной. Я знал многих продюсеров звукозаписи, которые, как и звукозаписывающие компании, были всего лишь вспышками на сковороде. Они производят колоссальный успех. Все хотят ими воспользоваться. Затем они ныряют и тонут без следа. Трудно достичь выносливости, способности из года в год выполнять профессиональную работу. Нельзя почивать на лаврах. Вы не можете ни на мгновение остановиться в поисках лучшего результата, на который вы способны. После более чем четверти века в бизнесе я все еще ожидаю, что на следующей неделе люди скажут: «Джордж Мартин!» Этот старый чудак! Он нам больше не нужен. Но пока он нужен, награда может быть действительно очень велика. Если альбом в Америке «станет золотым», то есть будет продано полмиллиона копий, продюсеру будет заработано небольшое состояние. Розничная цена альбома составляет около восьми долларов. Гонорар в размере 3% составляет чуть более двадцати центов за альбом. Таким образом, «золотой» альбом означает для продюсера 100 000 долларов. Благодаря успехам, которых я добился в продюсировании группы America (таких пластинок, как History, Hideaway, Holiday и Hearts), я приносил в эту страну около полумиллиона долларов в год. Эти деньги, конечно, пошли моей компании AIR, а не мне, потому что они были за мою работу в качестве продюсера. И только когда я сочиняю музыку, аранжирую, пишу музыку к фильму или провожу концерт, гонорары или гонорары за мою работу приходят ко мне лично. Я думаю, что History был единственным альбомом, который принес нам больше всего денег. Это был сборник американских хитов-синглов, таких как «Horse With No Name», который они попросили меня собрать в виде специального пакета. Это не остановилось на золоте. Он стал платиновым. Я считаю, что в итоге они продали около двух миллионов копий; мы заработали на этом около 200 000 долларов, хотя я продюсировал не все треки. Другие награды успешного продюсера пластинок — это те, которые отправляются на каминную полку, а не на банковский баланс. Это, конечно, награды. Мне часто кажется, что, хотя победа – это приятно, сам факт номинации почти так же хорош, потому что к тому времени все число кандидатов сужается примерно до пяти имен, и все эти пять человек, должно быть, справились неплохо. Для меня номинация на «Оскар» была большой честью, хотя, как я писал ранее, я знал, что у меня нет шансов на победу. Имейте в виду, такое отношение может иметь неприятные последствия. В 1976 году Дон Киршнер и американская телекомпания CBS учредили премию Rocky Awards, чтобы чествовать людей в индустрии рок-музыки. Оно проводилось в Лос-Анджелесе, и я фактически прилетел оттуда в Лондон накануне церемонии, даже не думая, что смогу участвовать в выборах. Я думал, что награду «Продюсер года» получит Гас Даджен, который продюсирует Элтона Джона, или Джон Леннон, Стиви Уандер или Питер Эшер, брат Джейн, который, вероятно, сейчас является самым успешным продюсером в Америке. К моему удивлению, едва я вернулся в Англию, как мне позвонили и сообщили, что я выиграл и что кто-то другой должен был получить награду от моего имени. Кроме того, для меня все это было довольно забавным, поскольку я вообще не считаю себя рок-продюсером. В том-то и особенность этих наград: вы действительно не знаете, кто победил, пока они не откроют эти конверты. Вам просто придется сидеть и трястись. Я также не думаю, что существует вопрос о том, что в этом году наступит «его очередь» в том, что касается наград. Они, как правило, основаны на неопровержимых фактах продаж и так далее.
Помимо премии «Рокки» и премии «Британия», я получил четыре премии «Грэмми», которые в музыкальном бизнесе являются эквивалентом «Оскара». Их предоставляет Национальная академия звукозаписывающих искусств и наук Америки. В Англии я получил премию Айвора Новелло за особые заслуги перед музыкой, хотя обычно ее вручают писателям за их сочинения. Другой вид сувениров, конечно же, — это золотой, серебряный или платиновый диск. У меня их довольно большая коллекция, и без неуважения или недостатка гордости за них я сейчас раскрываю, для чего они используются. Они «оклеивают» стены самой маленькой комнаты в моем лондонском доме! Одной из главных проблем продюсера пластинки является поиск подходящего материала. Это особенно актуально, когда вы записываете кого-то вроде Мэтта Монро или Ширли Бэсси, которые не пишут свои собственные песни. Задача продюсера — найти подходящих. Если вы профессиональный продюсер и люди в бизнесе знают, что вы записываете Мэтта, Ширли или Силлу Блэк, они пришлют вам песни с учетом этих людей. Даже публика присылает пожертвования. Но этого недостаточно. Вам еще придется искать. Вам все равно придется звонить в офисы издательств. Вы можете подумать, что они должны быть достаточно умны, чтобы отправлять вещи без просьбы. Но не все всегда умны. Иногда, если вы их достаточно подтолкнете, они могут выдать что-то, что они в любом случае не считают подходящим, потому что они склонны присылать вам только очевидные вещи. Если у вас есть хит с Силлой Блэк под названием «You’re My World», то в ближайшие три месяца в вашей рассылке будут песни, точно такие же, как «You’re My World». Никому не придет в голову, что вас с Силлой могут заинтересовать «Ты потеряла чувство любви» или «Детка, на улице холодно». В идеале продюсер должен стараться не придерживаться одного и того же. Он должен дать художнику возможность сделать что-то другое. Он должен держать свой разум открытым. И он также должен держать умы издателей открытыми.
Чтобы стать продюсером, не обязательно иметь степень по физике. Я, конечно, не эксперт по электронике, хотя базовые знания, например, о том, что делает лампа и как работает транзистор, я неизбежно получил. Электронное волшебство — дело инженера, и мне иронично видеть, что те молодые инженеры, которые придумали меня — поколение после Чарли Андерсона и его друзей — теперь кажутся довольно старомодными, несмотря на всю ту огромную помощь, которую они мне оказали. улучшение наших студий и наших методов. Сегодня в этом бизнесе пробивается новый вид инженеров. Не существует установленных правил взаимоотношений между продюсером и инженером. Это полностью вопрос того, что работает лучше всего. Джефф Эмерик и я, например, очень хорошо работаем как команда, потому что мы очень много работаем вместе и уважаем то, что делает друг друга. Мы сохраняем четко определенные зоны ответственности. Наше долгое сотрудничество привело к глубокому взаимопониманию, так что я заранее знаю, что он собирается делать, а он заранее знает, чего я хочу. С другими инженерами, особенно в Америке, мне приходится давать подробные инструкции. Я должен сказать, какое эхо я хочу получить от голоса, какое выравнивание струн мне нравится, близость или расстояние звука, которое мне нужно, звук барабана, который мне нравится, звук баса, который я предпочитаю. Все это должно быть прописано. Есть раса инженеров-производителей; они сочетают в себе обе функции. Теоретически я мог бы это сделать. Но я не думаю, что это очень хорошая идея. Я не смог бы увидеть лес за деревьями. Суть работы продюсера — быть беспристрастным. Он должен уметь видеть всю картину и как можно быстрее выносить оценочное суждение. Но когда вы возитесь с ручками эквалайзера, подстраиваете лимитеры и компрессоры, изменяете количество эха или время реверберации и занимаетесь миллионом других технических действий, вы склонны не слушать музыку. И я довольно целеустремлен в этом отношении. Функция продюсера — слушать звук и музыку как единое целое, и исходя из этого он должен судить о записи. Задача инженера — обеспечить, чтобы с технической точки зрения это была самая лучшая запись, которую можно получить. Если они беспокоятся о зоне ответственности друг друга, значит, они плохо выполняют свою работу. Точно так же иногда может иметь место законное дублирование функций. Несмотря на то понимание, которое мы с Джеффом достигли вместе, он не будет точно знать, каков мой счет. Он не будет точно знать, как я представляю себе связь аккомпанемента с голосом и ритмом. Он этого не узнает, хотя в какой-то момент я написал струнные в очень высоком отрывке, я не хочу, чтобы они были очень громкими. И наоборот, я мог бы написать их где-нибудь в очень низком отрывке, и он не может знать, что я не хочу, чтобы они были слишком мягкими. А поскольку динамика озвучивания современной записи такова, что многими из этих эффектов приходится искусственно манипулировать, в таких случаях я вполне могу обойти его контроль. Он получит основную часть баланса в соответствии со своими обычными стандартами и тем, чего он ожидает от меня, а я потом внесу мелкие штрихи. Это ускоряет весь процесс, и это лучше, чем если бы я сказал ему: «Это была хорошая пробежка, Джефф». Но в следующий раз, когда голос произнесет слово «рассказал», ты натянешь веревочки. . .?' Если я сделаю это сам, это будет гораздо быстрее, проще и точнее. И Джефф совсем не против. Это далеко от тех ранних дней, когда инженеры ненавидели, когда к чему-либо прикасались. «Держи свои чертовы руки подальше от моего контроля!» Это было почти профсоюзное дело.
Я никоим образом не являюсь типичным продюсером. Я мастер своего дела и ни в чем не мастер, и мне повезло, что я нашел направление бизнеса, которое допускает скорее универсальность, чем гениальность. Одна из особенностей, в которой я довольно необычен среди продюсеров, — это степень моей аранжировки и оркестровки. Для реальной работы по производству это не важно. Первому продюсеру звукозаписи ни в коем случае не нужно уметь переводить все буквально в точные музыкальные термины, на точный технический язык. Для этого он может нанять аранжировщика. Но я верю, что он должен обладать практическим знанием музыки в ценностном смысле, чувством формы и формы. Он должен иметь возможность, например, сказать аранжировщику: «Мне нравится ваша аранжировка, но я думаю, что она немного тяжеловесна, слишком тяжеловесна». Если он не музыкант, ему придется так говорить в общих чертах. У него не хватит словарного запаса, чтобы сказать: «Не надо было там контрфагота удваивать». Точно так же есть много продюсеров, не являющихся музыкантами, которые приобрели хотя бы часть этого словарного запаса исключительно благодаря опыту. Зачастую они очень успешны. Они всю свою жизнь проработали в звукозаписывающей индустрии; они пробились вверх, начиная, возможно, с посыльных, дойдя до отдела A и R, все время слушая записи программ и то, что говорят диск-жокеи, чтобы они знали, чего хотят люди, и формировали четкое представление того, что им нравится самим. И с годами они уловили детали мелкого шрифта музыкального языка. Если им посчастливилось научиться своему ремеслу в студии, начав с должности помощника ассистента, они могут получить пользу благодаря простому наблюдению. Они могут наблюдать за игрой альтов и скрипок и слушать их отчетливые звуки, и по этому они будут знать, когда предпочтительнее использовать тот, а не другой. Типичными в этой области являются инженеры, которые сами стали производителями. Сам Джефф Эмерик продюсировал альбом с группой Camp Belltown Pipers, над которым он работал с Полом Маккартни. Глин Джонс — еще один. Еще есть Фил Рамон, очень хороший продюсер, который записал всю музыку к фильму Барбры Стрейзанд «Звезда родилась» и записал множество пластинок с Полом Саймоном и Билли Джоэлом. Опять же, есть продюсеры, которые вообще не рассуждают о музыке. Норман Ньюэлл из EMI, например, добился наибольшего успеха с записями выступлений. Если бы что-то вроде Mame или Seven Brides for Seven Brothers появилось в городе как английская постановка и EMI захотела бы альбом с оригинальным составом английского шоу, Норман сделал бы это. Он стал в этом экспертом. Он не был музыкантом, но был отличным продюсером. Никаких установленных правил не существует. Я даже знал одного очень известного продюсера, который сделал своей единственной обязанностью сидеть в аппаратной, задрав ноги, и наблюдать за группой в студии внизу. Время от времени он нажимал кнопку микрофона, чтобы связаться со студией, и говорил: «Совершенно потрясающе!» Затем он отпускал кнопку и лучи светил себе в лицо. Оставив позади эту тяжелую работу, он доставал кастрюлю, скручивал косяк, закурил и предлагал его всем, когда мальчики выходили из студии. Это был весь его вклад. Достигнув всего этого, он уйдет с хитовой пластинкой! Я воздержусь от упоминания его имени, но, поверьте мне, оно чрезвычайно известно.
Выбор студии звукозаписи – дело каждого артиста и продюсера. У каждого продюсера будет свое любимое дело, над которым он сможет работать с удовольствием. Я, естественно, предпочитаю работать в AIR Studios не только потому, что они принадлежат моей компании, но и потому, что я считаю, что они предлагают лучшие условия и качество, чем можно найти в большинстве других мест. Единственной причиной для выхода на улицу было бы, например, если бы я использовал оркестр из восьмидесяти или девяноста человек. Тогда я бы предпочел использовать студию Number One на Abbey Road из-за ее атмосферы и длительного периода реверберации. Но если бы, скажем, Силла Блэк сказала мне, что по какой-то причине она предпочла бы работать в EMI, то в EMI мы бы работали. Если бы студии соответствовали современным стандартам, я бы никогда не стал ссориться с художником на этой почве. Появление многодорожечной работы, как я уже описал, стало большим благословением для профессионального продюсера. Это дало ему свободу переосмыслить. Как художник маслом, которому не нравится пара линий на картине, он может вернуться к своей работе, стирая ее и заполняя чем-то новым. Но когда ядро профессиональных продюсеров превратилось в огромную армию любителей, многодорожечная работа приобрела гораздо большее значение. По мере того, как записи становились все лучше, сами музыканты стали более активно работать в студиях и лучше разбираться в студийных методах. Они также стали больше говорить о том, какими должны быть звуки. Я думаю, что сегодня только около 20% пластинок делаются профессиональными продюсерами. Подавляющее большинство составляют сами группы. Как продюсеры они любители; у них просто нет опыта. И поскольку многофункциональная дрель предназначена для домашнего мастера, многодорожечная дрель является идеальным инструментом для записи своими руками. Возможно, классическим примером того, чего можно достичь с помощью этого инструмента, является творение Майка Олдфилда Tubular Bells. Когда он сделал эту пластинку, он был полным любителем, хотя сам опыт превратил его в профессионала. Но у него был гений, чтобы знать, какой звук он хочет. Он добился этой записи, работая в студии, записывая основной трек, добавляя к нему, вычитая из него, добавляя что-то еще - добавляя немного синтезатора сюда, немного струн туда. Он писал картину, но постепенно. Если хотите, он рисовал по номерам, медленно добавляя цвета здесь и там, убирая цвет, который не работал после добавления других оттенков. Для него многодорожечная работа была абсолютной необходимостью. У него не было ни опыта, ни дисциплины, чтобы заранее сказать, чего он хочет. В то же время, вероятно, справедливо будет сказать, что, если бы он обладал таким опытом и дисциплиной, маловероятно, что «Трубчатые колокола» стали бы таким творческим произведением. В определенной степени это был случайный способ работы. Но ведь именно так часто работал такой великий человек, как Пикассо. Я помню фильм, в котором Пикассо рисовал на матовом экране. Оператор использовал покадровую съемку, и можно было видеть, как художник начинал с основных линий, затем заполнял их цветом здесь и цветом там, пока изображение не становилось очень полным и очень сложным. Внезапно наступил момент, когда вы поняли, что он уничтожает то, что делал раньше, потому что это дало ему вдохновение для чего-то другого. Вся картина менялась, и конечный результат сильно отличался от его первоначальных мыслей. Рок-музыканты обычно так работают. Степень предварительного обдумывания, степень проработки идей перед записью варьируется в зависимости от группы, но большая часть творчества происходит под влиянием момента. Это также должно относиться и к производителю. Если я делаю что-то свое, и особенно если я работаю с большим оркестром, а это дорого, мне приходится заранее продумывать всю картину. Я должен сделать это правильно в рукописи, даже если в тот же день могут быть небольшие изменения. Но когда продюсер работает с группой, он творит в студии. Он использует свои собственные мысли и мысли группы, сопоставляя их и отбрасывая бесполезные. Таким образом, еще одним элементом хорошего продюсера становится способность выбирать: выбирать между тем, что работает, а что нет, и, что самое важное, выбирать быстро. Это если есть продюсер. Сегодня, особенно в Америке, есть три причины, по которым большинство групп не хотят взаимодействовать с одной из них. Во-первых, потому что важность продюсера сегодня настолько широко признана, что они хотят славы, заявив, что они сами спродюсировали свою пластинку. Во-вторых, поскольку продюсер теперь получает так много денег в виде гонораров, он предпочел бы сохранить этот доход «в семье». В-третьих, они могут чувствовать, что опытный продюсер помешает их гениальности. Они не хотят, чтобы какой-то старый чудак тормозил их, особенно если они ищут что-то, о чем раньше никто не думал. Следствием всего этого является то, что многие группы проводят огромное количество времени в студии, просто играя, «делая свое дело». Например, два человека из группы Deep Purple изобрели инструмент под названием Gizmo. Закрывшись с этой новой игрушкой, они провели в студии не менее восемнадцати месяцев, записывая одну пластинку. Некоторые говорили, что это было немного потаканием своим желаниям, но на самом деле они пытались проникнуть в глубины своего детища и хотели продемонстрировать весь потенциал Гизмо. Именно такого рода упражнения делают необходимым, чтобы студийные технологии были первоклассными - технология, в основе которой лежит многодорожечная работа. Если бы вы записывали Ширли Бэсси с оркестром из сорока музыкантов, у вас было бы записано на пленку три песни за три часа, и это было бы почти финальным миксом, и это не имело бы никакого значения. После записи вам может понадобиться несколько часов, чтобы немного активизировать его, но это все. С группой три трека за три часа было бы совершенно невозможно. Мы прошли долгий путь от первого альбома «Битлз», «Please Please Me», который я начал в десять часов одним февральским утром 1963 года и который был полностью сведен и готов к выпуску к одиннадцати часам того же вечера!
Часто, когда продюсеру приходится работать с группой в течение определенного периода времени, чтобы выпустить альбом, общая атмосфера места, где он работает, так же важна, как и более очевидные потребности в хорошем студийном оборудовании. Иногда это может быть даже более важно, и продюсеру, возможно, придется проявить немного изобретательности, чтобы работать в хорошем месте. В 1970 году меня попросили записать Sea Train, фолк-рок-группу, звучание которой мне очень понравилось. Они написали свои собственные песни, которые спели трое или четверо, с множеством гармоний. Меня попросили записать их в Нью-Йорке в июле, но я сказал: «На самом деле я ни в коем случае не хочу ехать в Нью-Йорк и записываться в июле. Там становится так жарко, и так или иначе мы окажемся в тяжелом городе». Кроме того, моему младшему сыну Джайлзу был всего лишь год, и мне не хотелось надолго оставаться вдали от семьи. Менеджером группы был Беннетт Глотцер, который раньше был партнером Альберта Гроссмана, который руководил группой, и Боба Дилана. Он сказал: «Послушайте, большая часть группы живет в Массачусетсе. Если вы считаете, что это хорошая идея, мы, вероятно, могли бы записаться там. Что вы думаете?' Эта идея меня заинтриговала, и я прилетел из Нью-Йорка, чтобы взглянуть на Марблхед, маленький городок, где они жили. Я обнаружил, что летом можно арендовать дома, и задумал оборудовать в одном из них собственную студию. Вскоре я нашел идеальный дом. Он был огромным, пустым, почти заброшенным и стоял на собственной территории на Марблхед-Нек, который фактически представлял собой остров, соединенный с городом дамбой. Там была очень большая гостиная, примерно двадцать пять на шестнадцать футов, которую мы могли использовать как студию, а рядом с ней была еще одна комната, подходящая для диспетчерской. Чтобы помочь мне, я пригласил Билла Прайса, одного из лучших инженеров AIR того времени, который сейчас руководит Wessex Studios, и он заказал войлочные доски, которые нам понадобятся, чтобы сделать это место акустически правильным. В фирме из Род-Айленда мы наняли очень хороший записывающий пульт. Компания 3М арендовала мне шестнадцатигусеничную машину. Компания Dolby Laboratories щедро предоставила мне устройства Dolby бесплатно в обмен на рекламу этого предприятия; и я привез из Лондона свои собственные громкоговорители, так как привык к их звуку. Затем мы наняли на месте хорошее пианино и потратили около двух недель на его настройку. Это было идиллическое лето, и мы пробыли там с июля по октябрь. Беннетт снял еще один дом рядом со «студией» для меня, Джуди и детей, Люси и Джайлза, и большую часть утра мы проводили на пляже. Затем мы начинали запись в два часа дня с перерывом в семь, когда я ездил на велосипеде домой ужинать и возвращался на работу примерно до двух часов ночи. Но на местном уровне возникло несколько проблем. Марблхед — очаровательный город в Новой Англии, известный своими яхтами и лодками, но среди его жителей был крайне правый белый англосаксонский протестант WASP. Мы обнаружили это довольно рано, когда владелец дома, в котором мы жили, рассказал нам, что, когда он впервые переехал в этот район, его попросили подписать документ, в котором говорилось, что он не продаст свой дом еврею, католику или цветной человек. Он отказался. Но когда мы спустились в это фанатичное захолустье, рок-группу, бас- гитаристами и скрипачами которой были евреи, а у клавишника была чернокожая подруга, можно понять, как возникла определенная оппозиция. Это впервые проявилось, когда однажды Джуди, я и дети сидели на пляже, совершенно общественном пляже, и подошла женщина и сказала нам уйти с него. «Мы вообще не хотим, чтобы такие люди здесь были», — прогремела она. Ирония заключалась в том, что она была женой человека, которого Норман Ньюэлл знал очень хорошо. Норман написал ему, чтобы сообщить, что мы приедем, и он с нетерпением этого ждал. Его жена, не зная, кто мы такие, конечно, все испортила, немедленно создав атмосферу раздора, если не сказать сильной ненависти! Да, мы, я полагаю, действовали незаконно и не должны были делать запись в частном доме, но мы никому не мешали. Сам факт нашего присутствия там действительно оскорбил население. Дома все были отдельно стоящие и стояли на своих участках, но заборов между участками не было, а хорошо подстриженные газоны переходили друг в друга. Наш сосед был окулистом, и перед тем, как мы переехали, наш домовладелец сказал нам: «Мужчина по соседству все о вас слышал, мистер Мартин. Он очень хочет с вами встретиться. Он безмерно восхищается вашей работой, и я уверен, что очень скоро он навестит вас». «Большое спасибо», — сказал я. «На самом деле я этого не добиваюсь, но приятно знать, что люди ценят то, что ты делаешь». Ну, мы переехали, и прошла неделя, две недели, месяц. Мы видели их на лужайках, но они нас совершенно игнорировали. Мы не волновались. Если они так себя чувствовали, тогда ладно. Но однажды в воскресенье Люси, не по годам развитая четырехлетняя девочка, бродила по лужайке, чтобы поговорить с мужчиной, который чистил свою машину, и мы услышали, как ее голосок разносился по зеленой полосе. — Какая у тебя машина? — спросила Люси. «Это Линкольн Континенталь». 'Ой.' Последовала пауза, а затем – я полагаю, стыдясь разговора – он спросил ее: «Какая машина у твоего папы?» «О, у нас есть Роллс-Ройс». В то время это было совершенно верно, хотя это было довольно старое Серебряное Облако. Не то чтобы они это знали! Люси настаивала. — У вас есть лодка? «Нет, но я полагаю, что да», — сказал мужчина, очевидно чувствуя, что его чувство превосходства ускользает. — О да, — сказала Люси. «Каждое лето папа всегда ездит на лодке в Грецию». Это также оказалось совершенно правдой. У нас была девятифутовая надувная лодка, которую мы брали с собой в пакетные туры в Грецию. Не то чтобы они это знали! Через час в дверь постучали, и нас пригласили на коктейли. Но мы никогда не разочаровывали их по поводу возраста «Роллсов» или характера лодки! Поскольку вся операция была довольно дорогостоящей, я договорился с Беннеттом Глотцером записать второй альбом, пока мы там были, поэтому после Sea Train я приступил к работе с Winter Consort. Это была полуклассическая группа и очень необычное сочетание. Его возглавил Пол Винтер, который играл на своего рода классическом саксофоне, а также был писателем народных песен. Еще был Пол МакКэндлесс, игравший на гобое, английском рожке и других духовых инструментах. Ральф Таунер играл на классической гитаре, фортепиано и органе. Виолончель находилась в руках Дэвида Дарлинга, чей брат был ученым-космонавтом на мысе Кеннеди. Был басист Fender. И в завершение состава был человек, игравший на так называемых «ловушках» — то есть на барабанах — что было их единственной уступкой рок-н-роллу. У него была самая невероятная коллекция странных инструментов: бонго, барабаны конга, африканские урду, маримбы и огромный ксилофон двенадцати футов длиной, называемый амаринда, для игры на котором требовалось три человека, сидящих со скрещенными ногами. Альбом назывался Icarus, и я думаю, это была лучшая пластинка, которую я когда-либо делал. Продавалось оно не очень хорошо, но многие на него обратили внимание. И у него было одно особенное отличие. Заглавная песня «Icarus» также вышла как сингл, а брат Дэвида Дарлинга подарил копию одной из команд «Аполлона». Так это была первая пластинка, доставленная на Луну, хотя я не думаю, что у них были возможности ее проиграть! Одно из величайших достоинств хорошего продюсера — терпение. Но беспристрастность почти столь же важна. Возможно, это одна из причин, почему я никогда не старался писать мелодии или песни с конкретной целью сделать их хитами, хотя думаю, что мог бы это сделать. Есть способы создать хит. Это своего рода словарь хороших моментов, которые можно вставить в песню; вы берете их и жонглируете ими, и у вас получается хит. Но точно так же, как работа в кино становится тем, что я называю золотой беговой дорожкой, так и создание хитов имеет тенденцию превращать человека в машину. Опять же, это означает отказ от всего остального. Самое главное, я уверен, что если бы я начал стремиться к хитам, я бы не стал таким хорошим продюсером, потому что тогда я стал бы предвзятым. Более того, хотя мне время от времени нравится создавать свои собственные пластинки, мне было бы неловко, если бы они превратили меня в звезду звукозаписи, потому что это привело бы к двойственности в моих отношениях с артистами, которых я продюсирую. Очень сложно работать с кем-то еще. Вы должны быть в гармонии с этим человеком и преодолеть любые проблемы эго. Если одна сторона всегда берет, а другая всегда отдает, талант подавляется. Если очень талантливый артист запугивает очень талантливого продюсера до такого состояния, что он не может выразить себя, талант продюсера пропадает зря; он неэффективен. То же самое верно и наоборот. Успешная пластинка должна стать настоящим выражением таланта каждого. Это было правдой, когда я записывал Эллу Фицджеральд, и это правда, когда я работаю с Джимми Уэббом. Это было правдой, когда я сделал успешные записи с Джеффом Беком; это правда, когда я собираюсь вместе со своими друзьями Клео Лэйн, Джоном Данкуортом и чудесным классическим гитаристом Джоном Уильямсом. И никогда это не было более правдиво, чем за все те годы, когда я работал с «Битлз». Четких границ не было. Это был скорее вопрос создания хорошей команды, чем изоляции отдельных личностей как продюсера, аранжировщика или автора песен. Когда я договаривался, я тесно сотрудничал с Джоном, Полом или кем бы то ни было, и они договорились со мной. Возвращаясь к примеру – использованию трубы-пикколо в «Penny Lane»: это правда, что я аранжировал ее, но в равной степени верно и то, что Пол придумывал ноты. Если бы я был предоставлен самому себе, я, честно говоря, не думаю, что написал бы такие хорошие ноты для игры Дэвида Мэйсона. Должен подчеркнуть, что это была командная работа. Без моих аранжировок и озвучивания многие пластинки не звучали бы так, как сейчас. Были ли бы они лучше, я не могу сказать. Возможно, они были. С моей стороны это не скромность; это попытка дать фактическую картину взаимоотношений. Но я также не сомневаюсь, что главный талант всей той эпохи исходил от Павла и Иоанна. Джордж, Ринго и я были второстепенными талантами. В художественном отношении мы не были пятью равными людьми: двое были очень сильными, а трое других тоже были ранцами. В той или иной степени эти трое могли быть другими людьми. Факт в том, что мы не были. Хотя об успешной футбольной команде можно сказать, что она могла бы добиться того же результата с другим вратарем или другим центральным нападающим, факт остается фактом: этот вратарь и центральный нападающий входят в команду, и как ее часть их нельзя сбрасывать со счетов. . И я выиграл одну битву в индустрии – не только для себя, но и для всех, кто гордится своей способностью выпускать хорошие пластинки. После наших первых успехов на этикетках и конвертах появилась надпись «Произведено Джорджем Мартином».
Опираясь на AIR В первые годы существования AIR у нас не было собственных студий. Нам пришлось арендовать любую доступную студию, подходящую для конкретной записи. Чем больше работы мы получали, тем больше денег тратилось на чужие студии. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что если бы у нас были свои студии, тенденция была бы обратной – эти деньги не только не пришлось бы выплачивать, но некоторые даже могли бы начать поступать. постоянно растущий доход от роялти, который, вероятно, был лишь подпиткой для налоговиков. Поэтому для нас имело смысл затянуть пояса, не платить себе очень высокие зарплаты и вполне законно вложить деньги в собственную компанию для финансирования строительства собственных студий. Кто-то, кто много знал об этой стороне бизнеса, отговаривал меня от этого. — Ты обожжешь пальцы. Вы потеряете свои деньги», — сказал он. Но, будучи упрямыми, мы пошли дальше. Самой сложной работой было найти подходящую площадку. Лондон — очень дорогое место, и ни одна из крупных студий на самом деле не находилась в центре, а те объекты, которые существовали, располагались в убогих маленьких местах. Это стал прямой выбор между «вне» и «внутри». Если бы мы поехали на окраину Лондона, мы могли бы строить гораздо дешевле и иметь большую автостоянку. Я обнаружил, что разделительная линия представляла собой круг, радиус которого от центра простирался примерно до Финчли. Кроме того, это было дешево. Оказавшись внутри этой линии, ужесточение ограничений на парковку и постоянно высокие цены означали, что мы не сможем многого добиться, если не пойдем прямо в центр. На выбор во многом повлиял тот факт, что мне нужна была многофункциональная студия, которую можно было бы использовать как для озвучивания фильмов, так и для записи пластинок. Чтобы получить эту прибыль, нам придется привлечь американскую торговлю. Я хотел, чтобы лучшие американские продюсеры кино и звукозаписи использовали эти студии. Это указывало на то, что он где-то недалеко от «Клариджа» и «Коннаута». Поэтому мы начали искать площадки прямо в центре Лондона. Все страдали от того или иного недостатка. Наконец я услышал о крыше здания Питера Робинсона на Оксфорд-серкус. Вы, конечно, не могли бы стать более центральными, чем это. «Питер Робинсон» — один из больших старых лондонских многофункциональных универмагов. Как и у многих из них, наверху располагался огромный ресторан — по сути, банкетный зал, — в котором дворяне имели обыкновение пить китайский чай, сэндвичи с огурцами и пирожные после покупок. Дворянство было сведено на нет или поглощено миром футболок и гамбургеров, оно вышло из употребления, и в течение двух лет магазин, который до сих пор занимает здание, пытался сдать помещения под офисы. Отсутствие успеха в этом предприятии неудивительно, поскольку преобразование стоило бы целое состояние. Зайти в это место означало вернуться на полвека назад, в эпоху высокого Эдварда. У него был огромный сводчатый потолок с неоклассическими фресками, мраморными колоннами и кухнями в каждом конце. Оно было огромным и очень высоким. «Там определенно есть место», — сказали мы. «У него определенно есть высота. И арендная плата очень разумная. Так почему бы нам не разобраться в трудностях строительства в нем студии?» Эти трудности были вполне реальными, не в последнюю очередь тот факт, что мы смотрели прямо вниз на один из самых оживленных транспортных узлов в мире. Кроме того, мы находились в здании со стальным каркасом прямо над тремя линиями метро (сейчас их стало четыре, с появлением новой линии Виктория). Очевидно, будут проблемы с акустикой! Хотя мы всю свою трудовую жизнь работали в студиях, построить ее было совсем другое дело, и мы никогда этого не делали. То же самое сделали и наши архитекторы Билл Росселл Орм и его помощник Джек Парсонс, хотя они спроектировали несколько кинотеатров. Важным было то, что Билл привык заключать крупные контракты с окружными советами и так далее. Это означало, что он привык собирать множество разных талантов для проекта, что в случае со студией звукозаписи явно было необходимо. Для работы с ним с нашей стороны я нанял Кита Слотера в качестве менеджера студии, а позже Дэйва Харриса, который работал с Китом в EMI. Их работа заключалась в поддержании связи по таким вопросам, как электропроводка — нужно было проложить около двадцати миль провода — а также заказ и размещение оборудования. В конце концов, мы не хотели устареть еще до того, как начнем. В качестве нашего эксперта по акустике мы наняли Кеннета Ширера, настоящего знатока звука, который может рассказать вам об акустике больше, чем кто-либо другой в этой стране. Это человек, который спроектировал все эти «летающие тарелки» в Альберт-холле. Ответ на грохот, пронесшийся по зданию из подземки, был решительным и драматичным. Все помещения – студии и аппаратные – будут сделаны полностью независимыми от главного здания. По сути, внутри банкетного зала нужно было построить огромную коробку и установить ее на акустические крепления. Еще была проблема с кондиционированием воздуха; очевидно, в студии нельзя открывать окна! Вы должны иметь возможность подавать воздух в соответствующие его части, и эта подача должна не только иметь правильную температуру и влажность, но также должна быть абсолютно бесшумной. Чтобы сохранить его свежим, особенно с учетом количества кислорода, потребляемого громкими рок-группами, приходится обменивать большой объем воздуха. А большое движение воздуха по маленьким каналам создает сильный шум; вам нужно только послушать вытяжку на кухне, чтобы понять это. Система, которую мы установили, представляла собой систему воздухообмена большого объема с низкой скоростью, установленную в звуконепроницаемых перегородках, так что ни один звук не мог проникнуть снаружи и, что не менее важно, мы не могли выпустить какой-либо звук. Это может показаться очень элементарным, но удивительно, как много студий звукозаписи не имеют надлежащего кондиционирования воздуха. Например, у EMI, несмотря на всю свою изощренность и историю блестящих записей, были постоянные проблемы с выходом звука. Иногда это доводило руководителя студии до отчаяния. Мы часто записывались по ночам, особенно с «Битлз»; приходила полиция, и нам раздавались запреты во всех направлениях. На какое-то время власти запретили нам записываться после полуночи, а однажды пригрозили закрыть студии, если мы не подчинимся. Любопытной стороной всего этого был особый эффект этого вырывающегося звука. Он выходил из эхо-камеры, поднимался прямо в воздух, а затем, в результате какого-то причудливого сочетания акустических, погодных и, возможно, архитектурных условий, снова приземлялся примерно в миле от Швейцарского Коттеджа. Учитывая эти и другие проблемы, планирование и проектирование наших студий заняло год. Наконец мы получили смету на работу в 66 000 фунтов стерлингов и решили приступить к делу. К сожалению, на этом все не закончилось. Несколько недель спустя Билл Орм позвонил мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты пришел на встречу. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Когда я вошел, все эксперты сидели за столом — четырнадцать человек: геодезисты, субподрядчики, архитекторы, специалисты по кондиционированию воздуха и остальные. «Сначала тебе лучше сесть, — сказал Билл, — потому что я не хочу, чтобы ты испытал шок стоя. Как вы знаете, первоначальная оценка составляла 66 000 фунтов стерлингов. Дело в том, что теперь, похоже, мы не сможем заработать меньше 110 000 фунтов стерлингов». Подняв с пола свое обмякшее тело, я упрекнул: «Как ты можешь так поступить со мной?» У меня нет 110 000 фунтов!» «Ну, мы всегда можем отменить это», — сказал он, глубоко извиняясь. «Но вещи стоят дороже. Например, пока мы не вошли в здание и не вытащили эту балку, мы не знали, что ее нужно подкрепить». У меня было такое ощущение, будто я нахожусь на съемках фильма «Мистер Бландингс строит дом своей мечты»; мы пытались построить AIR с минимальными затратами, и казалось, что веревка просто порвалась. Вся эта история потрясла меня до глубины души, до такой степени, что, когда я сразу же провел встречу со своими партнерами, я даже сказал: «Все те критики, которые говорили, что нам никогда не следует этого делать, вероятно, были правы. Это стоит гораздо больше, чем мы когда-либо мечтали. Что вы думаете?' Но это был лишь момент сомнения. Дело в том, что мы уже зашли слишком глубоко, чтобы отступать, и нам просто нужно было идти вперед. Даже после этого расходы продолжали расти, и в конце концов мы сошлись на сумме около 136 000 фунтов стерлингов. Кроме того, был счет на 200 000 фунтов стерлингов за оборудование. Это было огромное усилие; нам пришлось разорить нашу компанию до костей, и какое-то время мы находились в том, что на жаргоне называется «серьезной ситуацией с денежными потоками». Это едва не привело нас к банкротству, и, если бы студия не добилась успеха, это наверняка произошло бы, потому что поначалу деньги уходили гораздо быстрее, чем приходили. Но в конце концов мы справились, и мы выжили. Мы даже устроили вечеринку в лучших традициях шоу-бизнеса по случаю открытия в октябре 1970 года, на которую пригласили всех наших друзей и врагов из EMI, людей из других звукозаписывающих компаний и – с некоторым великодушием, как мне показалось, – архитекторов, с которыми мы у них были серьезные разногласия из-за резкого роста затрат. Самым печальным было то, что вскоре после завершения строительства студии у ассистента Билла Орма Джека Парсонса случился парализующий инсульт. С момента начала проекта он мало чем занимался, кроме работы над дизайном, и я всегда чувствовал, что без его преданности делу у нас никогда не было бы тех прекрасных студий, которыми мы наслаждаемся сегодня. Открытие состоялось 7 октября. А 9 октября я сделал первую запись в AIR Studios; художница - Силла Блэк, крестная нашей дочери Люси. Вскоре после этого акустика студии, пол которой «парил» на два фута над первоначальным полом, а стены и потолки подвешивались на акустических креплениях, подверглась серьезному испытанию. К нам обратилась компания Argo Records, специализирующаяся на устной речи. Кажется, они записывали «Юлия Цезаря» с Лоуренсом Оливье в студии Decca в Вест-Хэмпстеде, и в середине ключевого отрывка послышался звук пролетающего над головой реактивного самолета. Хорошо известно и общепризнанно, что у Шекспира есть определенные анахронизмы, например, выстрелы из пушек, когда пушки еще даже не были изобретены; но было ощущение, что Боинг 707 зашел слишком далеко! Поэтому они хотели посмотреть, смогут ли они добиться большего с нами. Их главный инженер пришел в нашу первую студию и установил в центре очень чувствительный микрофон. Потом закрыли все двери, прошли в аппаратную и выкрутили на всех усилителях громкость до максимума, так что если бы кто-нибудь прошептал в одном углу студии, это прозвучало бы как львиный рык. Затем они просто прислушивались к окружающим звукам, чтобы услышать, нет ли каких-либо утечек из кондиционера или каких-либо других посторонних шумов. Они ничего не слышали и, надо сказать, были изумлены. Но их это не удовлетворило. Затем они прокручивали запись с микрофона в течение двух часов со скоростью 7,2 дюйма в секунду. Затем они воспроизвели его со скоростью 30 дюймов в секунду, что привело бы к учетверению частоты любого грохота или других шумов, которые в противном случае могли бы остаться неслышимыми. Однако они практически ничего не слышали. Поэтому они остались довольны, и мы приобрели первых из многих клиентов на запись устной речи. Был только один конфуз. Их первая сессия с нами заключалась в записи бесмоторной версии Юлия Цезаря. Когда Оливье произносил речь со ступенек Римского форума, он пошевелился, и мы, к своему ужасу, обнаружили, что у нас скрипучая половица! Каменные ступени просто не скрипят, и вскоре мы это починили. Сегодня AIR имеет множество функций. У нас есть собственный лейбл. У нас есть свои артисты, которых мы записываем. Мы записываем артистов для других лейблов. Мы сдаем наши студии в аренду другим продюсерам, которые могут либо использовать наших собственных инженеров звукозаписи, либо пригласить своих, как это принято в Америке; и мы нанимаем продюсеров и инженеров другим. Но чаще всего, поскольку у нас теперь всемирная репутация, люди приходят к нам не только ради самих студий, но и для того, чтобы воспользоваться услугами наших сотрудников, зная, что за ними стоит обучение и высокие стандарты AIR. Это может звучать как коммерческое предложение, но это действительно так, поскольку у нас есть очень активное агентство, которое фактически экспортирует таланты творческих людей AIR - таких людей, как Джефф Эмерик, Питер Хендерсон, Майк Ставру, Стив Най, Джон Келли и я. Когда AIR Studios в Лондоне стала реальностью и завоевала репутацию лучшего звукозаписывающего комплекса в Европе, мои мысли обратились к другим идеям. Концепция студии «тотальной среды» всегда привлекала меня. Я работал в студии Джимми Гуэрсио Caribou в Американских Скалистых горах, примерно в шестидесяти милях от Денвера, и мне нравилась творческая свобода, которую она давала. Вы были там, чтобы записать альбом, и студия была вашей столько, сколько вы этого хотели, в любое время дня и ночи. Там было очень уютно, с отдельными невзрачными бревенчатыми домиками и хорошей студией с консолью Neve. Единственное, что было не так, это время года, когда я был там. В феврале в Колорадо может быть довольно холодно, и из-за мрачного чувства юмора его легко можно назвать дорогим трудовым лагерем! Наше прозвище — Шталаг Люфт III. Однако это была отличная идея, которая сработала. В Англии Ричард Брэнсон имел некоторый успех со своей студией The Manor, расположенной в старом особняке в Оксфордшире. Конечно, можно многое сказать о работе в благоприятной обстановке, когда давление велико. У меня хватило смелости подумать о строительстве студии на корабле. Он мог бы пойти куда угодно – предпочтительно в Средиземноморье или на Карибы – и это, безусловно, дало бы группам ощущение бегства от всего этого. Полагаю, я потратил два года на разработку идеи и решение проблем. Ответственным за проект был назначен Кит Слотер, который руководил нашей лондонской студией, а я начал охоту на лодке. После долгих поисков, например, в Исландии и Югославии, выбор сузился до двух судов. Меньшей (и более дорогой) была SS Albro — яхта, переоборудованная из скандинавского грузового судна, которую я нашел на Мальте. Его длина составляла около 120 футов, большая часть надстройки располагалась сзади и приводилась в движение медленным одновальным двигателем с флюгирующим винтом. Он был прекрасно переоборудован, и жилые помещения были просторными и роскошными. Но студию пришлось бы оставить в трюме, а он был недостаточно велик для моего идеала. Альтернативный корабль я нашел в Югославии. Этот самолет длиной около 160 футов имел два двигателя и, казалось, давал нам достаточно места. Это был пассажирский паром «Осеевик», курсировавший по побережью Далмации. После строительства новой прибрежной дороги торговля пришла в упадок, и югославское правительство решило выставить ее на продажу. Конечно, корабельная мастерская представляет огромные проблемы. Эксплуатационные расходы, очевидно, будут высокими, электроснабжение должно быть стабильным, а акустические проблемы, связанные с большой стальной коробкой, по сравнению с этим превращают здание AIR London в настоящий пикник. Тем не менее, наш опыт сослужил нам хорошую службу, и мы верили, что у нас есть ответы на все вопросы. Сейчас в это трудно поверить, но проект можно было завершить в 1974 году, затратив около 750 000 долларов. Сегодня это стоило бы как минимум вдвое дороже. Но с большим сожалением от этой идеи отказались. Настоящим убийцей стал экономический кризис, поразивший Великобританию (трехдневная неделя) и мировой нефтяной кризис, которые сделали рискованные предприятия совершенно безрассудными. Так это стало несбывшейся мечтой, и я обратился мыслями к лэнд-студии. Из всех мест, где я был, мне понравилась атмосфера работы на Гавайях. Но это было слишком далеко от Лондона, и, хотя мы базировались в Англии, строить на американской земле не имело особого смысла. Канада была заманчивой; Мексика тем более. Я довольно хорошо знал Карибский регион, но никогда серьезно не рассматривал его из-за его политической нестабильности. Казалось, что на Багамских и Виргинских островах всегда были подводные течения, а прекрасная Ямайка, к сожалению, является несчастным местом. Потом я открыл для себя Монтсеррат. Это по-прежнему британская колония (одна из немногих сохранившихся), и я был рад обнаружить сочный зеленый тропический остров с населением, которое, казалось, было счастливо жить вместе, черное и белое. Меня поразила естественная дружелюбность этого места, что, я уверен, во многом связано с отсутствием прогресса в «цивилизованном» развитии. Я рад сообщить, что на Монтсеррате нет казино, высотных отелей или бетонных площадок для загорания рядом с огромными хлорированными бассейнами. Но в этом есть свое новое очарование. Решающим моментом стал поиск идеального места для нашей цели. Короче говоря, теперь у нас есть суперновая студия на ферме площадью тридцать акров с видом на Карибское море, на высоте пятисот футов. Клиенты живут на виллах неподалеку, и это стало моим идеальным местом работы. Моя единственная жалоба заключается в том, что я не могу войти из-за того, что другие люди хотят это забронировать! В студии есть как 24-, так и 32-дорожечные машины, но лично я не в восторге от тридцатидвухдорожечных машин. Спасибо, я прекрасно справляюсь с двадцатью четырьмя; и, если действительно нужно больше, я предпочитаю использовать наше запирающее устройство, чтобы связать вместе две двадцатичетырехгусеничные машины, получив при этом до сорока шести гусениц. Стоимость – важный фактор, который следует учитывать. Наша первая консоль в AIR London, построенная Рупертом Нивом, который делает RollsRoyce для записывающих пультов, была шестнадцатидорожечной и стоила 35 000 долларов. В то время мы думали, что это большие деньги. Консоль Montserrat, напротив, стоила 210 000 долларов. Даже несмотря на то, что он сделан вручную и разработан по нашим собственным спецификациям, это все равно большие деньги! Он имеет пятьдесят два входа и двадцать четыре или тридцать два выхода и двадцать четыре отдельных монитора. Это настолько продвинутая консоль, насколько это возможно сегодня, не отходя от так называемой аналоговой системы. И есть вероятность, что через пару лет ему придется справиться с «цифровой записью». Но это часть будущего. .. .
Завтра никто не знает. История звукозаписи остается верной своему образу, мы собираемся вступить в новую эру, еще одну четверть века новых техник. За последние двадцать пять лет был достигнут такой большой прогресс, что можно задаться вопросом, как далеко нас заведут эти технологии. Бурное развитие компьютеров и автоматизации в промышленности в целом окажет влияние на наш звукозаписывающий бизнес, и кремниевые чипы не будут игнорироваться в будущих студиях звукозаписи. Цифровая запись уже здесь и работает. Оно по-прежнему грубое и дорогое, но оно говорит нам, по какому пути мы идем. При нынешних системах создание пластинки похоже на создание фильма. Лента — это носитель (подобно пленке), на который поступает звуковой отпечаток, который записывается и воспроизводится. Поскольку звук является отпечатком, он страдает теми же дефектами, что и фотография: искажениями, нечеткостью, фоновым шумом, шипением ленты и так далее. Это никогда не может быть идеальным воспроизведением оригинала. Цифровая запись – это совсем другое дело; это буквальное дублирование оригинала. Компьютерные технологии подарили нам эту новую систему. Как это работает? Большинству людей известно, что компьютеры очень быстро вычисляют очень простые суммы. Они хранят информацию, которая либо да, либо нет. Ваш маленький карманный калькулятор способен решать невероятно сложные задачи, на решение которых человеческому мозгу потребуются годы, но на самом деле он работает очень просто (хотя и очень быстро). Если вы хотите умножить 17 на 32, это фактически сложит 32 17 — со скоростью света. Цифровая запись по существу разбивает звук на числа, сохраняет информацию в банке памяти и повторно собирает ее при воспроизведении. Если бы вы в какой-то момент взяли магнитную ленту, вы не получили бы от нее ничего очень полезного. Но если вы возьмете разрез компьютерной записи, например, разрежьте дерево поперек ствола и исследуете его кольца, вы сможете посмотреть на него и узнать, что именно происходит. В сегменте звука длительностью, скажем, 1/50 000 секунды каждая частота спектра имеет определенный уровень громкости; 30 циклов могут иметь 58 децибел, 150 циклов могут иметь 62 децибела, 2500 циклов могут иметь 79 децибел и так далее. И если бы каждая частота была просканирована, точно измерен ее объем и сохранена информация, было бы несложно воссоздать эти частоты по той же схеме. Теперь представьте себе этот конкретный сегмент как один кадр кинофильма. Если бы тот же процесс повторялся очень быстро (в данном случае 50 000 раз в секунду) и воспроизводился бы результат, вы бы не знали, что это не непрерывный звук: точно так же, как человеческий глаз обманут, заставляя видеть одно непрерывное изображение, двадцать четыре новых изображения, каждую секунду на экране мелькает кинофильм. По сути, исходный звук будет восстановлен. Цифровая запись — это не запись в обычном понимании — это анализ и реструктуризация; изготовление шаблона и построение идентичного изображения. Следовательно, поскольку записывающая лента не используется обычным способом, мы не страдаем от ее недостатков. Не будет ни шипения, ни искажений, ни перекрестных помех между треками. (Лента, конечно, используется, но только так, как ее использует компьютер — просто для хранения информации в двоичном коде.) Тем не менее, мы по-прежнему сможем делать все то, что делаем сейчас, — и даже больше. Мы сможем распределить звук от одного конкретного микрофона к определенному разделу компьютера и сказать ему: «Я хочу, чтобы этот звук хранился отдельно». Добавлять звуки можно до бесконечности. На данный момент эта новая система связана с существующим сегодня аналоговым записывающим пультом. Только магнитофон цифровой. Но его реальная ценность появится, когда столы будут специально разработаны для цифровой записи. Автоматизация уже давно с нами. Мы установили в нашей студии AIR в Лондоне самый первый пульт Neve с автоматическим микшированием. В отличие от других действующих систем, NECAM (так ее окрестил Нив) не только запоминает все движения фейдеров, но и физически перемещает их, когда его просят воспроизвести микс.
Смотреть его на работе — все равно что увидеть человека-невидимку в студии. Это работает чудесно. Я верю, что мы увидим новый дизайн стола, в котором будет все, что нужно студии. Не будет необходимости в отдельном магнитофоне — на столе будет установлен терминал, подключенный к компьютеру, который будет не только хранить записываемую информацию, но и выполнять множество других функций. Он будет редактировать; он будет смешивать один набор звуков с другим. Он будет копировать другие звуки. Предположим, вы хотите воспроизвести тип эха, использованный в старой записи Элвиса Пресли. Вы проигрываете запись на своем терминале и даете ему указание: «Запомнить эхо голоса и передать его мне на записи, которую я сейчас делаю». Он должен иметь возможность делать это, вызывая правильную последовательность дополнительных частот, без необходимости использования собственной эхо-камеры. Еще одним большим преимуществом является скорость работы, как это поймут пользователи карманных калькуляторов. Даже при использовании современных технологий на перемещение магнитной ленты туда и обратно уходит много времени. Благодаря цифровой записи вы сможете практически мгновенно отправиться туда, куда захотите. Что еще ждет нас в будущем? Что ж, очевидно, что видеозаписи будут столь же распространены, как и сегодня звукозаписи; продюсеру звукозаписи придется стать как визуальным, так и звуковым создателем изображений. Диск, на котором играет игла, скоро станет архаичным; диски по-прежнему будут производиться, но они будут сканироваться лазерным лучом, что устранит поверхностный шум, хлопки и потрескивания, которые возникают в современных дисках. И, конечно же, высококачественный звук сопровождается превосходной цветной картинкой. Такие системы уже существуют, даже если они еще не вышли на широкий рынок. Есть даже обычный проигрыватель пластинок, которым можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления — можно приказать ему пропускать определенные треки на лонгплейере, если вы не хотите их слушать. Вы можете сесть в кресло и сказать ему: «Включи треки один, третий и девятый, а затем вернись и воспроизведи трек четвертый» — и я не думаю, что даже Герберт Уэллс подумал об этом! Видеорегистраторы становятся обычными бытовыми приборами. Скоро будет много заранее записанных видеокассеты с популярными фильмами и пьесами, и в конечном итоге цены упадут, что сделает видеоальбом действительно экономически выгодным предложением. Но, конечно, с помощью лазерных технологий и связанного с ними изобретения голографии станет возможным осуществлять видеозаписи в 3D. Трехмерное проецируемое изображение, подобное тому, которое R2D2 дал нам в «Звездных войнах», находится в пределах возможного для нашей предстоящей четверти века. На данный момент голография возможна только в монохромном режиме, но не за горами время, когда будет разработана полноцветная передача. Это лишь некоторые из изменений, которые я предвижу. В остальном, это только догадки. Осмелюсь сказать, что если бы в мой первый день в студии EMI, в 1950 году, мне сказали, что я буду использовать двадцать четыре или более треков на автоматизированном компьютерном микшерном пульте для создания высококачественной стереофонической записи, я бы поднял хотя бы одну бровь. Конечно, за последнюю четверть века во всех областях технологий произошел быстрый прогресс, но мало кто знал о трансформации, которую претерпела звукозаписывающая индустрия. И скорость перемен, похоже, не снизилась. Так получилось, что все мои дети, Алексис, Грегори, Люси и Джайлз, любят не только слушать, но и создавать музыку. И если бы мой хрустальный шар мог сказать им, что будет доступно им через двадцать пять лет, я осмелюсь сказать, что их брови тоже поднялись бы. Это все для них!
Свидетельство о публикации №124072104877