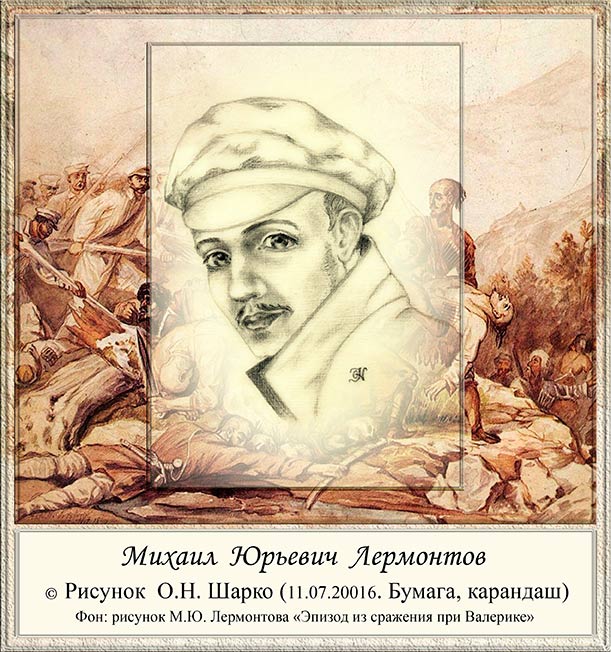Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть29
«…И сердце любит и страдает, почти стыдясь любви своей»: …Варенька Лопухина
================================
Часть 29
…Потом, когда ему было уже 24–25–26-ть… с щемящей болью непоправимой утраты не раз он вспоминал счастливое, весёлое, беззаботное время, когда, учась в Московском университете, он подружился с Алексеем Лопухиным, а потом и со всей его семьёй… Московское семейство Лопухиных являлось дворянской ветвью старинного русского рода. Ко времени знакомства с М. Ю. Лермонтовым в 1827 году семья состояла из отца – Александра Николаевича (1779–1833) и детей: Марии, Алексея, Елизаветы и Варвары. С Алексеем Лопухиным Лермонтов особенно сдружился во время учёбы на словесном отделении Московского университета…
Про московское «житьё-бытьё» троюродный брат Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей, любимый племянник бабушки Елизаветы Алексеевны, настоящий и преданный друг своего «милого Мишеля», вспоминал:
«В соседстве с нами жило семейство Лопухиных, старик отец, три дочери-девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. … Будучи студентом, он был страстно влюблён… в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В.А. Лопухину, это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню её ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет пятнадцать–шестнадцать; мы же были дети и сильно дразнили её; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчётно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своём оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумной жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину».
[ Р е м а р к а. Хочу, дорогой мой Читатель, с Вами поделиться некоторыми соображениями по поводу одной фразы Акима Павловича. Что я имею в виду. Обратите внимание вот на этот кусочек вышеприведённого текста: «...в молоденькую, милую, умную, как день…». Скорее всего, должно быть так: «…в молоденькую, милую, умную и с в е т л у ю, как день…». То ли мысли Акима Павловича бежали впереди пишущей руки, и он мог сам «потерять» словечко; то ли эта досадная ошибка произошла при публикации его воспоминаний, а при дальнейших перепечатках она, естественно, автоматически повторялась другими издателями. Согласитесь, день может быть солнечным и пасмурным, ясным и дождливым, тёплым и холодным, длинным и коротким, даже шумным и тихим… – может быть и ещё каким-то, только н е «у м н ы м». «Ум» и «глупость» – это не про явления природы… Тем более, что Шан-Гирей, если Вы обратили внимание, чуть ранее уже употреблял в отношении Варвары Александровны словосочетание «светлая улыбка»… ]
Любовь к Вареньке Лопухиной оказалась не мимолётным, – быстро сгорающим, – увлечением, как это поначалу, возможно, и могло казаться Мишелю... Это было настоящее серьёзное, растущее во времени и глубоко врастающее в него с годами… – взаимное, но мучительное чувство: любовь, обречённая на разлуку, без надежды на общую будущность… Об этом свидетельствует постоянное творческое самовыражение гения Лермонтова: и как поэта, и как писателя-романиста, и как художника… Всю свою жизнь Михаил Юрьевич постоянно носил эту любовь в своём сердце… Она помогала ему: он знал, что его любят и …мучился от того, что причиняет страдания другой душе, готовой для него на любые жертвы... Помните (?) стихи 26-летнего Михаила Юрьевича – Варваре Александровне: «…много / и долго, долго вас любил…»:
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжёлых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, – но вас
Забыть мне было невозможно.
1840 г. (из стихотворения «Валерик»)
История их сложных отношений нашла отражение и в драме «Два брата», и в повести «Княгиня Лиговская», и в романе «Герой нашего времени»…
Невозможно заглянуть в чужую душу: мало того, что через века, да к тому же ещё и заочно; можно лишь стараться, изощряться, предполагать и догадываться… – но увидеть и понять?.. К счастью, Михаил Юрьевич помог нам. Устами героя драмы «Два брата» Лермонтов поведал нам о зарождении этой любви: «С самого начала нашего знакомства я не чувствовал к ней ничего особенного кроме дружбы... Говорить с ней, сделать ей удовольствие было мне приятно и только. Её характер мне нравился: в нём видел я какую-то пылкость, твёрдость и благородство, редко заметные в наших женщинах; одним словом что-то первобытное... увлекающее – частые встречи, частые прогулки, невольно яркий взгляд, случайное пожатие руки – много ли надо, чтоб разбудить таившуюся искру?.. Во мне она вспыхнула; я был увлечён этой девушкой, я был околдован ею, вокруг неё был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе; она вырвала у меня признание, она разогрела во мне любовь, я предался ей как судьбе, она не требовала ни обещаний, ни клятв... но сама клялась любить меня вечно – мы расстались». Глубокое чувство к Вареньке он сохранил «до самой смерти своей», несмотря на предыдущие и последующие увлечения. В той же драме «Два брата» поэт признавался: «Случалось мне возле других женщин забыться на мгновенье; но после первой вспышки я тотчас замечал разницу, убийственную для них – ни одна меня не привязала».
И вот, когда ему было… лет 14–15-ть, – всего-то! – наш Мишель Юрьевич задумал своего «Демона», и это было ещё в 1829 году… Задумывая поэму, – и имея уже некоторый «опыт» детской и подростковой любви, юный поэт, – что для нас совершенно очевидно, – в полёте творческих идей представлял себя «настоящим демоном», доставляющим мучения и страдания любящей его Вареньке, ну, а её – конечно же, невинной, чистой девой-монахиней, которую этот «демон» может только погубить своей демонической любовью… Ну, конечно же, он видит себя «д е м о н о м»: его любят, а он… всё как-то «ровненько», на расстоянии… и… безжалостно к Вареньке… Конечно, – как по нашему сегодняшнему восприятию, – этот пятнадцатилетний «демон-губитель», пожалуй, выглядит смешным: так и хочется улыбнуться по-доброму: ишь ты, «дэмон-совратитель», понимаешь-ли… Но что поделать, – «байронизм», упомянутый в воспоминаниях Акима Павловича, «меланхолическое», «демоническое», эдакая разочарованность в жизни, «таинственное», «инфернальное», «загадочное» и прочее, выбивающееся из общепринятой нормальной радостной и счастливой жизни – …было в моде. Чтобы впечатлить девушку – необходимо как-то отличаться в светском обществе на фоне всех прочих: нормальных, скучных, обыкновенных и… понятных, как слива на ладони. Да и сегодня, впрочем… не то же ли самое?.. Тайна и загадка – всегда нам интересны. И вот Вам – в тему – дорогой Читатель, интересующая нас цитата из воспоминаний А.П. Шан-Гирея:
«…большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, то есть с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадёжности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее весёлого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостию своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нём души не чаяла и никогда ни в чём ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадёжность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Тактика эта, как кажется, ему и удавалась, если судить по в о с п о м и н а н и я м. »
(Конец цитаты)
…Осенью 1831 года, продолжая работать над поэмой «Демон» в шестнадцатилетнем возрасте, Лермонтов посвящает свой труд Вареньке Лопухиной:
Прими мой дар, моя Мадона!
С тех пор, как мне явилась ты,
Моя любовь мне оборона
От порицаний клеветы.
Такой любви нельзя не верить,
А взор не скроет ничего:
Ты не способна лицемерить,
Ты слишком ангел для того!
Были и другие посвящения к другим редакциям, например, «Тебе, Кавказ, суровый царь земли…», написанный в 1837 году.
Но в 1838-м, когда поэту уже – двадцать четыре… Михаил Юрьевич подарил Вареньке авторскую рукопись поэмы «Демон» уже с другим посвящением:
Я кончил, – и в груди невольное сомненье:
Займёт ли вновь тебя давно знакомый звук, –
Стихов неведомых задумчивое пенье, –
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?
Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
Ты – только мёртвого, пустого одобренья
Наложишь на неё тяжелую печать, –
И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет, –
И примешь за игру, иль сон воображенья
Больной души тяжёлый бред?..
…Ну вот… – кажется, кое-что проясняется. В 1835-м году Варенька вышла замуж за Н.Ф. Бахметева… Вот потому – и «забывчивый» друг: некий упрёк, но упрёк …неуверенный, равно, как и несправедливый. Новой фамилии Варвары Александровны Лермонтов не признавал: посылая ей новую редакцию «Демона» в посвящении к поэме в проставленных переписчиком инициалах «В. А. Б.» он несколько раз перечёркивает «Б» и пишет вместо неё «Л».
Давайте соберём и упорядочим творческие даты созидания поэтических и художественных произведений, посвящаемых Варваре Александровне – Михаилом Лермонтовым… И мы увидим, что всю свою жизнь Михаил Юрьевич никогда не переставал думать о Вареньке.
Вот ведь обратите внимание: Лермонтов написал три акварельных портрета Варвары Александровны Лопухиной, и никого – больше! он не писал красками в разные периоды своей жизни, постоянно и настойчиво стремясь к картинному изображению образа своей возлюбленной. Её аккуратная и милая головка часто возникает среди его карандашных рисунков… А что рисует художник?.. – то, к чему лежит сердце; то, чем полна его душа; то, что ему интересно; то, что переполняет его мысли и требует выхода… – он рисует Вареньку…
Первый её портрет был выполнен 16–17-летним Мишелем в 1830–1831 году, и хранился у неё как подарок. На портрете Варвара Александровна была изображена в образе монахини. (Бумага, акварель 15,6 х 12,6). Портрет хранился у Вареньки. Но после помолвки с Н.Ф. Бахметевым в мае 1835 года… многое изменилось. Супруг был очень ревнив, – да и кому бы понравилось, что мысли и сердце его молодой жены занято… «каким-то гусаром и его письмами»? Он потребовал, чтобы переписка была уничтожена, а имя Лермонтова не упоминалось в стенах его дома ни при каких обстоятельствах. Поэтому, наученная горьким опытом, Варвара Александровна и передала дорогие её сердцу подарки Мишеля – близким и понимающим её доверенным лицам, в частности, всё, что она имела как память о возлюбленном, было передано ею на хранение А.М. Верещагиной-Хюгель в 1839 году. Что касается именно этого портрета, то он был обнаружен в 1961 году в ФРГ у профессора М. Винклера, а в 1962 году привезён И.Л. Андрониковым и передан в Государственный литературный музей.
Второй акварельный портрет Варвары Александровны в синем закрытом одеянии с пышным круглым стоячим воротником под самый подбородок и с отчётливо выписанной родинкой над левой бровью был выполнен двадцатилетним Лермонтовым в 1835-м. (Бумага, акварель, 17 х 15,5). Как раз в этом году Варвара Александровна вышла замуж за Н.Ф. Бахметева, и, видимо, поэтому акварель лично ей подарена не была, а хранилась у троюродной сестры Лермонтова – Е.П. Жигмонт (урожд. Петрова). Однако равно-возможен и другой вариант: Варвара Александровна получила акварель в подарок, и сама – в целях надёжной сохранности – могла передать её троюродной сестре Мишеля… В 1941 году акварельный портрет – от потомков Е.П. Жигмонт – поступил в музей ИРЛИ.
Но есть и третий портрет Варвары Александровны, который, несмотря на очевидную и несомненную схожесть черт лица вплоть до родинки над левой бровью – «один в один» и есть сама Варенька… – он почему-то в альбоме «Лермонтов. Картины ~ Акварели ~ Рисунки» (Москва, «Изобразительное искусство», 1980) значится как «Вера – героиня романа «Княгиня Лиговская» (1835–1836; бумага, акварель,14х15). Впрочем, есть и пояснение, что «акварель изображает В.А. Лопухину в образе героини романа Лермонтова «Княгиня Лиговская». Очевидно, она была написана для Варвары Александровны и втайне хранилась у неё какое-то время. Но так же была передана ею в 1839 году на хранение Сашеньке Верещагиной, проживавшей в Германии, и по мужу – ставшей баронессой фон Хюгель. Подлинник акварели, видимо, так и остался за границей в Библиотеке Колумбийского университета, Нью-Йорк, США – как один из 17-ти рисунков Лермонтова, хранящихся во втором личном альбоме А.М. Верещагиной-Хюгель.
Именно в подарок для Вареньки, которая уже была замужем, двадцатичетырёхлетний Михаил Юрьевич в 1837–1838 г. написал акварелью собственный портрет, глядя на себя в зеркало (бумага, акварель, 10,8 х 9,4). Поэт изобразил себя на фоне Кавказских гор в мундире Нижегородского драгунского полка: в черкеске с газырями на груди, наброшенной на плечо бурке, с шашкой на кабардинском ремне с серебряным набором, – и в июне 1838-го года Михаил Лермонтов вручил свой Автопортрет на память возлюбленной при их последней встрече перед её отъездом в Германию на курорт: практически сразу же после вступления в брак она заболела, – чахотка в те времена косила многих… Когда Вы, дорогой мой Читатель, будете вглядываться в молодого офицера с задумчиво-грустным глубоким взглядом чёрно-карих глаз, стоящего на фоне Кавказских гор и держащегося за эфес шашки, не забывайте, пожалуйста, что это – зеркальное отражение поэта: обращаю внимание на этот нюанс для того, чтобы у Вас не возникало вопроса «почему Лермонтов на портретах разных художников изображён с боковым пробором на голове то с левой стороны, то с правой»?.. Дело в том, что художники, создававшие портреты М.Ю. Лермонтова в советский период, естественно, ориентировались на прижизненные его портреты [«Лермонтов в вицмундире лейб-гвардии Гусарского полка» 1834 года, принадлежащий кисти Ф.А. Будкина, либо 1838–1839 года кисти П.З. Захарова; в последнее время мнения экспертов устоялись на имени П.З. Захарова); портрет Лермонтова работы А.И. Клюндера 1839–1840 г.; а также портреты Лермонтова работы П.Е. Заболотского – «Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка» 1837-го года и портрет Лермонтова 1840-го года]… И – обязательно изучали – внешность поэта по его Автопортрету, где боковой пробор на голове с м о т р и т с я с п р а в а… Однако многие при этом, что совершенно очевидно, упускали из виду или забывали, что автопортрет выполнен в зеркальном варианте. Это нам сегодня легко нарисовать автопортрет со своей фотографии так, будто это сделал художник с натуры, а у Лермонтова такой возможности, увы, не было: в зеркальном отражении всё, что мы видим находящимся справа – в действительности располагается слева. Таким образом, мы можем утверждать, что наш Михаил Юрьевич в реальной действительности носил боковой пробор на голове – слева. Последним прижизненным портретом, – и самым, увы, распространённым, потому что был первым напечатан для широкой публики, – считается портрет М.Ю. Лермонтова кисти К.А. Горбунова 1841 года, работа над которым началась в спешке, во время короткого отпуска поэта, вернувшегося в Петербург из кавказской ссылки. Дело в том, что издатель А.А. Краевский для размещения портрета в новом издании стихов М.Ю. Лермонтова – заказал портрет поэта – К.А. Горбунову, который хоть ещё и учился искусству художника, но считался очень даже неплохим рисовальщиком. На портрете поэт изображён по пояс: он одет в сюртук Тенгинского пехотного полка (акварель, бумага). В 1875 году, – т.е. через 34 года, – П.А. Ефремов, ссылаясь на пояснения самого же К.А. Горбунова, сообщил, что художник – своевременно – не успел закончить работу над портретом «за отъездом Лермонтова на Кавказ и доделал уже после его смерти». То есть «доделал» по наброскам и по памяти. В том же году П.А. Ефремов обнаружил этот самый портрет у К.А. Горбунова, который взял его у А.А. Краевского – причём, основательно подпорченным от сырости, – для копирования, да так и не вернул. В Лермонтовский музей Санкт-Петербурга портрет поступил от художника Горбунова в 1882 году… Итак, получив в руки – спустя много лет – портрет, потерявший свои очертания и краски, а точнее, портрет, с наличием огромной визуальной «дыры в изображении» с правой стороны лица, изображённого на портрете, К.А. Горбунов «для образца» воспользовался, видимо, лермонтовским Автопортретом, и… боковой пробор оказался, конечно же, изображённым зеркально: справа, а не слева. Говорю Вам это «на всякий случай», чтобы не было недоразумения по этому поводу. На других прижизненных портретах, – (а их всего – пятнадцать: вместе с детским 3–4-летнего «Мишиньки», включая портрет работы Р.К. Шведе 1841-го «Лермонтов на смертном одре»), – боковой пробор у Лермонтова, как и положено, находится с левой стороны. Кстати, современники, лично знавшие Михаила Лермонтова, считали этот «горбуновский портрет» самым неудачным, поскольку сходство с реальным Лермонтовым – весьма условное: разве что мундир и усы; да и писан портрет лишь по наброскам да по памяти. До встречи с Лермонтовым у Краевского – Горбунов с поэтом никогда лично не встречался, и запомнить такие «детали» как… боковой пробор на голове поэта – видимо, «не успел». Так и хочется «поёрничать»: мало того, что «не знал», так ещё и «забыл»!..
Возможно, у Вас, дорогой Читатель, возникнет вопрос ко мне лично: как, дескать, меня «угораздило» вникнуть в такую «деталь» внешности Лермонтова?.. Да, если честно, я бы, наверное, не обратила внимания на эти тонкости, если бы в период моей работы в Литературном отделе пятигорского Музея М.Ю. Лермонтова… меня бы периодически не «пытали» об этом посетители. Пришлось задуматься… – и ответ, думаю, единственно-верный, который Вы уже знаете, был найден…
Но не только кисть воспроизводила мысли и душевное состояние любящего сердца. Не молчала и лира поэта. И рука почти-18-летнего Мишеля потянулась к перу:
***
Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан её не стан богини,
И грудь волною не встаёт,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признаёт.
Однако все её движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.
1832 г.
А потом, уже после влюблённости в Вареньку – …судьба их разлучила: Мишель вынужден был прервать обучение в Московском университете из-за «маловской истории», случившейся на их курсе: студенты устроили «шалость» и не дали возможности провести неуважаемому ими профессору Малову очередную лекцию, выпроводив его из аудитории с улюлюканьем и свистом, выбросив вслед его калоши… – и курс был распущен… Намереваясь продолжить своё университетское образование, в августе 1832-го Мишель переехал с бабушкой в Санкт-Петербург. Однако с университетом ничего не вышло, поскольку было предложено поступать на общих основаниях, и время обучения в Московском университете, – а это около двух лет, – таким образом, терялось как потраченное впустую. Лермонтов не пожелал терять зазря потраченного времени; а бабушке, кстати, ещё и …всё – очень не понравилось: ни сам университет, ни тамошние порядки, не исключавшие чуть ли не физические наказания (?..). К тому же, в те времена университетское образование не имело такого статуса, как в наше время, и не считалось столь престижным. И «Мишинька» поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, – хотя, как говорят, бабушка военному поприщу любимого и единственного внука… не очень-то и радовалась…
Продолжение следует:
Часть 30. «…поэзия, залитая шампанским»
http://stihi.ru/2024/08/14/1803
Вернуться:
Часть 28. «И позабуду ль самовластно мою погибшую любовь…»
http://stihi.ru/2024/06/11/6210
Свидетельство о публикации №124061501344