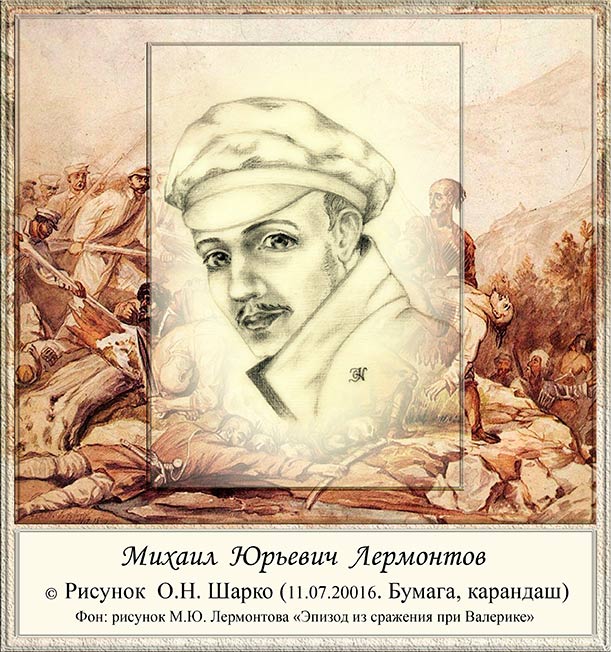Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть27
«…и я любил / Всем напряжением душевных сил»
=========================================
Часть 27
…Всё это время, – время своего взросления как физического, так и духовного, – наш Мишель Юрьевич жадно впитывает новое и интересное, познавая мир через своё окружение: душа художника, воспринимающего живой мир во всех его красках, оттенках, тонах и полутонах… не может оставаться равнодушной к прекрасному, – и он романтически влюбляется: всегда по-настоящему: одна за другою приходят и уходят… – и остаются в его стихотворных строках, а потому и вечные, – волнующие молодую кровь искренние чувства, желание любить и быть любимым… Это – кузина Анна Столыпина; потом Екатерина Сушкова (о ней мы поговорим с Вами ниже подробнее); затем Наталья Иванова (та самая загадочная «Н.Ф.И.», разгаданная И.Л. Андрониковым); и, наконец, Варвара Лопухина: как оказалось – единственно-желанная и… недосягаемая, слишком поздно-осознанная любовь…
Из-под его пера рождаются замечательные циклы стихов, обращённых к… – к каждой возлюбленной, которой были заняты его мысли и переживания; создаются поэмы и повести в стихах, пишутся драмы; он пробует себя и в прозе... Идёт усиленная работа по совершенствованию собственного стиля. Он стремится в высшее аристократическое общество, ибо только там, как он думает, есть возможность быть надлежаще оценённым, но… двери для него, увы, закрыты. Лермонтов придирчив к себе и требователен; он откуда-то и почему-то з н а е т своё предназначение, – и ему хочется быстрее реализоваться, ибо что-то мистическое и непознаваемое его торопит громко заявить о себе миру, а… неудачи повергают в расстройство и разочарование, и потому он безжалостно критичен и постоянно не доволен собою:
***
Безумец я! вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Как мог я цепь предубеждений
Умом свободным потрясать
И пламень тайных угрызений
За жар поэзии принять?
Нет, не похож я на п о э т а !
Я обманулся, вижу сам;
Пускай, как он, я чужд для света,
Но чужд зато и небесам!
Мои слова печальны: знаю;
Но смысла их вам не понять.
Я их от сердца отрываю,
Чтоб муки с ними оторвать!
Нет… мне ли властвовать умами,
всю жизнь на то употребя?
Пускай возвышусь я над вами,
Но удалюсь ли от себя?
И позабуду ль самовластно
Мою погибшую любовь,
Всё то, чему я верил страстно,
Чему не смею верить вновь?
(Р е м а р к а. Стихотворение публикуется как написанное в 1832-м году. За отсутствием обозначения даты сочинения этого стихотворения, – ибо наш Мишель Юрьевич лишь считанные разы проставил дату работы над произведением, – мы с Вами не можем определить реальный возраст Автора. Поскольку день рождения М.Ю. Лермонтова приходится на 3 октября 1814-го года, то есть практически на конец года, получается, что в 1832-м году – на день, когда написалось это стихотворение, – ему могло быть как 17-ть, так и 18-ть лет. Так что не удивляйтесь, когда встречаете у меня возраст, обозначенный двойной цифрой, например, как здесь: 17–18-ть лет.)
…Впервые он влюбился в 10-летнем возрасте, на Кавказе, в Пятигорске. Вот как он описал свою настоящую первую любовь в Записке от 8 июля 1830-го года, когда ему – полных 15-ть лет, 8 месяцев и 5 дней (см. стр.53 «Летопись…»):
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?
Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тётушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я её видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чём ещё не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я ещё не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал её видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я [боялся] не хотел говорить об ней и убегал, слыша её названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят её существованью – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза… – с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны… И так рано! в десять лет! о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! Но чаще – плакать».
К Записке Мишеля – ниже, на стр. 53 – имеется сноска следующего содержания:
«В 1859 г. эта юношеская записка Лермонтова была опубликована впервые и затем неоднократно перепечатывалась. Когда её прочла Эмилия Александровна Шан-Гирей (урождённая Клингенберг), она сразу узнала себя. В 1825 году ей действительно было около десяти лет. Позже её дочь Евгения Акимовна оставила в своих воспоминаниях рассказ об этом, записанный со слов матери: «Эта девочка была моя мать, она помнит, как бабушка ходила в дом Хастатовых в гости к Столыпиным и водила её играть с девочками, мальчик брюнет вбегал в комнату, конфузился, и опять убегал, и девочки называли его Мишель».
(Конец цитирования)
Ну… – кто знает: может, так и было; а может, и не было. Быть может, среди девочек, играющих в куклы, была и маленькая Эмилия тоже, но Мишеля волновала вовсе не она, а совсем другая девочка (?..).
В том же 1830-м – Лермонтов запечатлел это незабываемое ощущение «истинной любви» языком поэзии: «Там видел я пару божественных глаз;//И сердце лепечет, воспомня тот взор://Люблю я Кавказ!..»:
КАВКАЗ
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
Затем из записок того же 1830-го года мы узнаём, что он… «безнадёжно влюблён»: «…(Мне пятнадцать лет). Я однажды (три года тому назад) украл у одной девушки, которой было семнадцать лет, и потому безнадёжно любимой мною, бисерный синий снурок: он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!.. ».
(Конец цитирования)
Пятнадцатилетний Мишель не называет имени этой девушки, но некоторые лермонтоведы считают, что речь идёт об Анне Столыпиной (по родственной градации – двоюродная тётя Мишеля: т.е. двоюродная сестра матери Мишеля – Марии Михайловны, младшая дочь родной сестры бабушки Елизаветы Алексеевны: Натальи Алексеевны); той самой «Annette», которую называют «второй любовью» Лермонтова, и которая потом вышла замуж за А.И. Философова. А ещё говорят, что, вроде бы, и Алексей (Аркадьевич) Столыпин (который Монго) [сын брата бабушки Елизаветы Алексеевны – Аркадия Алексеевича (1778–1825), обер-прокурора сената, друга М. М. Сперанского], – тоже был в неё влюблён, и что это было… то ли в Середниково (в подмосковном имении Д. А. Столыпина, брата бабушки Елизаветы Алексеевны), а то ли в Кропотово (в отцовском имении Тульской губернии, ныне Липецкая область)… – здесь мнения лермонтоведов не совпадают, или я «чего-й-то где-й-то не дотягиваю»… Но, что известно точно – Мишель гостил в Середниково четыре лета подряд (1829–1832). Отношения же с «Аннет» относят к 1827-му, когда Лермонтову – 13-ть, ей – 12-ть, а Алексею-Монго, получается, 11-ть лет. Все три семьи жили в Москве по соседству: на Поварской и Малой Поварской улицах, а на лето все перебирались в Середниково: дом всегда был полон гостями. И якобы между молодыми людьми, – между «кузенами», как они себя называли (хотя Алексей Аркадьевич, будучи моложе, точнее, «младше» на два года, всё же приходился двоюродным дядей Мишелю), – возникло некое соперничество за внимание «кузины Анны»… – и что чуть ли не до дуэли… Не знаю, откуда берутся такие «сведения»?… Однако. Такие предположения мне весьма сомнительны: и насчёт дуэли (какая там «дуэль», когда Мишелю примерно 13–14-ть, а Алексею Столыпину – 11–12-ть лет!..), и насчёт «инцидента» с «бисерным синим снурком»: ведь нельзя же не понимать из этой записи от 1830-го (после 3-го октября), что описанное событие произошло три года назад в 1827 г., а той девушке было тогда с е м н а д ц а т ь лет. Следовательно, Мишелю было тогда… примерно 13–14-ть лет. Таким образом, получается, что девушка фактически была старше по возрасту на целых четыре года, и год её рождения – не иначе, как примерно 1810-й. Анна же (Григорьевна) Столыпина – 1815-го года рождения, и разница в возрасте с нею составляла всего лишь один год: причём она была, – на этот самый год, – м о л о ж е Лермонтова. К тому же, и сам Мишель со смехом вспоминает об этом «инциденте» как о подростково-детской «глупости»… Единственная из окружения Мишеля, подходящая по указанному возрасту – это Сашенька Верещагина, 1810-го года рождения, двоюродная сестра Лермонтова, которая действительно могла бы не скрывать своего имени от заинтересовавшихся лиц и – со смехом – подтвердить «сию кражу». Михаил Юрьевич всегда был дружен с нею, и доверял ей самое сокровенное… Видимо, он не раз смеялся над собою, – с нею вместе, – по этому случаю. И это она в 1835 году писала ему в Петербург: «Мой милый Мишель, я больше не беспокоюсь за ваше будущее – однажды вы станете великим человеком...». Но если говорить о кровном родстве, – то двоюродной сестрой её можно назвать с некоторой натяжкой: сестра её матери Екатерина Аркадьевна была замужем за Д.А. Столыпиным, братом бабушки поэта. Тем не менее, Мишель считал её самой настоящей «кузиной» и «двоюродной сестрой».
Но что касается Анны Столыпиной… – да: это была действительно, по выражению самого же Мишеля, «детская любовь». Но в 1830-м году, когда нашему юному поэту «перевалило» за 15-ть… рождается стихотворение «Дереву», написанное о событиях в жизни Мишеля 1829-го года, – и я бы на нём, поверьте, не остановилась бы… если бы оно и связанная с ним запись, сделанная на листе, следующем сразу за стихотворением, – не оказались бы так… потрясающе-мистически-пророческими.
Вот интересующие нас строки стихотворения: «…И деревцо с моей любовью / Погибло, чтобы вновь не цвесть; / Я жизнь его купил бы кровью, – / Но как переменить, что е с т ь ? // Ужели также вдохновенье / Умрёт невозвратимо с ним? / Иль шуму светского волненья / Бороться с сердцем молодым? / Нет, нет, – мой дух бессмертен силой, / Мой гений веки пролетит / И эти ветви над могилой / Певца-страдальца освятит.»
За автографом стихотворения на следующем листе Лермонтов пишет следующее: «[Моя эпитафия]. Моё завещание (Про дерево, где я сидел с А.С.). Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим; я любил под ним и слышал волшебное слово: «люблю», которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца. В то время это дерево, ещё цветущее, при свежем ветре, покачало головою и шёпотом молвило: безумец, что ты делаешь? – Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слёзы есть принадлежность тех, у которых есть надежды; но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухою яблоней; положите камень; и – пускай на нём ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!».
(Конец цитирования).
Когда я прочла «…положите камень; и – пускай на нём ничего не будет написано, е с л и о д н о г о и м е н и м о е г о н е д о в о л ь н о б у д е т д о с т а в и т ь е м у б е с с м е р т и е !», – у меня… как-то замерло дыхание от потрясения… 17-го июля 1841 года на могилу только что преданному пятигорской земле гениальному российскому поэту действительно положили каменную плиту с единственной надписью: «М и х а и л». Ни креста, ни дат рождения и смерти, ни фамилии, ни отчества… А гений Михаила Юрьевича Лермонтова, как он и писал, – всё летит и летит в веках…
Продолжение.
Часть 28. «И позабуду ль самовластно мою погибшую любовь…»
http://stihi.ru/2024/06/11/6210
Вернуться:
Часть 26. «…страшная жажда песнопенья»
http://stihi.ru/2024/06/10/1061
Свидетельство о публикации №124061100790