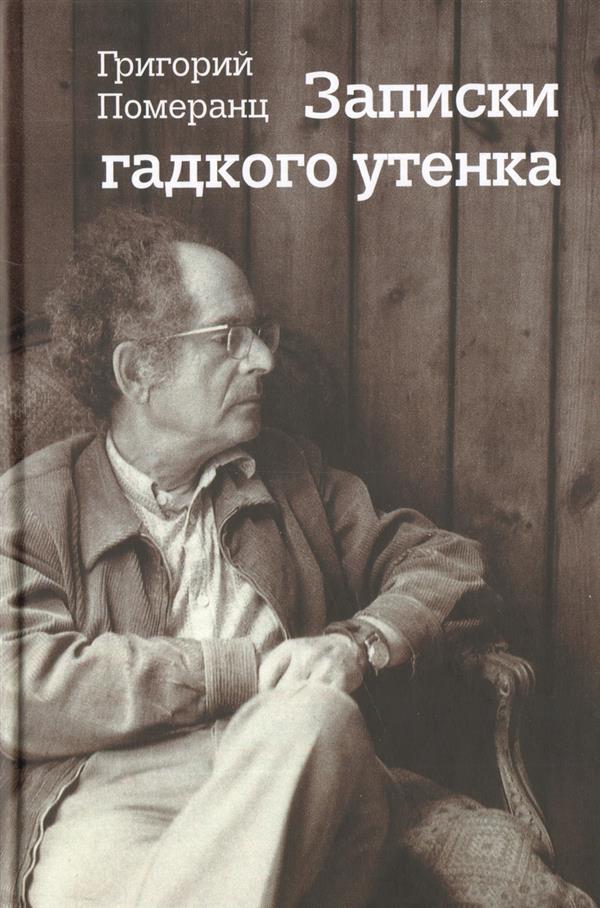Лебединый полет над эпохой Григория Померанца
или
лебединый полет над эпохой
Автобиографическая проза – это всегда о человеке, сквозь которого проходит мир внешний, преобразующий внутреннее «я», «табула раса» отдельного индивидуума. Никогда прежде на 600 страницах текста я не находила такой концентрации не только жизненного опыта, но и глубины проживания мыслей и чувств, проникновения в самые разные состояния психики – от страха до счастья, от непонимания до любви, от уважения до презрения, от силы до слабости. Каждая строка – средоточие честности. Прежде всего, к самому себе. Исповедь гордого и не покорившегося обстоятельствам «гадкого утенка», суть которого – петь свою собственную неповторимую лебединую Песнь Песней в стиле философской прозы, в литературных обзорах, в полемических диспутах и дискуссиях на актуальные темы.
Книга Померанца – горький настой реальных пережитых событий, когда вся жизнь отрефлексирована, ошибки поняты и приняты, враги и оппоненты прощены, любовь вечная найдена в духовных стихах собственной жены, и вместо «скорой помощи» через личную историю красной нитью судьбы утверждается мудрость «медленной помощи».
Последняя глава посвящена стихам его второй жены Зинаиды Миркиной, которая была инвалидом. И писала духовные стихи из своей глубины, на острие сути и боли. Весталки рождались всегда, внутреннее пророчество – дар, который и проклятие. Особенно он тяготеет и может в какой-то момент перейти в состояние «тяготит», когда осознание своей инаковости встает во весь рост, и внутренний человек понимает: он – божье творение. Но вокруг хаос и ад (в данном случае советский атеизм), и нужно выживать и сдерживать то, что естественно, как дышать. И тогда это дыхание, этот дух начинает деформировать тело, становясь болью, которая накапливается в виде болезни. Григорий Померанц притянулся к Миркиной, потому что после смерти жены Ирины был пуст, искал Бога, и нашел возможность закрыть свою «дыру в сердце» в стихах о Боге, написанных Зиной. И понял, что он нужен, чтобы продлить ее жизнь, чтобы беречь ее глубину, и чтобы ее душа была связующим звеном между Тем миром и этим. Он сам признается, что в своей текущей борьбе, дискуссиях он теряет периодически это.
Выбор быть или не быть с кем-то – всегда индивидуален, всегда сложен, всегда оправдан чем-то сущностным в самом человеке. Если, конечно, человек ищет себя самого и находит «внутреннего человека» - себя, чтобы потом решать: зачем ему нужно то или иное общение, другой – непонятный, или можно испугаться неопределенности иного и уйти. Померанц описывает, как слушатели Зининых стихов пугались, не понимали, не могли долго удержать мистический градус восприятия того, что трогает душу и потому тревожит, как божественный космос – притягательный и отталкивающий одновременно.
Что ж, для закрепления прочитанного, мне остаётся поделиться особо яркими и насыщенными цитатами или даже фрагментами. И если кому-то, как и мне, это глубоко западет в сердце и вызовет резонанс созвучия, как вызвало у меня, всегда можно найти и прочесть глубокую книгу мудрого Григорий Померанца.
Метафора себя
Гадкий утенок идет по своей тропке без всякой цели. Все большие дороги, железные и шоссейные, ведут из одного птичьего двора в другой, и на всяком дворе утенка будут клевать. Вот он и идет — в сторону от больших дорог, по тропинке, где будут деревья, кусты, пригорки, может быть, лужи, а может быть, и озерко… Но больше ничего. Надо идти и идти. С одной, впрочем, надеждой: что этот путь без цели имеет свою собственную, скрытую, внутреннюю цель. То, что я пишу, — для гадких утят. Для тех, кто хочет найти не другой птичий двор, а самих себя. Если вам не этого хочется, если какой-то улучшенный птичий двор вам нравится, — не читайте дальше. Это не для вас. Это не ваш путь. Я не хочу вас соблазнять и делать несчастными, сбивать с вашей дороги. Ездите, пожалуйста, в автобусах и в поездах… А я пошел пешком.
О языковом вопросе, культурных традициях и реалиях жизни
В 1953 году я начал работать учителем в станице Шкуринской (бывшего кубанского казачьего войска), и вот оказалось, что некоторые школьники 8-го класса не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Кубанцы — потомки запорожцев, их родной язык — украинский, но за семь лет можно было чему-то выучиться… Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Допустим, Горкина. Мать ответила мне на нелитературном, с какими-то областными чертами, но бесспорно русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. «Так вы русская?» — «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду». — «Отчего же не выучили дочку своему родному языку?» — «Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!» Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей переселенцев балакать по-местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене — по зубам. По-русски только на уроке, учителю. Запрет снимался с 8-го класса. Ученики старших классов — отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к 10-му классу мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с 33-го (когда была отменена украинизация) до 53-го и продолжалась при мне, то есть до 1956-го. Дальше не знаю.
Правда о предвоенном и военном времени, о страхе
Помню свою тогдашнюю фразу: всех умных людей пересажали, одни дураки остались. Снижение интеллектуального уровня бросалось в глаза и, может быть, еще больше — снижение нравственного уровня. После пяти лет борьбы за идейность все повторяли: моя хата с краю, ничего не знаю. Это очень сказалось в начале войны.
Я упал ничком… Никогда в жизни не испытывал такого страха! Все во мне вопило: «Домой, к маме! Домой, к маме!» Цельная натура, наверное, не удержалась бы, побежала, и потом угодила под расстрел или в штрафную роту. Но я интеллигент; рефлексия, (от которой блекнет румянец сильной воли), во мне не умолкала, и она говорила, что бегают под бомбежкой одни идиоты; безопаснее лежать. Я лежал, носом в пыли, а внутри все продолжало вопить: «Домой, к маме!»
Перешагнуть через страх, не теряя совести (а по возможности и разума), - очень трудное дело. Никакое знамя не гарантирует чистоты. И религия, принятая на веру, без глубокого внутреннего опыта, ничего не меняет.
Заклинание на все века
В конце концов, сложилось заклинание, силу которого я потом, в 44-м, еще раз имел случай испробовать: Вперед… вашу мать! За родину… вашу мать! Огонь… вашу мать! За Сталина… вашу мать! Примерно как в старину: за веру, царя и отечество. Только вместо веры —… вашу мать. Впрочем, еще в прошлом веке некий вице-губернатор написал: «Первое слово, обращенное опытным администратором к толпе бунтовщиков, есть слово матерное». Так что и это традиция. Половая сила — простейший символ всякой силы, и матерная ругань — один из устоев русской социальной иерархии. Особенно на войне.
О победе добра и зла
Добро не воюет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамёна, как свет, - то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но не надолго, и охотнее держится на стороне побежденных. А все, что воюет и побеждает, причастно злу. И с чем большей яркостью дерётся, тем больше погрязаем во зле. И чем больше ненавидит зло, тем больше предаётся ему.
О стиле жизни, мировосприятия, творчества
В старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал. Последним был французский классицизм: попытка общего стиля цивилизации. После его распада романтики потребовали от каждого неповторимой личной гениальности. Но где ее взять? Начались потуги — и пошлость.
Стиль — это человек. Найти свой стиль — значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство истины. Обладать стилем, как я это понимаю, — значит плыть, не думая, что плывешь, поворачиваться, не думая о повороте, совершенно верить себе, своему интуитивному знанию, куда повернуть, а не только знать какие-то образцы. Обладать стилем — значит быть самим собой. Тогда, если потянет писать, само собой образуется стиль. Как у Макара Девушкина. Я сказал, что стиль — это установка на собеседника; а теперь говорю, что обладать стилем — значит быть самим собой. Думаю, это не такие разные вещи, как выходит на словах. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. «Быть самим собой» и «знать своего собеседника» — две стороны одного и того же.
Все равно, если у человека есть стиль, его не спрячешь. Он как-то вылезает в ритме фразы, в ритме периодов, в организации целого... Стиль — это шило. В мешке его не утаишь. Стиль это не то, чего мне надо добиваться, скорее то, от чего я не могу избавиться.
О духовном вопросе, духовном росте и своем месте в духовной иерархии
Не знаю, какую метафору здесь лучше выбрать. Лет пятнадцать тому назад я писал о лестнице Якова — вернее, о лестнице Рамакришны (но мне почему-то понадобился библейский образ). Рамакришна говорил, что ему стоило большого труда подняться на вершину ступенчатой пирамиды, но потом он заметил, что звезды видны с любой ступени. И теперь он предпочитает сидеть внизу и беседовать со своими учениками. Я вывел из этой притчи, что каждому из нас задано подняться до своей ступени, а вовсе не карабкаться без конца вверх. Если голова кружится, если с трудом удерживаешься, чтобы не соскользнуть, — не пытайся пересилить заложенную в тебе тяжесть. Жди, пока она сама собой изживется. Осваивай эту ступень, на которой легко двигаться, и с нее поворачивай голову к звездам. Задним числом мне хочется ввести в эту схему поправку: мы не равны самим себе и в разное время живем на разных ступенях. Наша — не одна ступень, а, скажем, целый лестничный марш, — у одного покороче, у другого подлиннее, — по которому мы сравнительно легко, без надрыва, можем подняться.
Об истинном смысле христианства
Очень немногие христиане поняли Евангелие как религию радости. Основной поток православного предания шел по другому пути. Церковь широко раскрывает свои двери потерпевшим кораблекрушение, она утешает мать, похоронившую своих детей, и калеку, никогда не знавшего любви. После смерти Иры только случай помешал мне войти в эти двери (тогда это еще не было модой). Но очень редко церковные люди учат, как уподобиться Отцу нашему небесному и творить счастье. Эти записки — для тех. кто хочет не только утешения в несчастье, кто готов до смертной черты бороться за счастье, быть ангелом счастья. Для тех, кому я пишу, условного, отделенного от всей полноты жизни Божьего мира, замкнутого в церковные стены — мало. Мало исторического христианства, оставившего мир лежать возле. Я думаю, что Бог либо выйдет из церкви и разольется — с нашей помощью — по всему миру, или в обезбоженной природе не останется места и для людей.
Об искусстве и его истинном смысле
Можно приложить к искусству правило Силуана: то, что написано Святым Духом, можно перечесть только Святым Духом. Такое же чудо — настоящая встреча человека с человеком. Традиция — повитуха. Она знает, что такое роды, она может помочь родить, но сама она не рожает. Рожает душа, которая зачала, и если придет час, то без всякой помощи. Я не говорю — легко. Можно и умереть. Но все-таки роженица, а не повитуха приносит дитя в мир. Только глупая акушерка считает себя главным действующим лицом в рождении человека, и если младенец будет принят не ею, а ее конкуренткой, то роды как бы не состоявшимися. Или заранее уверена, что младенец, которому не дали ортодоксального шлепка по заду, вырастет уродом.
О современном мире, где победил вечный бег
Черт, договариваясь с Фаустом, запретил ему останавливаться. Если остановится в созерцании, если скажет: остановись, мгновенье, ты прекрасно! — конец всему, ад. Но Фауст сказал «остановись, мгновенье» — и в ад не попал. Я думаю, черт обманывал, запретил то самое, что открывает дорогу к искуплению. Фауст спасся, нарушив условие договора. А наша цивилизация поверила Мефистофелю. Она боится остановки. Даже когда человек отдыхает, он не может остановиться или пойти медленным, медленным шагом, вбирая в себя красоту тропинки. Ему нужно мелькание кадров. И поэтому он смотрит и не видит, не вглядывается, не вбирает вместе с линией горы вечность. Он не понимает, что остановка ума открывает место для чего-то самого главного. Что с розовой зарей ничего не надо делать, а только подождать, что она сделает в тебе. И если нельзя съесть, выпить, поцеловать, — он томится от непонятной тоски.
О любви
А любовь — это вглядыванье, медленное вглядыванье. Даже если она поражает с первого взгляда. Все равно, после этого первого взгляда годами смотришь: что же тебя тогда поразило? Любовь — бесконечное вглядыванье. Бесконечное открытие души.
О счастье
Счастье требует сосредоточенности, как молитва. Враг счастья — разбросанность. В том числе и в сострадании, в жалости. Человек, погруженный в молитву, иной раз проходит мимо возможности добрых дел. Счастье жизни — как и блаженство веры — рождается из собранности, сосредоточенности на глубине. Можно всего только видеть дерево и быть счастливым. Если очень собранно видеть дерево. Если досмотреть его до корней в вечности. Это уменье быть самому счастливым — школа творческого счастья, то есть умения сделать счастливым другого. Так же как нельзя научить плавать, если сам не плаваешь.
И хочется завершить эссе стихами Зинаиды Миркиной, которую ее супруг не раз цитировал в своих записках.
А счастье просто, очень просто…
Достаточно прошелестеть листам,
Достаточно сойтись глазами нам
И засветиться и запахнуть соснам…
Да, счастье просто, как весенний ветер,
Как белый сад, вишнёвый майский сад.
Но сколько есть садов на белом свете,
А счастья нет… Кто в этом виноват?
И есть всего одна задача –
Других, наверно, в мире нет:
Нащупать дно средь бездны плача,
В кромешной тьме увидеть свет.
И в совершенной тишине,
В неё врастая понемногу,
Почувствовать живого Бога,
Раздвинувшего сердце мне.
Свидетельство о публикации №124051402629