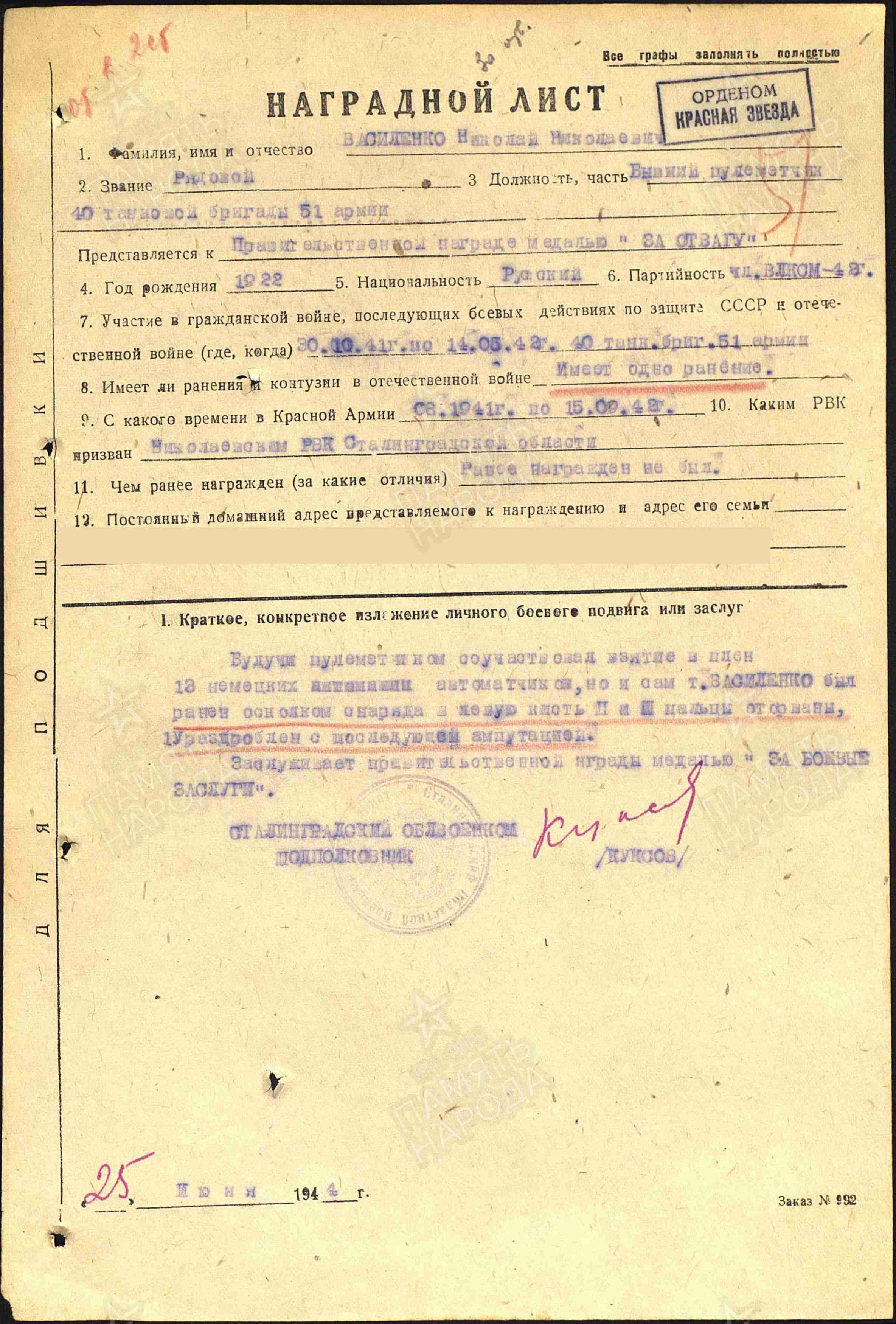Записки прадеда
Записки прадеда
Повесть
Василенко Владимиру Николаевичу
посвящается
Предисловие
Приключенческая биографическая повесть от первого лица краснофлотца Николая Василенко, человека, яркая жизнь которого прошла через исторические события нашей страны, особенно ярко в Великую Отечественную войну.
Родом из Сталинградской области, в 1941 году участвует в обороне Севастополя в составе 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
При отступлении из Севастополя на сопке в районе Феодосии 18 бойцов вступают в неравный бой с двумя румынскими горнострелковыми батальонами, что является ключевым событием произведения.
Событие, ранее не известное официальной истории, следует из свидетельских воспоминаний главного героя, комплиментарно соответствует историческим событиям. В этот период происходит высадка феодосийского десанта и трехдневная оборона отступающего отряда с Николаем Василенко, что позволило десанту капитан-лейтенанта Арона Шермана, реально существовавшего исторического лица, разгромить остатки румынских батальонов и выполнить боевую задачу — захватить Коктебель.
Подвиг отступающих бойцов при обороне сопки в Тихой бухте в районе Коктебеля не отражен в официальной истории, так как успех отряда Шермана в общем фиаско феодосийского десанта был единичным и, возможно, не вписывался в официальную версию причин поражения.
Официальные документы, в том числе наградной лист, иллюстрируют повесть.
Произведение основано на реальных исторических событиях, имя главного героя, а также командира обороны сопки Петра Салманова и командира десантного отряда Арона Шермана настоящие, другие имена и фамилии в связи с отсутствием данных вымышленные.
Повесть передает стойкость советских-российских солдат и офицеров, моральный дух которых не упал при катастрофических событиях отступления 1941 года. Также передает практические навыки главного героя, полезный боевой тактический опыт, а еще решение религиозно-моральной проблемы: необходимость уничтожить в бою — лишить жизни вражеского солдата.
Данное произведение может быть интересно и полезно широкому кругу читателей как пример уникального жизненного пути обычного человека, который верит в свои силы и удачу, в своих товарищей, в свою страну.
Пролог
Такое никому не расскажешь, никто не поверит.
Я гулял во дворе 31 декабря 2022 года, когда под ногами грохнула петарда и кто-то рывком швырнул меня на землю.
Вокруг грохот, взрывы глушат, сотрясают землю, кожу, мышцы. Воздух с комьями земли бьется во все стороны. Дым, гарь, вонь кислятиной. В упор молодое перепачканное землей и сажей худое лицо с расширенными от ужаса глазами. «КУДА БАШКУ ТЯНЕШЬ, ЖИТЬ НАДОЕЛО!..» — кричал он.
Вдруг я узнал его, прадеда Колю, вспомнил по фото. Это был он.
Я узнал бой за безымянную сопку под Феодосией 31 декабря 1941 года и вспомнил одинокое дерево над обрывом, оно дрожало и качалось.
«Румыны!..» — заорал я и показал на дерево. Мы переползли на край и увидели под нами румынского солдата. Стоя на ступени обрыва, он крепил лестницу. По веревкам к нему лезло человек десять и столько же готовилось у подножия.
Не сговариваясь, мы метнули в скалолаза по булыжнику, и он мешком свалился на других штурмующих, увлекая их с обрыва.
— КАСКУ НОСИТЬ НАДО!.. — заорал прадед и громко расхохотался.
— АМБУСКАДА!.. — орали румыны, падали с обрыва, скатывались и убегали.
На долю секунды наши глаза встретились: мои восторженные и радостно-бесшабашные прадеда — Василенко Николая Николаевича, краснофлотца 3-го батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
Взрыв, и я опять во дворе, 31 декабря 2022 года.
Я стоял и дико озирался. Так нечестно и досадно вырвать меня из боя, когда враг в панике бежит, руки чувствуют винтовку, а древние инстинкты требуют схватки. Я, конечно, знал эту историю, знал итог боя, где для прадеда и прибившегося к отряду подростка все закончится хорошо, что подоспевший десант Арона Шермана уничтожит наступавших румын. Или что я не успел испугаться. Но страха не было совсем, а только досада и азарт боя. Я кругами ходил по футбольному полю. Адреналин гнал действовать, и я переживал короткий миг неравного боя, часто обсуждаемого дедом с отцом, а сейчас мной увиденного так явно.
Я мысленно вернулся в пережитое: грохот разрывов — это долбят по сопке румынские минометы. Разрывы глушат, страшно сотрясая землю, бросаются комьями земли, глаза слезятся от дыма и гари и, самое главное — в упор, глаза в глаза лицо молодого прадеда, сначала искаженное ужасом, а потом ликующее. Да, лицо прадеда, которого я никогда не видел.
Я не знал его — Николая Василенко. Он ушел за 20 лет до моего рождения, но это была легендарная личность. Родственники и сейчас пересказывают захватывающие истории из жизни деда Коли. Его помнят красивым, жизнерадостным и талантливым. Я помню его фотографию в белом плаще, белой шляпе с красивой белозубой улыбкой и спрятанной за спину рукой. Мама рассказывала, что в детстве она проснется, а дед уже сходил на рыбалку, по дороге собрал грибов, покормил домашнюю живность, приготовил завтрак, а потом шел на работу. Все ладно спорилось в его изуродованных ранением руках, на которых на обоих осталось пять пальцев, и последний осколок вылез из него 9 мая 1986 года.
За оборону Крыма прадед был награжден орденом Красной Звезды, и каждый год мы с родителями несли его портрет в параде «Бессмертного полка». Вот именно, портрет.
Я побежал домой, достал штендер, который носил на «Бессмертный полк». С худого волевого лица смотрят умные глаза. Правильным, точеным чертам позавидовали бы картинные дворяне и актеры. Глядя глаза в глаза, я опять пережил нашу встречу и повторил разговор. Полез в шкаф и достал железную баночку с наградами. Отложив юбилейные медали, которыми награждают ветеранов в годовщины Великой Победы, я взял в руки ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Я с удовольствием держал в руках награды прадеда, любуясь их тяжестью и строгой красотой. Некоторое время сидел задумавшись и заметил в шкафу картонную коробку. В ней были сложены какие-то старые папки с завязочками, в общем, макулатура родителей, на которую никогда не обращал внимания, но сейчас дух истории повел меня вглубь шкафа. Развязав тесемки одной из папок, нашел тетрадь. Обычную ученическую, 18 листов в клеточку, только очень старую, с пожелтевшими листами. Вспомнил, как реконструкторы для своих игр обливали страницы книг чаем и отглаживали утюгом. Получались древние, как бы исторические фолианты. А здесь со старинных тетрадных листов на меня смотрели строчки, написанные, судя по обложкам, в 50-х годах прошлого века. Пролистав содержание этой и других тетрадей, я понял, что это ровным, твердым почерком сделаны записи человеком, рядом с которым я только что сражался в смертельном бою. Я стал перебирать тетради и нашел ту, с которой, по-видимому, прадед начал вести записи.
Присев на диван, я принялся читать: «Я родился 9 сентября 1922 года в Николаевской слободе Сталинградской области…»
Глава I. Детство
Я родился 9 сентября 1922 года в Николаевской слободе Сталинградской области в счастливой зажиточной крестьянской семье, которых назвали потом кулаками. Как все крестьянские дети, с четырех лет помогал по хозяйству.
Работа в большом доме с сараями, курятником, утятником, свинарником, хлевом, овином, коровником, мастерскими и другими постройками никогда не прекращалась. Небольшое стадо лошадей, коров, коз, свиньи, куры, утки, индюшки — все требовало внимания и труда, а земля вспашки, прополки, боронования. В хозяйстве помогали два односельчанина. Наши зерно, арбузы, молоко, сметану, сыр, мясо, рыбу, птицу, яйца, сало, окорока, перины и подушки перьевые хорошо скупали торгаши, возили на базары в Камышин и Сталинград, с прибытком торговали. Николаевские хохлы — потомки екатерининских переселенцев, жить и работать умели, лишь бы не мешали.
Но в 1931 году приезжие комиссары организовали местных пьяниц и бродяг, которые сами работать не могли в силу отсутствия ума и трудолюбия, а чаще всего потомственной тяги к самогону. С помощью этого актива стали организовывать коллективные хозяйства. На собраниях, куда сгоняли николаевцев, активисты выкрикивали фамилии зажиточных трудолюбивых крестьян с крепким хозяйством — соль земли, и отбирали имущество: национализировали для колхоза, а самих отправляли в Сибирь, и больше никто о них не слышал. Так сгинули многие наши родственники и знакомые. Почему мы с ними не пропали, не знаю, наверное, у работников наших не накопилось обид, да и отец, Николай Ионович, сам свел все поголовье в колхозное стадо, телеги, бороны, плуги, а также запас зерна сдал в фонд колхоза. Отдал и наш дом — усадьбу со всеми постройками, после чего съехали с семьей с Николаевки и вырыли для сна землянку.
С коллективизацией в слободу пришел упадок. Неграмотное колхозное управление привело к неурожаю, мол, земля неплодородная, как будто у кулаков была другая. Несметные тучные стада в колхозном нерадивом присмотре сдыхали, как при падеже. Красивые зажиточные дома, разбираемые по бревнышку на колхозные нужды, исчезали с улиц. Церкви, мечеть и лютеранская кирха, нэпмановский кинотеатр, общественные бани заколочены, ранее богатый многолюдный рынок опустел. Гуляемые всей улицей праздники, свадьбы, именины ушли с народной тоской в рассказы. Как-то быстро обветшала Николаевская слобода, как при нашествии Мамая. И непонятно было, откуда взялся такой враг, который ненавидел свой народ так, что закабалил хуже крепостного права. И пошли воспоминания еще живых стариков про крестьянское зажиточное счастье при помещиках.
А мне, тогда еще 9-летнему несмышленышу, были непонятны резкие перемены, мы же вместе — мать, отец, сестра, два младших брата, а еще любимица корова Машка, пес Волчек и кошка Мурка.
***
Мать за строгостью прятала любовь и страх за нашу судьбу, поэтому материнскую нежность и заботу мы почти не видели. Отец целыми днями пахал в колхозе, получал трудодни и немного крупы в мешочке. Тяжкие крестьянские думы навсегда сделали угрюмым его лицо. А зимой он мастерил жестяные резные фигурные печи, душу в них вкладывал, чем славился на всю округу до самого Камышина. А я рано повзрослел и рос счастливым. Не с глупой улыбкой, а с уверенностью в свою удачу, что со всем справлюсь и все у меня получится, что бы ни случилось.
Полевые работы начинались в апреле и заканчивались в ноябре с белыми мухами. Особенно тяжко в июле — августе. Наибольшая тяжесть — август. Но до него еще дожить надо, когда весь день впроголодь тяжелый труд под палящим солнцем.
Мы в поле с утренней зорькой. Холодок еще не сменился дневным зноем, и солнышко только начинает ласково согревать, еще не сжигает все, что не успело спрятаться. Вокруг безрадостные, голодные детские лица семи-девяти лет от роду. Хмурый бригадир зло оглядывает маленьких работников, видит, что не по силам работа, а председатель и с ним актив, чтоб их унесло, опять будут пенять сознательностью, обзывать оппортунистом и саботажником. Вдруг натыкается на мое благодушное, с улыбкой лицо, зло сплевывает и выдыхает: «Умник, здесь тебе не школа», намекая, что я отличник. «Здесь работать надо. К обеду в поле чисто не будет, всех наместо брюквы закопаю», — и уходит, зло хлопая разбитыми сапогами.
Почему-то все смотрят на меня, особенно смешная белокурая, как ягненок, Манька. Поэтому, широко улыбаясь, говорю: «Пацаны, пока не печет, берем по паре рядков, девчонкам по одному. Доходим до края — развертаемся, а девчонки на речку корешки и раков собирать. Второй закончим, они нам обед. Кто последний, тот вахлак», — кричу я и бегу вдоль рядков, остальные, радостно топая босыми ногами, за мной.
Продергиваю траву, а сам на ребят посматриваю. Вижу, маленькая Манька посреди поля как цыпленок сидит и ручку свою разглядывает. «Что у тебя?» — спрашиваю. «Колючкой укололась», — хнычет. Вынимаю у нее из руки занозу, затем показываю, что колючку надо не сверху тянуть, а подрываться к гладкому под землей стеблю и сдергивать. Вижу — получается, возвращаюсь на свой ряд.
В обед бригадир не пришел, а мы, наевшись сладких корешков и домашних лепешек, еще искупаться успели. Не пришел бригадир и к вечеру. А когда мы с чисто прополотого поля усталые, но хохочущие, возвращались в деревню, встретили председателя верхом на лошади. Оглядел нас и говорит мне:
— Вырастай быстрей, бригадир.
Домой в ночи пришел, ищу чашку воды попить, а из них отец с матерью чай — иван-чай пьют, а это и есть все чашки в доме. Вспомнил, как зимой отцу помогал швы на печках отстукивать, и несу ему из сарая обрезок жестянки:
— Надо?
Отец устало машет рукой — значит, не надо. Возвращаюсь в сарай, беру ножницы специальные, по металлу, ровняю. Затем гвоздем и травинкой круг черчу, вырезаю донце. Сворачиваю стенку, загибаю, обстукиваю край ко днищу, из обрезка ручку пристукиваю, заворачиваю боковой шов — кружка готова, делов-то.
Иду, черпаю воду из лохани, важно пью. Косым зрением замечаю — отец с матерью удивленно на меня смотрят. Ставлю свою кружку, важно вытираюсь рукавом, подхожу к столу, беру приготовленный мне кусок хлеба и также важно иду на сеновал.
Несмотря на трудный день, я засыпаю счастливым. Этот день принес мне маленькую победу над большими трудностями и еще больше укрепил в тайной мысли, что я особенный, я счастливчик. К слову сказать, потом и братишкам справил по кружке.
***
В 10–11 лет с едой совсем плохо стало. Чтобы накормить малышей, собирал в заводях Волги водяные корневища, ловил раков и мелкую рыбешку. Когда ягода не поспела, а сахар пробовал раз-два в жизни, корни лопухов и камышей лучшим лакомством кажутся. Особенно сладкий корень сусак, как цветки появятся. Опускаешь руку к корню по стеблю, нащупаешь, как он вбок уходит, затем дальше к изгибу в землю, и выдергиваешь. Очищаешь его между двумя изгибами стебля и корня и с наслаждением грызешь — белый, сочный, сладкий. В удачный день домой целую котомку приносил сахарных корешков. Мать их сушила, перетирала в порошок и смешивала с мукой. Никогда больше в жизни не ел лепешек вкуснее.
Но с зимой пришел страх. Безрадостно тихие, чтобы никто не услышал, разговоры взрослых, что может не хватить запасов, что есть деревни, где людей почти не осталось, что бросают дома и уходят в поисках пропитания в город: мужики на случайный заработок, женщины с детьми просить милостыню. А еще страшнее, что от бескормицы бросают родители своих малолетних детей на вокзалах и базарах, и тогда, если повезет, попадут в детский дом, где будут кормить, но назовут другим именем и фамилией, а если нет, то попадают дети в руки злодеев-людоедов. Я прижимаюсь ночью к братишкам, обнимаю их. А вдруг и у нас станет нечего есть и пойдем по миру, заколотив избу. Но я никогда этого не допущу, я со всем справлюсь. И с верой в свои силы и удачу засыпаю.
Глава II. Артель
Жили в Николаевке в то время два мужика, мастера-плотники. Как все мастера, каких мало, большие хитрованы были. За трудодни таких робить не заставишь. Не захотят — не получится. Ну ведь и правда, не получается, не веришь? Сам попробуй, что мне тебе брехать. Было дело, встретились, когда поправляли телегу. Пока полмешка зерна им бригадир не выставил, никак телега не хотела сцепляться, все норовила винтом пойти, ну что ты будешь делать.
Другой раз звали их забор поправить, и рассказывали они колхозному кладовщику-учетчику, что ну никак не закрепят этот пролет, гвозди не удержат, новые доски давай. А мне ж почти одиннадцать, большой уже, да и прислушивались ко мне тогда уже, ну я им: «А если клинышек выстругать да вместо гвоздя его в прежние дырки вбить? Да так здесь, здесь и здесь». Не знаю, сбил ли я им магарыч, или сами так знали, но пришли они к отцу и предложили взять меня в их артель подмастерьем. Так после четвертого класса закончилось мое школьное образование и началась взрослая полная приключений жизнь.
***
В артели быстро прижился, как будто всегда был шабашником. А шабашили по всей Николаевской слободе и окрестным селам. Бывало, и до Камышина добирались. В основном поправляли покосившееся, редко кто строил новое. Ну если только колхозу новый сарай, но в основном латали, чтобы совсем не развалилось.
Работали за еду, о чем было грех жаловаться. Если повезет, накормят, еще и с собой дадут. Многие норовили расплатиться горилкой, которую сами гнали, но бугор — бригадир не любил этого, только если какое начальство надо уважить. А так расплачивались в основном зерном, салом, редко картошкой, еще реже деньгами. Их бугор бережно заворачивал в чистые тряпки, обычно в новые портянки, и прятал за пазуху или в голенище. На них покупали инструмент, гвозди и разную утварь, необходимую в походной жизни. Спали где попало, хорошо если оказывались недалеко от дома, а если в другом селе или еще дальше, то приходилось искать сарай, а в нем угол потеплее.
Как младший в артели я делал всю черновую работу. То мусор-опилки собирал, то на морозе, когда все в тепле, доски шкурил — топором кору обдирал, а еще дай-подай-унеси, иди сбегай-принеси. Было и такое, что пьяница и вахлак Гришка после бригадирских нагоняев подошел ко мне, посмотрел мутным взглядом, как я пыхтя конопачу паклю промеж бревен, и вдруг со словами: «И-и-и эх… ни хрена с тебя, Мыколка, толку не выйдет» отвешивает леща и уходит, важно пошатываясь. Обидно. Но главное, почти каждый день сыт, а то и домой продукты принесу, затем и в мастеровые отдали.
А кашеварить была моя обязанность, и чтобы леща не заработать, старался готовить кашу со смаком. Для других, которые и ели не каждый день, наше варево было ох какое сытное. Основа в котле — зерно, лучше пшеница, и сало. На сале готовил почти каждый день. И если оно было в запасе, значит, дела идут. Если сало заканчивалось, все понимали: дела плохи. Путешествуя, сподобился собирать разные приготовления: каши, кулеши, похлебки. Пшеницу старался заранее вымачивать. Сало не все в котел закладывал, а половину вытапливал, затем добавлял зерно, обжаривал, наливал воду, и только в готовую горячую кашу добавлял затирухой другую половину сала.
Как-то возвращались затемно, мужики в телеге спят вповалку, я кобылой правлю, семечками ужинаю. И тут мысль поспела: а что, если пшеницу не вымачивать, а наоборот, прожарить перед варкой? Вон семечки жареные какие вкусные. И так на следующий обед приготовил кашу из вымоченной, но хорошо просушенной и прожаренной пшеницы, правда, сала больше положил, корешков сушеных добавил и в конце чесноком приправил. Попробовал — аж облизнулся. Мужики тогда весь котел выскребли. И потом жен своих попрекали, что не так вкусно готовят.
Жили дружно, весело — работа есть, хлеб добываем. Какого счастья еще мужику надо — только поржать. А сытые мужики на поржать всегда готовы. Был в артели весельчак и балагур Васька. На все, что ни случись, шутки-прибаутки выдумывал. Вот и про кашу мою придумал: «Заведет Мыколка себе дивчину и ну кормить ее кашей. Мыколка к ней жмется, а та от каши никак не оторвется, а он ее ка-а-ак прижмет, тут каша с ей и попрет». Ну и ржут все как кони.
Сидим раз на перекуре, а в ногах у Васьки белый пес прилег, на шапку его шерстью похож. Васька байку какую-то травил про подвиги свои, как очередная селянка его за ремонт курятника благодарила, пока мужик в отъезде. Хихикают артельщики, но вяло, для порядка. Посмеялись, встаем на работу. Васька не глядя хватает за шкуру пса, прилегшего в ногах, и на башку тянет — за шапку свою принял. Пес — визжать и кусаться, Васька — орать и материться. Вот тут уже ржанье так ржанье. Мужики по земле катаются — задыхаются. Аж бугор к стене привалился, в рукав побуревшее лицо прячет.
***
Так пролетело три года. К 14 годам я уже лучше многих с работой справлялся. Никто теперь и думать не мог, чтобы леща мне отвесить или что обидное сказать. А если что сложное надо сделать или человеку важному смастерить, то бугор если сам не брался, то мне поручал. Только запас досок, бревен и других материалов хранился у него дома в сарае. А запасные инструменты, кованые гвозди и скобы, горилка, съестные припасы и всякий хабар за всю артель были у меня на хранении, и я сам мог распоряжаться: бугор мне доверял, и я ни разу не подвел ни его, ни артель. А я никому не доверял и возил все это в телеге и везде держал при себе.
В 1936 году развернулись в Камышине стройки. И школу новую строят, и заводы и, конечно, на строительных мастеровых спрос вырос, особенно на плотников. Приехали и мы с артелью. Пока бугор за нарядами к прорабам, располагаемся у телеги.
Хоть Николаевская слобода всегда с Камышином соперничала, но все же в город приехали, потому оделись в новое, в чистое. Сапоги гуталином смазаны, шапки у кого лисьи, у кого собачьи, по-ухарски на затылок сдвинуты, руки в боки, оглядываемся, семечки лузгаем. Васька-балагур вокруг телеги по-хозяйски расхаживает, изнанку из новой овчины на улицу показывает.
А тут дивчина городская как лодочка мимо проплывает — грудь высокая, пояс, тонко перетянутый, плавно-волнующе переходит в качающиеся изгибы и бедра стройных ног под длинным подолом. Из-под пестрого платка темно-русая коса толщиной в руку в такт шагам по гибкой спинке перекатывается. На наше застывшее внимание — взгляд как вспышка фотографическая, а ноги дальше отмеряют от вдоха и до выдоха, когда уже взглядом не достать ее походку.
Васька, издав нечленораздельно-утробный звук, переходящий в скулеж, начинает движение-порыв в ее сторону, спотыкается, оборачивается к нам, хлопает по карманам, бросается к своему мешку в телеге и бросает взгляд вслед неотвратимо удаляющейся красавице, ошалело смотрит на нас и… замирает в странной стойке.
И тут артельщики тихо, но продолжительно и вразнобой, каждый по-своему, но одновременно: «Ну?», «И?», «Шо?», «Шо дальше то?», хаотично задвигались вокруг телеги и начали хихикать, охать, ахать, булькать и, хлопая Ваську по спине, угукать.
За этим застал нас бугор и, показывая на Ваську, стоявшего над телегой:
— Что это с ним?
— Бабы давно не было, на телегу запрыгивает, — пояснил дед Захар, и только что прохихикавшиеся артельщики зашлись в рыдающих судорогах.
А Васька с тоской смотрел вслед исчезнувшей мечте.
Бугор сообщил, что будем строить и отделывать школу, в основном за еду и крышу над головой, но будут выплачивать премиальные. Еще будем шабашить на других стройках.
Поселились в половине недостроенного барака, который тоже оказался нашим нарядом, его надо было достроить для других артелей и строителей, а потом рабочих завода. В бараке нам определялась отгороженная досками внахлест каморка с двумя нарами вдоль стен. Бугор выхлопотал буржуйку, а я разгрузил и разместил имущество под нарами, приспособил на двери большой амбарный замок и отправил деда Захара в слободу на телеге, груженной мешками с пшеном, картошкой и салом, выданными для артельного котла, для пропитания нашим семьям.
Пока с хозяйством разбирался, бригада уже трудилась, и, освободившись, я к ним присоединился. На подходе к школе посыпались шутки о Ваське, телеге, и «…от греха подальше». Ваську я нашел стелющим полы на втором этаже, когда он выставлял лаги — длинные брусья, на которые потом доска кладется. Я вытащил из кармана чекушку с водой и стал прикладывать по очереди к каждой лаге, чтобы по пузырю воздуха проверить горизонт. Оживившийся при виде чекушки взгляд Васьки от разочарования перешел в насмешливую надменность, когда я оценивающе закивал головой про идеально выставленные лаги. «Доску подавай», — скомандовал Васька, и я впрягся в работу.
Камышинское начальство требовало скорейшей сдачи школы, поэтому работали круглосуточно, посменно, спали по три-четыре часа, перерывы назывались перекуром с дремотой.
Чтобы веселей работалось, мы с Васькой придумали развлечение — он кидает гвоздь, я левой ловлю на лету, а правой одним ударом молотка вбиваю в доску. Затем меняемся, и так, кто больше гвоздей поймал и за один удар вогнал. Я так намастрячился, что, чуть уклонившись, плавно сопровождал гвоздь в полете, заканчивающемся ударом молотка. Потом это движение мне жизнь спасло, когда увернулся от доски, летящей в голову с третьего этажа в лестничном пролете. Если бы не тренировки, она б меня прибила. Потом мою ловкость и доску бригада долго вспоминала.
После основной смены, пока готовилась каша в котле, час-полтора барак доделывали.
Иногда отправлялись на другие стройки, где из-за неразберихи и недоговоренностей случались склоки и скандалы, которые гасились на уровне бригадирских авторитетов.
Но однажды под конец дня бугор, я и Васька пришли на шабашку сарая у строящегося хлебозавода и обнаружили, что там уже кипит работа. «Откель будете, люди добрые?» — крикнул бугор. И вдруг незнакомые ватажники, громко чокая и шокая, побросав работу, угрожающе двинулись на нас. Впереди, зачем-то поигрывая ножичком, двигаясь как на шарнирах, приблизился странный тип, показушно сверкая вставным зубом. «Ты ктой такой будешь, дядя, чтобы спрашивать?» — прохрипел тип и сплюнул бугру под ноги. Васька, несмотря на невыгодную численность, кинулся было вперед, выхватив из разноски малый топорик, но бугор остановил его властным жестом и важно, даже важнее и спокойнее, чем всегда, медленно, с долгими паузами между словами произнес:
— Плохо, что меня не знаешь. Я Хмурый. Жду всех на берегу утром.
— И кто ж там будет? — явно сникший бугор ватажников пытался сохранить форс.
— Все там будем, — ответил бугор и, повернувшись, пошел обратно.
А мы пошли за ним, опасаясь нападения со спины, но сзади стояло тягостное молчание, и мы тоже молча шли до самого барака.
У входа в барак бугор разослал нас с сообщениями о сходке к другим бригадирам. И когда я мчался к мастеровым с Быково, соседствующим с нашей Николаевской слободой, вспоминал рассказы о стародавних сходках поволжских артельщиков-ватажников, от мастеровых до бурлацких и каторжных, когда в одном месте собирались все ватаги, и бугры представляли на сход свои беды и предъявляли их виновным. И бывало, что такие встречи заканчивались побоищами.
Сообщив бугру быковских Наилю о сходке, я пересказал ему встречу с непонятными ватажниками. Постреляв восточными глазами, Наиль, крепко сбитый мужик, про которых говорят: что поставь, что положь, сказал: «Не знаю таких. Хмурому скажи, я с ним».
По возвращении в барак я застал всех в сборе в обсуждениях и предположениях. А когда уже спали, пришел камышинский бригадир, не бугор артельный, а бригадир заводских строителей Алексей, который, извиняясь, сообщил, что давешние ватажники с шабашки сарая обманом перебили у нас наряд, но теперь, услышав, что их будут судить на сходе, снялись и уехали в неизвестно куда. А еще он передал слова участкового, что если тот услышит о сходках и драках, то не поздоровится всем.
После его ухода бугор подозвал меня: «Назавтра на берег вывезешь всю горилку, что есть, а сейчас дуй к Наилю, пусть туда же барана подвезет», и сунул мне матерчатый сверток, в котором я почувствовал шуршанье денег.
С рассветом наша бригада, все восемь человек, уже ждала в условленном месте на берегу. Перед нами тачка, наполненная чекушками, поллитровками, четвертями с горилкой и нашими кружками.
Стали подходить другие артели и становились в большой общий круг, притоптывая, пробуя плотность мокрого песка каблуками. Бугры подходили к Хмурому, важно здоровались, сообщали что знают, что не знают о буйных чужаках и заявляли поддержку. Мы здоровались со знакомыми мастеровыми. У всех заткнутые за пояса топоры.
Подъехал Наиль на телеге, на которой стоял большой котел. Подошел, обнялся с нашим бугром, о чем-то пошептался и вернулся к своим хлопцам. Последним подошел Алексей с мешком и положил его Наилю на телегу.
— Хмурый, зачем звал? — громко спросил усатый бригадир в армейских сапогах, галифе, потертой кожанке и кубанской папахе.
— Товарищи! — вышел на середину бугор. — Я позвал вас, чтобы отметить наряды, которые помогут нам и нашим семьям прожить этот год. Поэтому прошу отведать, чем бог послал.
Наиль стал выкладывать из котла на чисто ошкуренные доски на чистой соломе куски вареной баранины и рядом большие чесночные головки, я стал выкладывать бутылки с горилкой, а Алексей выложил из мешка караваи хлеба, после чего набулькал себе в кружку горилки и закричал:
— Товарищи, мы, трудовой народ, безмерно благодарны товарищу Сталину, Всероссийской Коммунистической партии большевиков и Советской власти за оказанное доверие. Это доверие мы оправдаем ударным трудом. Да здравствует Коммунистическая партия большевиков, да здравствует товарищ Сталин! Ура, товарищи!
После этого опрокинул кружку, рыча оторвал кусок хлеба, схватил кусок баранины и, занюхивая, ляпнул им себе по морде.
Артельщики степенно подходили к телеге, отламывали краюху хлеба, брали чеснок с бараниной, но от горилки в основном отказывались: предстоял тяжелый день, предпочитая кружками зачерпнуть наваристый бараний бульон из котла. Разбились по группам, беседовали, рассказывали. Бугры обсуждали наряды и местное начальство.
Так, совершив еще по паре подходов к телеге с котлом, мастеровые подходили к нашему бригадиру, к Наилю или к кому-нибудь из нас, жали руки, благодарили и расходились по своим делам.
***
Прошел месяц изнуряющих дней и ночей, и однажды бугор пришел в приподнятом настроении, распахнул потрепанное, но крепкое кургузое пальто и вытащил сверток с банковскими билетами. Я, конечно, видел раньше деньги, но имел их у себя в первый раз. Бугор стал раздавать их по сто рублей каждому. Так у меня в первый раз появились свои деньги. А где хранить? Что с ними делать? Отдать родителям или гостинцев накупить сестре с братьями? Или себе купить одежду и обувь? А пока я, как бугор, достал из мешка новую, неношеную портянку, завернул в нее купюры и спрятал.
За время работы я сдружился с Васькой-балагуром. Подрастающему юноше было интересно слушать богатые подробностями рассказы о девушках, их характере, телосложении, скорее, особенностях тела, общении с ними, как влюбить в себя или обратить внимание, если сам влюбился.
Главное, чтобы с дивчиной подружиться, а потом и влюбить в себя, как считал Васька, надо быть богато и красиво одетым. Какой бы красавец ни был, девки смотрят на обувь, штаны и что сверху, потому что как они сами любят наряжаться, так и ты при ней как шмотка нарядная должен быть. Каждая представляет, как она с тобой перед подружками, парнями и знакомыми прохаживается и как все на нее, когда она такая под ручку с тобой, смотрят, оценивают, и что потом скажут.
Вариантов приодеться у нас с Васькой было немного. В магазинах на готовые одежды мы и не рассчитывали, что в Камышине, что в Николаевской слободе, цены такие, что там только начальство и деляги смогут наряжаться. Оставалось только искать удачу на базаре. И вот после того, как пришла еще одна премия и 50 рублей за шабашку накинули, я увидел на базаре костюм. О темных костюмах из ткани в косую линию я мог только мечтать. В магазинах такие самые дешевые стоили 600 рублей, а этот не сильно поношенный скромная женщина продавала за 150 рублей. Она рассказала, что сын подружки вырос, потом в армию забрали, а костюм почти новый, после 8-го класса в Сталинграде покупали. Васька стоял рядом, молчал, семечки лузгал. Потом говорит: «Бери, потом кое-что покажу». Я расплатился, долго ковыряясь с тряпкой вместо кошелька, после чего мы с Васькой пошли к его знакомой. Васькина знакомая работала в швейной мастерской и брала заказы на дом. За 10 рублей она согласилась ушить и укоротить брюки, подшить чуть обтрепанную подкладку на рукавах и еще сшить мне рубаху. Чуть позже за 20 рублей я договорился, что она сошьет двое штанов и две рубашки для моих братишек, сняв мерку с пойманных похожих по размеру дворовых ребятишек.
Так за сезон я оделся, считая башмаки, сшитые у сапожника за 50 рублей, одел обоих братьев, добыл матери и сестре отрезы на платье и еще 100 рублей привез родителям.
Глава III. Юность
Когда вернулись с Камышина, смастерил плот, и в ночь с дружками плавали в камыши, чтобы вилами тройчатками при свете луны бить сомов и больших щук. На мелочь в этой охоте и внимания не обращали. Лещи между зубцами вил проскакивают, суеты много, а еды мало.
Плывем. Два дружка по бокам толкают плот дрынами, а я на носу с вилами, к руке привязанными. Сзади меня четвертый друг с большим деревянным молотком-киянкой стоит на плоту, ждет. Я при свете луны внимательно всматриваюсь в песчаное дно, и когда вижу спящего сома-лежебоку или притаившуюся щуку — резко, со всей силы втыкаю в мясистое бревно вилы, кричу: «Есть». Два дружка спрыгивают с боков к пригвожденной добыче и хватают за жабры. Как ухватят, теперь уже они кричат: «Есть», и втроем, я вилами, они за жабры, сражаясь с ударами хвоста, вытаскиваем чудище на плот. А тут уже деревянный молотобоец как треснет рыбине по башке, и после этого ее в мешок можно. Здесь каждый своего дела мастер: я точно попасть, боковые поймать жабры, ну а молотобоец, понятно, если с одного удара не отправит спать чудище, особенно щуку, или по нам кому попадет в темноте (было дело), она может и нас раскидать, и плот перевернуть. Так мы кормили волжской рыбой не только наши семьи, но и родственников и соседей по улице. Притащим с берега каждый по мешку здоровенных рыбин, вывалим в одну кучу и делим по честности: при полной луне один становится спиной, а я беру рыбину и спрашиваю:
— Кому?
— Мне, — говорит, а я кидаю в одно место.
— Кому?
— Тебе. — Кидаю в другое.
— Кому?
— Егору. — Кидаю в третье.
Так получается четыре большие кучи, которые разносим по домам, а с рассветом мать с отцом уже делятся с родственниками и соседями.
А еще на плоту повадились с дружками вдоль берега проплывать, братьев, сестер и их друзей-малышню катать. Однажды возвращаемся, накатавшись, я в одних портках, мокрый весь, загорелый, а тут Маруська белобрысая подходит:
— А меня что не катаешь, я тоже кататься хочу.
А сама в светлом сарафане, руки голые, волосы цвета пшеницы заколосившейся по плечам распущены, губы яркие пухлые в улыбку сложены, щеки с ямочками румяные, загорелые, и глаза зеленые из-под густых ресниц смотрят, будто медом намазаны. Только от предчувствия подсаживания этой дивчины на плот и мыслей, как ее катать, бросило в жар, забухало в груди и стало тяжело дышать. Спасла моя привычная белозубая улыбка, скрыла панику и восторг одновременно. Сладкому беспокойству было от чего явиться.
На днях на зорьке с младшими братишками таскал раков в заводи, а за мысом пришли бабы и девчонки белье полоскать. Увлекшись поисками и выбрасыванием раков на берег, я выдвинулся из-за бугра и, подняв голову, увидел в десятке метрах от себя одетую только в нижнюю рубаху неожиданно подросшую Маньку, которая, наклонившись, что-то полоскала. Широкий вырез гостеприимно раскрывал белоснежные сахарные холмики с клубничками на вершинках, а высоко закатанный белый подол ярко подчеркивал стройные загорелые ноги юной девушки.
Я резко отвернулся и в том же положении пошел обратно шарить по берегу. Сделав шаг, запутался ногой в водорослях, развернулся, распутывая склизкую траву, а взгляд сам повел в запретную сторону. Машка по-прежнему полоскала, а я замер, завороженно наблюдая, как она плавно переступает голыми ногами, отчего подол стал спадать с одной стороны. Чтобы не намочить его, Маша выпрямилась и отвела ногу в сторону. Отложив полоскание, перехватила подол и закатала его почти до пояса, выше загорелого, выше белых гладких неожиданно полных ног. Вдруг спокойно посмотрела на меня и… ничего не тая и не прячась, продолжила полоскать. Этот проникающий взгляд, красоту открытых ног, упругой груди и прорисованную под тонкой материей стройную фигуру я буду помнить всю жизнь.
Когда разогнулся, увидел, как вокруг меня сначала единицы, затем стало больше, еще больше, много-много белых искр, так что, шатаясь, еле дошел до берега, где присев переждал странное состояние.
После этого картина полоскавшей белье Марии, загорелой, чуть прикрытой белой тонкой рубахой и в искрах вокруг, всегда была со мной, не давала сосредоточиться на работе, не давала заснуть. А тут сама явилась не в мечтах, а настоящая, яркая, приветливая.
Не желая выдавать волнения голосом, я принял важную позу капитана корабля и небрежным командирским взмахом пригласил стоявшую на берегу Марусю на борт, тихим голосом спрашивая дружка Вовку:
— Будешь править?
— Ага… — с вызовом ответил Вовка. — Еще чего, влюбился, что ли?,— И, передав мне шест, спрыгнул на берег.
Мы уже находились в том возрасте, когда мечтали о нечаянной дружбе и случайных приключениях, особенно в жмурках и догонялках, но в показухе от девчонок надо было гордо и независимо держаться подальше, а то задразнят.
Маша подобрала подол, глянула на меня и босая легко вспорхнула на плот, поймала и уже не отпускала мою руку. Плот почти не шелохнулся от появления пассажирки, при этом тоненькая фигурка девушки оказалась в кольце моих рук, держащих шест, так что править стало невозможно, и мы медленно поплыли вдоль берега. Я старался балансировать ногами, а Маша, прислонившись ко мне спиной, обеими руками прижала мою правую руку к своей груди. Чувствуя горячие упругости ее тела, я боялся появления белых искр, но необходимость сохранять равновесие держала меня в этом мире и не давала терять сознание. Вот так течение и принесло нас в заросли ивняка, где плот мягко ткнулся в берег, а я, бросив шест, зацепился за ветку и посмотрел на Машу. Некоторое время я любовался лицом девушки: густые ресницы закрытых глаз дрожали, губы в полуулыбке, и я осторожно прикоснулся губами к ее щеке, ощутив запах степных цветов от ее волос. Маша ахнула и улыбнулась. Осмелев, но очень осторожно, я продолжил поцелуи от виска до уголка губ, которые вдруг разомкнулись и прильнули к моим губам.
Но тут с невидимого за зарослями ивы берега раздались детский смех с прибаутками и обещаниями все рассказать родителям. Придя в себя, я выгреб к берегу, к хохочущей детской ватаге и Вовке, стоящему на берегу со скрещенными на груди руками.
Вечером, когда вся молодежь и подростки шли гулять по улицам слободы, мы встретились с Машей и, держась за руки, пошли в заброшенные помещичьи сады, куда уходят все николаевские влюбленные, чтобы до утра провести ночь в поцелуях.
***
Утром меня вызвал председатель и вручил направление в тракторную школу. О том, что у меня есть работа, которая мне нравится и кормит семью, никому не интересно. Колхозу нужны трактористы, стране нужен урожай. Я дошел до бугра, который нахмурился, услышав об окончании нашей трудовой дружбы, покачал головой, но и он ничего поделать не мог, колхоз, как говорится, дело добровольное: хочешь — работай, не хочешь — раскулачат.
Повезло, что школа находилась в Николаевске, не пришлось уезжать. И, как оказалось, с тракторами очень занятно возиться.
Учились на машине Сталинградского тракторного завода — тракторе СТЗ 15/30. Весь железный, блестящий, приятно пахнущий машинным маслом, после телеги представлялся грандиозным чудом. До этого я с металлом работал, когда помогал отцу мастерить печи из жести. Но жесть мягкая, податливая, а чтобы форму держала, надо было делать загибы и швы. А трактор внушал надежность и основательность. У него все было из толстого металла: колеса, рама, кожух двигателя, сам двигатель, даже сиденье. Здоровый картер, закрепленный на цельнометаллическом корпусе. Внутри картера четыре цилиндра на шатунах, идущих от коленчатого вала, интересная штука получается: два цилиндра вверх, два вниз (и как додумались), взрывами возгорания солярки внутри цилиндров толкают поршни на коленчатый вал, который через узлы, механизмы и передачи двигает большие железные задние колеса.
Но вот под двигателем у железного чудища чугунный поддон весом больше 20 кг. И в конце смены тракторист должен слить масло, открутить и снять этот поддон. Раскрутить шатуны, выбить баббитовые вкладыши и поставить новые. Каждый тракторист обязан иметь на смене 2–3 комплекта таких вкладышей. После замены отработавшие свое вкладыши надо было сдать в кузню и получить новый комплект. Если баббиты в кузне будут некачественные, придется дважды их менять за смену. Я сразу смекнул, что кузнец, как любой мастеровой, просто так корячиться не будет, поэтому, если хочешь получить качественные запчасти, надо подмаслить чем-нибудь, а то скоро по два-три раза за смену поддон снимать придется.
Поэтому, когда мастер начал искать, кто пойдет в кузню, я вызвался первым. Вот сейчас и проверим, решил я, подходя к кирпичной закопченной постройке.
— Здорово будете! — громко поприветствовал я обитателей железной кухни.
— Чего тебе, хлопец? — из-за покосившейся двери показался чумазый дядька.
— Во, — кивнул я на тачку с отработанными баббитовыми вкладышами.
— А-а-а — разочарованно протянул дядька — Туда вали, — и показал на угол, на кучу бараньих шариков.
— Там уже навалили, — показал я на кучу.
— Та нечЕго, — махнул рукой кузнец. — И ты вали.
— Ты это из них, что ли, робишь? — оскалился я.
— Могу и с этого, — поддержал мужик.
— А чтоб ходили долго?
— Могу, чтоб долго, — и скорчил хитрую гримасу.
— А для можешь магарыч треба?
— Ну так ясно, что мясо красно.
— Ну так мясо пусть бабы носят, а я досками да руками богат, а? А то у тебя весь инструмент сопрут.
Мужик покосился на полуоторванную прогнившую дверь, потер косматую бороденку и закивал головой:
— Давай, хлопчик, я слышал про твои руки, вываливай вон туда и забирай вон с того полка, да с дверью не тяни.
— Добро, — сказал я, собирая вкладыши с отдельной кучки.
***
Я быстро освоил механику, но худым недокормленным колхозным мальчишкам было тяжело снимать тяжелый поддон, оттаскивать его, а потом опять подтаскивать, таскали мы его вдвоем-втроем, поэтому я смастерил носилки, затем приделал к ним колесики, как на строительной тачке, только с четырех углов. Теперь открученный поддон опускался в носилки на кирпичах, кирпичи отваливались и поддон откатывался, после чего можно было легко орудовать с шатунами и вкладышами.
Но мне не терпелось сесть за управление. Я мечтал, как буду управлять таким железным конем. Задолго до того, как сел в железное сиденье, я представлял себя верхом на тракторе. Почти как с кобылой Глашкой, запряженной в телегу, и даже вожжи есть, чтобы управлять, только еще легче. Крутишь рулем, а он тянет рычаги за переднее колесо, которые так и называются — рулевые тяги. Крутишь вправо — железная вожжа поворачивает колесо вправо, крутишь влево — колесо влево. После телеги все просто. Но другие мальчишки никак не могли совладать с рулем, то в одну сторону их укатит, начинают крутить-накручивать — укатываются с дороги в другую. Кроме меня, ни у кого сразу не получилось. Но со временем все освоили. А когда проехал вокруг поля и почувствовал, что свободно управляю этой махиной, не заглядываясь ни на педаль, ни на рычаги, свободно разгоняюсь и спокойно маневрирую, я запел от счастья, от нового приобретенного богатства. Именно так я считал свой навык, новую способность.
А по вечерам, конечно, я мчался к Маше, где взахлеб рассказывал про свои успехи, а ей до дрожи нравился мой запах солярки и машинного масла, и мы с нетерпением ждали, когда я начну работать в поле, чтобы катать ее на тракторе.
Закончилось обучение, но радость от работы и возможности владеть трактором сменились тяжелым утомлением. Особенно от постоянного шума и вибрации. От накопившейся усталости не спасали короткие ночные перерывы. Даже ночью во сне я тарахтел и не мог отделаться от зыбкой тряски и гула в ушах. Просыпаясь среди ночи, когда всего колотит и в ушах рычит, приходилось, чтобы опять уснуть, выливать на себя ведро воды. Только заснешь, а там опять поле, всего трясет, аж душу вытрясает, и дизель орет. Иногда помогали ночные купания, бултыхаюсь, пока не посинею, тогда сон крепче. Но так неохота отрывать время от короткого сна.
Мужики горилкой спасаются. Остограммятся и спят как младенцы, но можно перебрать или самогон плохой достанется, тогда с утра не работник, и можно в саботажники записаться, а там и до тюрьмы недалеко.
Спасение придумала Маша, заменив собой все другие лекарства.
После тяжелого дня я на тракторе приехал на берег Волги окунуться в прохладу, снять усталость, а из воды выходит голая Маша с венком из трав с цветками на голове. Как русалка, со смехом потащила меня в воду. А в воде стала недотрогой, и я, забыв об усталости, долго гонялся за ней, пока не захватил и, целуя во все доступные голые места, потащил на берег. На берегу она вырвалась и опять заставила погоняться за собой, а когда догнал, сильно обвила меня руками, ногами и впилась губами в мои губы. Потом отстранилась и спросила: «Устал?», а я, почувствовав прилив сил, замотал головой и опять стал покрывать ее поцелуями от макушки до пяток.
Когда счастливые и утомленные мы лежали обнявшись, я провалился в глубокий сон. Проснувшись от Машиного смеющегося взгляда, думал, что проспал всю ночь, потому что выспался, готов был пахать на тракторе, бежать по дороге и любить Машу, а оказалось, что я ненадолго отключился.
Проводив любимую, я ушел на сеновал, где до утра проспал здоровым счастливым сном.
Так прошло два года, когда приходилось не слазить с трактора от рассвета до ночи. А ночью Маша встречала меня на берегу Волги, и мы, как Адам с Евой, проводили в раю счастливые мгновенья.
За вспашкой — посевная, за посевной — прополка, затем уборка и заготовка кормов, опять вспашка. Адский труд. Вернее, для меня прошел один посевной, уборочно-заготовительный, а второй посевной-уборочный, потому что при той уборке недосчитались пару тонн зерна. А это в лучшем случае десятка лагерей за растрату. Случилось так, что сначала учетчик со счета сбился, рисуя в тетрадке обломанным карандашом рейсы с поля, затем председатель в райком доложил о перевыполнении. В тот год все снимали высокий урожай, но мы перестарались.
Мы еще не знали, что председателя переспросили сначала с райкома, затем перезванивали с обкома партии, а наутро на колхозном току объявились бухгалтер-ревизор с области, а с ним бригада с тетрадками и ведрами, которые перемерили весь ток и доложили о недостаче двух тонн и трех с лишним центнеров зерна.
Ночью всех трактористов и водителей собрали в правлении, рассадили по разным местам, и два уполномоченных, один в форме, другой в форме без знаков различия, принялись допрашивать нас о том, что видели, когда, кто и кому скинул зерно. Допрашивали вдвоем, по очереди, вразнобой и вместе, и криком, и вкрадчивым шепотом. Одинаковые слова, что молотил, ничего не видел, с трактора не слазил, назвали сговором, и что дальше мы будем молотить лес в Сибири. Когда дошла очередь до меня, уполномоченный вышел, а я обратил внимание на тетрадь учетчика, раскрытую на странице с кривыми рядами цифр.
Когда я получал гвозди на складе в Камышине, случайно узнал хитрость складского учета, который мне объяснила симпатичная девушка-кладовщица. Плавно покачивая бедрами, двигаясь по досточке мимо ящиков с гвоздями, она томно, чарующим голосом считала их от одного до десяти и жеманно ставила карандашом точку в тетради, еще десяток — точка справа от первой, и когда насчитали пятьдесят ящиков, получилось четыре точки по углам квадратика и одна посередине. Дальше шестой десяток — первая линия, соединяющая верхние точки квадратика.
Когда насчитали девяносто, получился квадрат с точкой посередине, как досчитали до ста — перекрестили квадрат внутри. Так, перекрещенный внутри квадратик означает сто. А если семьдесят пять, то у квадратика линия сверху, сбоку справа и линия по диагонали от правого верхнего угла к левому нижнему, как стрелка. На этом месте, когда мы оказались между ящиками, я все понял, стал восторгаться новыми знаниями, пытался заглянуть через плечо девушки в тетрадку, нечаянно приобнял, а девушка развернулась, прижалась ко мне всем телом так, что я оказался вжатым в ящики, и губы в губы стала высказывать, как нехорошо приставать к незнакомым девушкам. Это было, я вам скажу, испытанием для 15-летнего юноши.
В общем, в складском учете все ясно, понятно, никогда не ошибешься. А тут, у Леонтия, звеньевого на току, какие-то палочки, кривые линии и пирамидки цифр вместо столбцов, причем все разного размера, так что столбцы налезали друг на друга, а внизу стояла жирная цифра 123, обведенная кружком, что означало количество тонн зерна за день. Пока уполномоченный что-то выяснял в коридоре, я взял с соседнего стола клочок бумаги и пересчитал в столбик, внимательно считая только нужный столбец, и оказалось 99 550, столько же, сколько намеряла ревизия.
И когда уполномоченный сел за стол, громко хлопнул по нему ладонью и что-то нахраписто хотел сказать, я пододвинул ему тетрадь Леонтия и приложил в нужное место листок с цифрами. Несколько секунд, он, шевеля губами и шмыгая носом, изучал расчеты, сверял с записями, затем зло посмотрел и проорал:
— Ты че мне тут, самый грамотный?
— Товарищ Сталин сказал: «Чтобы поднять страну, надо поднять грамотность», — процитировал я плакат на школе.
— Никому не показывай, понял меня? — прошипел он и смял листок в руке.
— Понял.
«Математика — точная наука», — вспомнил я слова школьного учителя.
— Пошел вон.
И я с радостью выскочил на улицу. По дороге я наскочил на сидящего на лавке у входа Леонтия, который смотрел в одну точку себе под ноги, всхлипывал, охал и испускал сивушный дух. Тогда я пошел искать председателя, которого нашел на заднем дворе за накрытым столом в компании членов комиссии из райкома, угощающихся чаем из графина. Я рассказал председателю о своих расчетах так, чтобы слышали все члены комиссии, при этом бухгалтер-ревизор с области фасонисто повернулся к мужчине с папкой, прибывшему с района, и спросил:
— А вы что же, Лексей Лексеич, с первичной-то документацией не ознакомились?
— О чем вы, товарищ ревизор, я с этой белибердой? Где здесь прием по правилам заполнения учетных документов, как того требует инструкция ЦУНХУ Госплана! — с подвизгом возражал товарищ из райкома.
— Ну что вы, Алексей Алексеич, — протяжно заговорил председатель, — ну где же я таких, как вы, грамотных людей у нас в колхозе найду?
— А вот мы Лексей Лексеича к вам на ток и откомандируем, чтобы учет наладил и специалиста подготовил.
— Что вы со своими отговорками, где да где, а этот грамотный хлопец, — перебивая ревизора, кипятился Лексей Лексеич, — видно же, обученный, что вы нам голову морочите.
На следующий день Лексей Лексеич сунул мне в руки книжку в бумажной обложке с названием «Инструкция по заполнению учетных документов по определению урожая зерновых культур», сказал, чтобы я ее изучил, а он меня потом проверит, и уехал. А председатель назначил меня помощником бригадира механизаторов с обязанностями учета зерна на току.
***
Впервые за эти два года, а может, и за всю жизнь в горячую пору уборки я мог блаженно растянуться на травке в тени и покусывать травинку. Когда видел подъезжающую машину или телегу, груженную зерном, я не спеша двигался в сторону места выгрузки с тетрадкой и карандашом, где точками с квадратиками считал ведра, которыми колхозницы выгребали зерно на подготовленную площадку — ток. После этого до приезда следующей машины вносил цифру в нужную клеточку установленного бланка учета из инструкции, который сам карандашом вычертил в тетрадном листочке. В конце дня оставалось только внести сумму цифр из бланка в складскую книгу, подшить этот бланк к остальным, за предыдущие дни, и закрыть зерносклад на замок.
При этом я оказался не только помощником бригадира механизаторов, но и начальником женской бригады, которая зерно на ток перегружает, а они на каждое мое слово хором отвечают. А то и слов не надо, чтобы птичий гвалт начался.
Таисия, миловидная девушка, загребает ведром зерно с кузова, а ветер под всеобщее ликование задувает подол ей на голову.
— Колька, трусы у Тайки видел, жениться должон!
— А у кого я тут трусов не видел? На всех, что ли, жениться?
А мне хором:
— На всех. По очереди. Крестики-квадратики не забудь ставить, на ком сколько!
— Мои не видел! — кричит тетка Луша.
Хор:
— Быстрей показывай. А то без жениха-начальника останешься.
— Че показать, чем на чайник присаживаться? Сейчас. — Лукерья поворачивается и делает вид, что задирает подол юбки.
Всеобщее женское ликование.
— А если я с этой радости со счета собьюсь, перегружать будете.
В общем, наладил я учет на зерновом складе.
Глава IV. Служба
Накануне нового, 1941 года пришла повестка в армию. Cдав склад, буйно отмечал Новый год и проводы. Моя первая любовь уехала с семьей в Сталинград, где ее отец устроился на тракторный завод. Маруся обещала писать, но скоро узнал, что она познакомилась с молодым инженером и собирается замуж. Ну что же, скатертью дорога, девчонок у нас много.
Впервые много пил водки, самогона и тому подобного. Передвигаясь от дома к дому, от стола к столу, часто с веселыми девчатами на коленях, а тем более просыпаясь с бодуна в чужом доме, а то и на незнакомом сеновале, дрожа от холода, о прежней любви больше не вспоминал — занят был.
Я начинал новую жизнь и легко, с радостью подарил свой гардероб отцу и младшим братьям: черный строгий костюм, которому завидовал председатель, спортивные брюки, три рубашки и две футболки со шнурками, спортивная куртка. Короткое пальто из плотного шикарного драпа а-ля Хмурый, только новое, и новый полушубок из белой овчины а-ля Васька-балагур с волчьим воротником. Три шапки-ушанки: лисья, собачья и кроличья. Но особая гордость — обувь. Две отличные пары ботинок: одна добротная пара для работы, а другая — штучный образец от знакомого сапожника под заграничный фасон. И самое главное — охотничьи сапоги из толстой, но мягкой яловой кожи отличного качества темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, которые достались мне, когда мастер нуждался в деньгах, а заказчик два месяца не являлся за ними. Я почти их не надевал, но часто примеривал и мазал гусиным жиром. Очень хотелось пойти в них в армию, если бы не цвет, фасон, и наверняка бы их отобрал у меня первый же командир-начальник. Но как бы они шикарно смотрелись с военной формой!
Когда восьмого января сорок первого года я прибыл в райвоенкомат, то представлял страшное зрелище. Недельный перегар и щетина. На ногах портянки, всунутые в дореволюционные калоши 46-го размера (не знаю, как они оказались в нашем маленьком доме), каждый по килограмму с гаком, прожженный ватник и дедовский треух из загадочного меха. В довершение к этому разбил себе нос так, что разнесло все лицо.
Военкомат располагался в старинном двухэтажном особняке с крутыми лестницами, и, спускаясь сверху, загреб носищами калош так, что своим носом посчитал полтора десятка ступеней вниз, получив первое военное ранение. Нос сломал, синяки под глазами, но как только кровотечение остановилось, признали годным к воинской службе.
Наверное, из-за вида не попал в танкисты, потому что все трактористы уехали одной группой, когда военком приговаривал: «Кого поприличней». Ну, тут понятно, на приличного призывника я похож не был. Через какое-то время меня и других неприличных перевели в Камышинский призывной пункт, затем дальше, и так почти два месяца.
Запомнился Сталинградский призывной пункт, где вкусно кормили наваристой кашей с армейской тушенкой и командовали подтянутые сержанты в отутюженной форме и начищенных сапогах. Мы ночевали в казарме, которую учились доводить до блеска: стекла окон, ручки дверей, даже деревянные полы, отполированные специальным составом, сваренным из хозяйственного мыла и воска. Кровати, подушки на них, мощные табуреты, ошкуренные осколками стекла, все не менее часа ровнялось по нитке. Как сказал про нашу казарму приехавший за призывниками командир: «Блестит, как шахматы».
Мне было неловко за вахлацкий вид, и я постарался сменить обувь, постригся наголо и побрился. Мы впитывали рассказы сержантов о службе и радостно ржали от армейских баек. Как ни странно, мы держались ближе к сержантам. От них я узнал о дисциплине, о том, что есть ефрейтор и старшина, которые на ближайшие годы будут роднее папы с мамой. Как пришивать подворотнички на ворот гимнастерки, чистить сапоги, ухаживать за оружием. Я узнал, что такое армейский порядок, который работает как отлаженный механизм, где каждый солдат, сержант и офицер как качественные детали мощного механизма четко выполняют свои функции.
Несколько раз перед нами выступали офицеры и политработники, которые рассказывали, что такое рабоче-крестьянская Красная армия, сокращенно РККА. Чем она отличается от армий капиталистических стран, где офицеры набираются из правящего класса, а солдаты нанимаются. В отличие от них, наша армия рабочих и крестьян. Офицеры в ней — плоть от плоти трудового народа, подготовленные красными военными профессорами, передавшими опыт своих побед в империалистической и гражданской войнах. И что самое главное, нашу армию поддерживает весь советский народ, потому что она защищает нашу Советскую Родину в отличие от иностранных армий, которые защищают капиталы своих нанимателей-колонизаторов.
Главное выгодное отличие РККА от армий других стран, которое я усвоил, это отличие набора в армию по призыву и по найму. В нашей армии солдат, пройдя боевую подготовку, возвращается к мирной жизни, остается солдатом и всегда готов, если начнется война, снова встать в строй. Профессиональные наемные армии империалистических стран воюют с мирным населением своих колоний, а в войне с серьезным противником способны на один бой, поэтому войны у них называются кампаниями. Но случись настоящая война, потери надо будет восполнять свежими силами, которых у буржуев не окажется. А когда объявят мобилизацию, то призовут неподготовленных людей, обреченных на поражение и плен. Это уже подтвердилось поражением Франции и Польши, когда одни из лучших армий Европы проиграли, а страны захвачены.
Перед нами выступил пожилой воин, прошедший империалистическую и гражданскую войны, участник обороны Царицына, который рассказал, что город имел большое стратегическое значение, находится на пути на Кавказ к нефтяным месторождениям, а также на юг России и Среднюю Азию. Для взятия Царицына белогвардейцы собрали несметную армию под командованием своих лучших генералов: Деникина, Краснова, Мамонтова. Но товарищ Сталин собрал под своим командованием всю артиллерию Красной армии, ввел грамотное тактическое руководство, основанное на крепкой обороне и маневрах с ударами во фланг противника, и смог отстоять Царицын, что привело к победе в гражданской войне. Поэтому в благодарность советский народ и Коммунистическая партия назвали город Сталинградом.
***
В марте 1941 года меня направили в крымский город Джанкой, где формировался учебно-резервный авиаполк (7-й УРАП), в батальон аэродромного обслуживания (БАО). Природа, как в Поволжье: степь, сухостой перекати-поле, а вместо сусликов жирные хомяки.
В батальоне выдали форму х/б, вещмешок, шинель и повседневное обмундирование — черный комбинезон. Вместе с ботинками и пилоткой это лучше, чем ботинки с обмотками, которые из солдата делали клоуна. Я с детства мотаю портянки и считаю, что в походных условиях они практичнее носков. Но обмотки — это от безумного тыловика, который жмется выдавать солдатам сапоги, чтоб те не в атаки бегали, а спотыкались и падали. Я их так и не научился нормально мотать. У меня всегда так: если встречаю глупость, отваливается способность схватывать на лету. Необходимость обмоток, кроме бедности снабжения, никто не смог здраво объяснить. Мокнут от росы, не говоря про лужи, цепляются за коряги и разматываются, и кто бы ни мотал, все равно размотаются. Единственное назначение — стоять в строю. Правда, я встречал виртуозов, которые гордились натяжным обматыванием и совершенством своего искусства — защипки наверху, замазывание гуталином, даже полирование. Но любой профессор обмоток всегда с радостью переобуется в сапоги, только дай.
На аэродроме я впервые увидел самолеты и пошел любоваться. Когда подошел к большому, мощному красавцу, то остановился в восхищении. Он поражал размерами и плавными контурами. Я ходил вокруг него, гладил обшивку, трогал соединения колес шасси, восхищался совершенством деталей, интересными решениями соединений. Теперь трактор СТЗ-15/30 казался громоздким, неуклюжим уродцем. Тут подошел настоящий живой летчик. Он был чуть старше меня в таком же черном комбинезоне, только отглаженном и перетянутым портупеей с кобурой, а в отвороте виднелись два кубаря на голубых петлицах. На голове фуражка летного состава, а в руке летный кожаный шлем.
— Это бомбардировщик АНТ-40, — сказал он, — устаревшая модель, уже есть более современные, разгоняются в небе до 500 км/час. Скоростной бомбардировщик, но плохой обзор и маневренность. Японцы их сбивали на Халхин-Голе.
— Да ладно, — сказал я для поддержания разговора.
— Кто по образованию?
— Механизатор, — тихо сказал я.
Тут подошел авиамеханик и еще один летчик, которые, узнав, о чем разговор, заспорили. Во-первых, говорили они, АНТ-40 — это модель базовая, а не устаревшая, во-вторых, на Халхин-Голе они нормально воевали, и только в начале боев некоторые летчики не имели боевого опыта, а затем перехватили инициативу и перебили все самолеты Квантунской армии. И в Испании эти бомбардировщики со способностью истребителей почти переломили ход войны. В общем, разгорелся жаркий спор на жаргонно-техническом языке, который я не мог понять, но слушал и наслаждался. Со стороны могло казаться, что я, деревенский простофиля, стою рядом с ними с открытым ртом. На самом деле я впитывал и запоминал каждое слово, старался раствориться в летной атмосфере, при этом твердо решил изучить все механизмы на аэродроме.
Спор явно не сейчас начался.
— Ну и где твоя Испания? — не соглашался критик АНТ-40, — республиканцы проиграли.
— Республиканцы проиграли, потому что франкистов снабжали все европейские буржуи, а после гибели Мате Залки интербригады не смогли объединиться под одним командованием. Но любой тебе скажет, что АНТы и И-15 в небе Испании добились превосходства над люфтваффе.
Тут оба летчика заметно стушевались и перешли на технические доводы. Нельзя было обсуждать Германию как противника.
Дальше спор перешел на И-15 бис, который тоже устарел, потому что развивал скорость не больше 350 км в час, предыдущий И-15 был более удачный и маневренный. Но оппонент заявил, что И-15 принято хвалить, потому что хорошо зарекомендовал себя в Испании и на Халхин-Голе, а испанцам они понравились, потому что просты в управлении и ремонте, любой фермер в сарае мог его починить.
Ну, раз фермеры в Испании смогли разобраться с И-15, значит, механизатор с Николаевской слободы тоже со временем разберется, решил я.
***
В батальоне меня поставили на должность мастера-оружейника, поэтому механизм, который я сразу изучил, — авиационный пулемет ШКАС (Шпитального — Комарицкого авиационный скоростной), которым вооружены все самолеты на аэродроме. Показали несколько раз, как его собрать-разобрать, после чего я справлялся с ними сам. В мои обязанности входило перед боевым вылетом получить пулемет в комнате хранения, разобрать, снять смазку с механизмов, удалить оружейное масло с канала ствола, проверить исправность всех деталей, особенно пружин, которые в условиях скоростной работы механизмов могут быстро изнашиваться. Дальше обеспечить пулемет боепитанием, после чего удалить слой смазки с турели и установить на нее пулемет, проверить подвижность и работоспособность механизмов. Также после возвращения снять пулеметы с турелей, разобрать, почистить, осмотреть исправность всех деталей и пружин, смазать тонким слоем оружейного масла механизмы, прочистить канал ствола и смазать его оружейным маслом, чтобы через пару часов вытереть и еще раз нанести тонкий слой масла, потому что налет пороховых газов разъедает ствол оружия и его надо тщательно удалять, причем из любого огнестрельного оружия.
На аэродроме базировалось 10 средних бомбардировщиков АНТ-40, 10 истребителей И-15 бис и шесть истребителей И-153 «Чайка», внешне такие же, как И-15 бис, только верхнее крыло в месте крепления к корпусу было изогнуто в форме крыла чайки. Итого, как говорят на складе, вооружение всех самолетов, составлявшее по четыре ШКАСа, включая запасные, мое хозяйство включало 120 пулеметов. Помимо этого, вместе с авиамеханиками я отвечал за исправность бомболюков.
Правда, Игнат — недовольный летчик, раскритиковал и мои ШКАСы:
— Калибр 7,62 для авиационных пулеметов — это вчерашний день, не дай бог война, а мы с винтовкой против современных машин противника? Вот «Березина» калибра 12,7 мм — вот это огневая мощь. Может быть, скоро нас перевооружат.
В мае я уже был опытным оружейником, подружился с авиамеханиками и помимо основной работы по обслуживанию пулеметов вместе с авиационными техниками осматривал и ремонтировал крылатые машины. Еще не прошло и двух месяцев, а я уже считался своим на аэродроме. Ежедневно мы с любовью ухаживали за самолетами, чинили, латали дыры, ведь обшивка самолетов оказалась тряпочная.
Передняя часть фюзеляжа обшита дюралюмином и покрыта полотном, задняя часть полностью тряпичная: специальным авиационным полотном обшивался алюминиевый каркас, хвост и оперение тоже обшивались полотном, но на стальной каркас, только крылья были из стальных лент-профилей и тоже обшиты полотном. Все полотно, то есть весь самолет сверху, покрывалось специальным лаком — перкалью. После обмазывания специальным клеем и накладывания полотняных латок закрашивали где серебрянкой, где защитной краской и опять покрывали перкалью. Сверху самолеты должны были окрашиваться в защитный цвет под окружающую растительность, чтобы с воздуха противник их не сразу мог заметить, а снизу самолет окрашивался серебрянкой, чтобы средствам ПВО их труднее было разглядеть в небе.
Шла интенсивная боевая учеба. Я только успевал обслуживать ШКАСы перед и после полетов, а в свободное время, которого почти не было, вместе с механиками занимался обслуживанием самолетов.
В отличие от сухопутных воинских частей, где солдаты постоянно заняты муштрой, строевой подготовкой, внешним видом, беготней и наведением порядка, в летных частях главное, чтобы порядок был в небе. Мы не ходили строем в столовую, не совершали изнурительные марш-броски, но занимались боевой предполетной подготовкой, и мне очень нравилось заниматься делом. Наблюдая за службой роты охраны, где цель жизни от сержанта до офицера поймать и наказать за что-нибудь солдата, постоянно приговаривая про священный долг защиты Родины, а цель солдата, соответственно, не попадаться, а с винтовки только один раз стреляли перед присягой по три патрона. Поэтому я радовался, что занимаюсь настоящим делом и что по-настоящему участвую в защите Родины.
Как я уже сказал, за то короткое время, что я появился на аэродроме 7-го УРАП, я зарекомендовался нужным специалистом и опытным во всех смыслах бойцом. Поэтому, когда прибыли призывники — выпускники гражданских аэроклубов, один из самых ушлых обратился ко мне за советом, как лучше и куда сбегать до девчонок.
Я общался с кадровым составом авиамехаников, у которых женский вопрос так или иначе был в порядке, а мой призыв, в основном, оказался в роте охраны, чей распорядок и присмотр ефрейторов, сержантов и офицеров не способствовал ночным похождениям. Поэтому, когда появились молодые летчики, у меня появились компаньоны в амурных делах.
Я разузнал про места для посиделок, выбрал укромное место на берегу местной речки Степной, а проходя мимо хлопкоочистительного комбината, познакомился с веселыми девчатами и пригласил их на день рождения к «знаменитому летчику».
На следующий день с двумя товарищами с купленными на базаре фруктами, булками и домашней колбасой встретились на окраине Джанкоя с девушками Тоней, Полей и Шурой, которые несли корзинки с местным вином. Мне сразу приглянулась большеглазая стройная Шура с загадочной улыбкой и точеной фигуркой, я забрал у нее корзинку, и как хороший знакомый, продолжая как бы ранее начатый разговор, стал задавать смешные вопросы: «Ну как, девчонки, решили, кто первая замуж выйдет?» Девчонки хохотали, а Шура, не меняя загадочной улыбки, взяла меня под руку и стала внимательно рассматривать.
На берегу, уютно расположившись на песчаной опушке в зарослях камыша, мы провозглашали тосты за знакомство, за красивых девушек, за смелых летчиков и так далее. Увидев, что Шуре наскучили рассказы о самолетах, небе и службе, я на ушко предложил ей пойти ловить рыбу. Она сначала расхохоталась, а затем взяла меня за протянутую руку, и мы перешли на другую опушку, где я стал разматывать приготовленную леску с грузилом и крючком, а глаза Шуры стали еще больше от удивления.
— Я думала, шутишь про рыбалку, интересно было, что придумаешь, а ты вон что, и правда, — со смехом сказала Шура.
Я закинул донку, закрепил за корягу и еле успел поймать Шуру в охапку, которая чуть не свалилась в реку. Я не собирался упускать свою удачу — отпускать Шуру из объятий, а она, крепко прижатая ко мне всем телом, прошептала:
— Я сразу поняла, что ты не летчик.
— Это почему?
— Потому — что не дурак.
Последние слова я прекратил осторожным нежным поцелуем в противовес крепким, не оставляющим шанса на освобождение объятиям.
Поцелуй был очень продолжительный, а когда прорвался первый вдох, обмякшая Шура неожиданно прошептала: «Клюет», и мы взорвались продолжительным громким хохотом. Я никогда еще так долго и счастливо не смеялся. Смех рождался из глубины души, он еще не успевал вылететь, когда новая порция счастья уже распирала изнутри, дополняя сладкое головокружение. Мы не заметили, как продолжали хохотать, прижимаясь друг к другу и лежа на теплом песке.
Отдышавшись, мы лежали обнявшись и не шевелились, боясь спугнуть счастье. Мы не знали, сколько прошло времени, когда наша компания стала звать нас.
— Шура, домой пора, — позвали девушки.
Обратно мы с Шурой шли молча обнявшись. Макар с Тоней справа, держась за руки, и юный пилот продолжал обольщение, рассказывая о технических подробностях устройства истребителя И-16. Слева от нас шла грустная Поля, а справа от Макара с Тоней хмурый Илья, засунув руки в карманы.
Мы прощались на окраине города, на перекрестке с фонарем. Шура крепко обняла меня за шею, поцеловала и прошептала на ухо: «Жду завтра». Макар попытался поцеловать Тоню, но та уклонилась и помахала ручкой. Илья молча повернулся и двинулся в сторону аэродрома.
Мы возвращались гордые и счастливые с первого военного свидания: первые из призыва решились на самоволку, и первые познакомились с девушками. Мы шли, держа руки в карманах, вспоминая подробности, хлопая друг друга по плечам.
— Ты давно с Шурой? — спросил Макар.
— Столько же, сколько ты с Тоней.
— Да ну! Ну, ты ас! — удивился он.
— А у вас что? — спросил Макар Илью.
— Да ну ее, недотрога какая-то, — с досадой произнес тот. — Стакан с вином даю, говорит: «Сама возьму», булку предлагаю — «Не хочу», руку подаю, чтобы встать помочь, — отталкивает. Видно, не нравлюсь.
— Да ладно, — заговорщицки толкнул меня Макар. — И мне Тонька и Кольке Шура сказали, что Полька как тебя увидела, так ноги подкашиваться стали, так что решила тебя в отдалении подержать от греха подальше, чтоб сразу не отдаться.
И мы разразились громким хохотом.
Неожиданно поперек дороги выросли пятеро парней, и грубый наглый голос остановил нас:
— Э-э-э, кто это тут у нас, такие веселые?
— А кто нужен, — также вызывающе ответил Макар.
Наверное, это были местные, джанкойская шпана, о которых предупреждали авиамеханики. Не знаю, как бы я поступил, встретив их раньше, но сейчас выпитое вино, товарищи, идущие со мной плечо к плечу, и принадлежность к сильнейшим в мире военно-воздушным силам подняли боевой дух и придали необъяснимую и непоколебимую уверенность в победе, несмотря на превосходящую численность противника.
— А-а-а, — продолжил грубый блатной голос, — да это мальчики-солдатики от мамки убежали, а ну-ка иди к дяде, шкет.
— А тебе, мальчик, мамка разрешает гулять так поздно? — ответил Макар.
— Ах ты ж говно зеленое, — проорал блатной и кинулся на меня, стоявшего чуть впереди остальных.
Не знаю, что бы со мной сделал кулак с кастетом, но отработанный на гвоздях прием сработал безотказно — я отклонился, схватив рукав под кистью и, провернувшись вокруг своей оси, пропустил долговязого мимо себя, инстинктивно добавив ему за ухо кулаком без молотка. Парняга, центнер с гаком, рухнул всем весом на пыльную дорогу и больше не шевелился. Второй, перехваченный за руку в следующую секунду, споткнувшись о долговязого и отработанно получив кулаком по затылку, рухнул рядом. Провернувшись туда-сюда, я услышал топот ног третьего убегавшего противника и увидел Илью, отказавшегося от попытки догнать, который развернулся и саданул ногой по ребрам навалившегося на Макара последнего хулигана, который скрючился, скатился с Макара и, схватившись за бок, остался лежать рядом. Как потом оказалось, боксер Илья одновременно со мной отправил своего противника с дороги в кусты, откуда тот больше не появлялся.
Мы втроем стояли над поверженным противником, который просил его отпустить и прощения.
— Ты что же, вражина, — орал Макар, — против красной авиации прешь?
— Нет, товарищи, простите, я ж не знал, я ж в темноте не разглядел.
— Что ты с ним нянчишься, сейчас заберем, и к стенке, пока темно, — подхватил Илья.
— Ну, прям к стенке, какие скорые, — подхватил я игру, — в часть доставим, а там с ним пусть особисты разбираются. Шутка, что ли, на Красную армию нападать. А мы с мирным населением не воюем.
— Ага, — подхватил Макар, — только пиндюлей даем.
И мы заржали, оглашая темную улицу громким хохотом, не обращая внимания на убегавшего сначала на карачках, а затем бегом хулигана.
Так, смеясь и гордясь своими похождениями, мы дошли до известной нам одним прорехе в колючей проволоке, ограждавшей аэродром, и уже без приключений прокрались к своим палаткам и счастливые заснули без задних ног.
Через пару дней до аэродрома докатились городские слухи, что трое летчиков расправились с бандой Битюга, а самого Битюга и его приятеля забрали на аэродром, и больше их никто не видел. Как поговаривают, их или расстреляли на рассвете за аэродромом, или в Сибирь сослали без права переписки.
Конечно, нам очень хотелось рассказать о нашем геройстве, но если это станет известно командованию, мы серьезно влипнем — за самоволку полагается трибунал. Поэтому мы поклялись друг другу, что ни одна живая душа, даже наши девушки, никогда об этом не узнают. И больше не рисковали ходить в самоволки. И, как оказалось, в этом не было необходимости, помог случай.
Во время внезапно испортившейся погоды И-15, уходя от грозовых облаков, совершил вынужденную посадку на дороге, завершив пробег на пашне, и там крепко застрял. Когда мы прибыли на место посадки, я нашел общий язык с местным бригадиром и после полевого совещания с ним и главным механизатором на глазах комсостава УРАП предложил верное решение закрепления самолета при выдергивании его из грунта с помощью двух тракторов ХТЗ-15/30. Так мы вытащили самолет на дорогу и без происшествий целый и исправный доставили на аэродром. На следующий день меня вызвал комбат, объявил благодарность и сообщил, что теперь я буду оказывать техническую помощь колхозу в обмен на овощи и фрукты для нашей столовой, а для этого мне разрешается свободно покидать территорию аэродрома. Через некоторое время я обговорил и возможность ночевки в колхозе с прибытием к подъему.
Особенно моим техническим успехам была рада Шура, встречи с которой стали регулярными и насыщенными. Подготовка к свиданиям была похожа на явки разведчиков. Мы придумали систему условных знаков, включая расположение цветка на подоконнике, указывающих, дома родители или нет. Расположение виноградной лозы на калитке указывало: дожидаться на фабрике, ушла в магазин, ушла с родителями, ушла к соседке или сразу идти на сеновал. Мы встречались во дворе ее дома, когда родители и соседи были в поле, вечером я помогал в ремонте вернувшихся с поля тракторов, а затем опять шел гулять с Шурой. Естественно, что основных обязанностей по обслуживанию ШКАСов с турелями с меня никто не снимал, и я перестал нормально высыпаться, но я был молод, полон сил, и недосып был лишь досадным неудобством, зато меня любит Шура, ценят колхозное начальство и командование аэродрома.
Так я и жил в счастливом круговороте: аэродром, тракторы и любимая Шура. Мы мечтали, что через два с небольшим года после службы мы поженимся. Мы были счастливы, нас ждало прекрасное будущее. Я останусь на сверхсрочную или после демобилизации вместе уедем в Николаевку, где я буду занимать хорошую должность, а может, останусь в Джанкое и построю нам огромный красивый дом, куда перевезу родителей и братьев с сестрой, если она не выйдет замуж. Вот так мы мечтали. Теперь это называется «мечтали», а тогда это были просто планы, ни какие-нибудь сказочные, а самые обычные, которым ничего не могло помешать. Я и думать не мог, что что-то могло случиться.
Глава V. Война
В воскресенье 22 июня мы с компанией собирались в кино, а затем посидеть на берегу с вином и песнями, но увольнения неожиданно отменили. Командиры молчали. Чтобы как-то занять время, решил проверить пружины одного ШКАСа. Осмотрел, проверил, осмотрел и проверил другой, третий, ну и завозился с одной из пружин. И тут забегает Макар, орет: быстрей, быстрей, пошли, пошли. Но я без него уже слышал, что по громкоговорителю выступает Молотов, и от его слов неприятный, противный холодок ползет по всему телу. На деревянных ногах я двигался к репродуктору и слушал, что в 4 часа утра германские войска без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны напали на нашу страну, вероломно, несмотря на пакт о ненападении, о котором все в последнее время говорили. Вражеские самолеты уже бомбят наши города, и какие? Как они могли решиться на такое? Подумать только, бомбят наши советские города Житомир, Киев — мать городов русских, Каунас, Севастополь — город славной истории. И я не услышал в словах народного комиссара иностранных дел уверенности в легкой победе, ни слова, что, мол, бить врага малой кровью на его территории, а услышал сравнение с вторжением Наполеона. Не от страха у меня похолодело в животе, а оттого, что понял: никогда больше нам не жить счастливо, что теперь все будет плохо, очень плохо, что жизнь никогда не будет прежней и, может, я никогда больше не увижу родителей, братишек, сестру. Противная тоска неизбежности чего-то черного, страшного превратила меня, сильного, жизнерадостного и уверенного, в потерянного рохлю, так что это сразу заметил Макар:
— Микола, что с тобой, ты чего такой, мало ли дураков на нас нападало, да мы сейчас за неделю мокрого места от них не оставим.
— Да, — я вдруг сорвался, — а какого же черта им до Киева с Севастополем долететь дали, это что тебе, села у границы? А какого же хрена он про Наполеона заикается, что, Москву сожженную вспомнил?
Макар кинулся, заткнул мне рот рукой, испуганно озираясь по сторонам. По расширенным от ужаса глазам, побледневшему лицу и разинутому рту я понял, что это не моих политически опасных крамольных слов он испугался, а то, что осознал, какая страшная беда на нас надвинулась, что смерть теперь стоит за каждым из нас, за семьями, любимыми, городами и всей страной.
По команде мы пошли на митинг перед столовой, где замполит повторил слова Молотова и что враг пожалеет, что напал на нашу страну.
Стало необходимо пообщаться с родным человеком, и я пошел к Шуре, я почему-то был уверен, что сейчас никто меня не остановит. Но на КПП я встретил зареванную Шуру. Попытался ее успокоить, говорил, что Красная армия всех сильней, враг будет разбит и что вообще ничего страшного не происходит, но сам чувствовал фальшь в своем голосе.
***
С началом войны началась новая жизнь — маскировка самолетов и всего аэродрома, тренировки по отражению авиаударов противника.
На вооружение роты охраны поступила зенитная установка из счетверенных пулеметов системы максим. Я, посчитав себя обязанным, а больше из технического интереса, подключился к изучению и обслуживанию нового механизма, сборке-разборке, установке на треногу. Тульские инженеры хорошо доработали систему. Четыре максима соединили в одну установку, увеличили боезапас вдвое, а чтобы к каждому пулемету не приставлять по Анке, как в фильме «Чапаев», специальным рукавом усовершенствовали подачу ленты из коробки в патронник, создали интересную систему охлаждения стволов с помощью ручного насоса и удобный кольцевой прицел.
После нескольких тренировок по наземной цели пулеметный расчет стал неплохо попадать в неподвижную мишень. Кто-то из командиров охраны предложил смастерить фанерный самолет, чтобы можно было возить за автомобилем или телегой. Предложение было поднято на смех летным составом, «сапогу» объяснили, что современный боевой самолет летит со скоростью 350–500 километров в час. А кто-то в продолжение предложил привязать фанерный самолет к длинному тросу и полетать перед счетверенными пулеметчиками. В результате пулеметному расчету определили тренироваться на самолетах нашего УРАП. Естественно, без выстрелов, представлять мишень и условно открывать заградительный огонь за два-три корпуса перед пролетающим мимо самолетом и летящим на тебя. При этом не тратить патроны на летящий от тебя и на самолет, у которого из-за расстояния не видно эмблемы на фюзеляже. После этого, наблюдая, как зенитчики гоняются прицелом за нашими самолетами, отпускали шуточки типа: «Смотри, не стрельни» или: «Эй, патроны забыли». Не обошлось без муштры, которую так любят в роте охраны. Бойцы расчета счетверенной зенитной установки по команде «к бою», где бы ни находились, должны были бегом получать дополнительный боекомплект, естественно, условно, и мчать к боевому расчету, находящемуся на дежурстве, а мы с хохотом смотрели на этот куриный переполох.
Но, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. В один из дней я кашеварил в наряде по кухне. Каша загустела и стала подгорать, я пытался перемешать самодельной деревянной черпалкой, но она треснула, мешать было нечем. И тут на аэродром налетела пара юнкерсов Ю-87, которые стали поливать аэродром из пулеметов. Я упал за полевую кухню, а пролетающие юнкерсы прошивали все, что находилось на аэродроме, — палатки, землянки запаса топлива, автомобили. Чудом обошлось без потерь. И когда пошли на второй заход, сработала выучка зенитчиков — один из Ю-87 прошел сквозь заградительный огонь, приняв вдоль всего борта очереди четверых максимов и рухнул в 150 метрах от моей кухни. Второй юнкерс, не открывая огня, отклонился и, взмыв вверх, скрылся.
Одно крыло сбитого юнкерса отлетело и рассыпалось на десятки алюминиевых трубок. Когда все кинулись к самолету, я вылил бак кипящей воды в котел и кинулся к этим трубкам, выбрал две мешалки и успел спасти кашу, она почти не подгорела.
***
По мере приближения фронта самолеты УРАП приступили к боевым вылетам и с каждым разом их количество катастрофически уменьшалось. Первым не вернулся Игнат, самый смелый, грамотный, умелый летчик, лучше всех в полку разбирающийся во всем, что связано с военно-воздушными силами, но не имеющий боевого опыта. Звено Игната встретило в небе над Перекопом звено юнкерсов, и Игнат с ходу сбил ведущего, а когда погнался за следующим, наткнулся на строй следующего звена фашистов и был сбит. Ведомые Игната совершили маневр и ушли от превосходящего противника. Они видели, как самолет Игната столкнулся с землей. Смерть бравого летчика гнетуще подействовало на меня и всех его друзей. Такие, как он, должны были побеждать врага, совершать подвиги и внушать страх противнику, а не погибать, пусть и героически, в первом же бою. Но после Игната были остальные, отчаянно пытавшиеся противостоять технически превосходящим немецким машинам и погибавшие в воздушных боях. Так, однажды не вернулись Макар с Ильей, последние друзья счастливой беззаботной юности. Я ушел в палатку, чтобы никто не видел, потому что не смог сдержать слезы. Я рыдал как ребенок и не знал, как рассказать об этом их девушкам. Вспоминал фотографии их родителей, братьев, сестер. Пытался от горя спрятаться в работе, но 5 августа не вернулся последний самолет полка.
Джанкойский аэродром, 7-й учебно-резервный полк погрузился в уныние. Весь август и середину сентября мы были в неведении, просились на фронт. Из мрачных сводок Совинформбюро о непонятных боях на непонятных направлениях становилось ясно, что фашистами захвачены Минск, Львов, Смоленск. Бессилие нашей в песне непобедимой и легендарной армии, которая сильнее всех с северных гор и до британских морей, сводило с ума.
Командиры успокаивали, мол, скоро дадут новые самолеты, и мы начнем крушить врага с удвоенной силой. Но только иногда на аэродром садились машины других авиаполков, которые после обслуживания, заправки и снаряжения боеприпасами улетали.
Шура вместе со своими подружками Тоней и Полей — девушками моих погибших друзей, пошла на курсы санитарок, они всерьез собирались на фронт. Я несерьезно относился к этому, уговаривал Шуру вместе с родителями поехать к моим в Николаевск. Но она, обычно такая податливая и мягкая, превратилась в товарища санинструктора и собиралась воевать рядом со мной. Я говорил, что если она пойдет в армию, ее пошлют не туда, куда она хочет, и что она будет лечить других мужиков, а здоровые будут за ней бегать, но она отвечала, что умеет добиваться своего. Так получалось, что при каждой встрече мы что-то лишнее говорили друг другу, стали реже встречаться и начали отдаляться друг от друга.
Глава VI. Морская пехота
12 сентября 1941 года нам объявили, что 7-й УРАП расформирован. Через несколько дней на аэродром прибыли грузовики с вещевым имуществом. Нас переодели в матросскую форму, в полосатые тельняшки и бескозырки, а защитное обмундирование увезли. Позже некоторые говорили, что это было сделано, чтобы мы не сдавались в плен. Так или нет, но тогда много красноармейцев, оставшихся без командования, без снабжения, связи и боеприпасов, оказавшись перед хорошо подготовленным и опытным врагом, сдавались, а у немцев был лозунг: «Бей жидов, политруков и черных комиссаров». Под черными комиссарами подразумевались матросы и морская пехота. В плен нас не брали, расстреливали на месте. Причем в подразделениях, формирующихся в Севастополе, как я потом узнал, наоборот, заметную морскую форму меняли на сухопутную, оставляя только тельняшки.
Оставаясь на аэродроме, мы стали частью 2-й и 3-й рот 3-го батальона 7-й бригады морской пехоты. Командовал бригадой полковник Жидилов, командир батальона — капитан Мальцев, у которого я даже пару недель был ординарцем. Мальцев был очень толковый офицер, позже в боях он никогда не терялся в любой обстановке, дурацких приказов и команд не отдавал, и потери в нашем батальоне по сравнению с другими были минимальны.
В 20-х числах сентября немецкие пехотные дивизии при поддержке танков и авиации начали штурмовать позиции 51-й армии на Перекопском перешейке, на усиление отправлены наши 1-й и 4-й батальоны, которые первыми в бригаде вступили в бой. А уже 27 октября вся 7-я бригада морской пехоты получает приказ выдвинуться на поддержку 51-й армии.
Последний раз мы виделись с Шурой, когда нас отправляли на позиции. Я умолял ее уехать ко мне на Волгу, в Сталинградскую область, но она сказала, что они с подружками разыщут командование 7-й бригады и заставят определить их в медсанчасть. В какой-то момент я не сдержался и накричал, требуя прекратить заниматься глупостями и немедленно с родителями или без ехать к моим родственникам. Но Шура повернулась и ушла. Это был первый и последний раз, когда мы расстались без поцелуя. Больше с Шурой мы не увиделись.
Наш батальон занял позиции на подступах к Джанкою. Стояла полная неразбериха, поступали противоречивые приказы.
Сидим в окопе. Не имея боевого опыта и какой-нибудь военно-полевой выучки, я спрашивал, что мы должны делать, если появятся фрицы, но получал в ответ усмешки со стороны матросского состава, считающих береговых ниже себя, типа: «Будешь умело бить врага!»
Наспех сколоченное подразделение только называлось морской пехотой, некоторые впервые держали в руках винтовку, пулеметов почти не было. У меня оставалось в хозяйстве несколько ШКАСов, и я смог бы приспособить их к полевым условиям, но их увезли вместе с обмундированием и другим хозяйством бывшего УРАП, еле полевую кухню отстояли.
Через позиции нашего батальона отходили части 51-й армии, оборонявшие Перекоп. Отступающие красноармейцы были грязные, уставшие, кто раненый, кто просто упавший духом. Я пытался задавать вопросы, но кроме тяжелых безнадежных взглядов в лучшем случае отмах руки, означавший «не приставай» или «что там говорить — все пропало». Но иногда разговор все же получался.
По ходам сообщения я прошел за водой к бочке. Там уже стояла очередь из отступающих солдат. Обычно кок, как называли матросы повара, отгонял водохлебов других подразделений, но здесь, видно, рука с черпаком не поднялась прогнать изможденных, пропыленных, с въевшейся в лица грязью и копотью с потрескавшимися ртами и какими-то седыми глазами солдат. Я встал за пожилым воином, наверное, единственным, кто имел опрятный и чистый, насколько возможно, вид, сохранившим не только вещмешок. Он был подпоясан ремнем с полными подсумками для запасных магазинов от мосинки, а еще фляжка и охотничий нож с наборной рукояткой. Сама винтовка была вычищена и блестела как новенькая, обернутая в месте затвора чистой мешковиной. Через плечо перекинут противогаз. Все на нем, включая каску на вещмешке и винтовку на ремне за спиной, было ладно подогнано. Ничего не мешало, не бряцало и не болталось, в руках он держал странного вида квадратный котелок и фляжку в непривычном чехле из шинельного сукна с большой крышкой-стаканом. Хотя солдату на вид было лет 50, а то и больше, его бравый вид и уверенная подтянутая фигура в отличие от остальных бойцов не вызывали уныния. Хотелось быть похожим на него. Я стал внимательно разглядывать, как он несет вещмешок со скаткой шинели и винтовкой за спиной, как прилажена каска и как скручена и приторочена другая поклажа. Я рассмотрел за голенищем его сапога рукоятку еще одного ножа, саперная лопатка, которой уже ни у кого из его товарищей не было, прилажена ручкой вверх на вещмешке, а не болтается, как нас учили, на поясе, неудобно стукая по ляжкам. Заметив, что я его рассматриваю, пожилой боец воткнул в меня вопросительный взгляд.
— Здравия желаю, дядька, — сказал я.
— И тебе не хворать, — ответил он, продолжая на меня смотреть. Не спеша, не ропща, спокойно ожидая своей очереди к бочке с водой, он был готов говорить.
— Извиняюсь, но вот спросить хочу, — я не знал, с чего начать.
— Говори, — не меняя интонацию, разрешил старый воин.
Он явно много знал, и я многое хотел у него узнать. Но как успеть в короткое время его ожидания очереди за водой спросить обо всем, и чтобы ему хватило времени до того, как он подставит свои странные котелок и фляжку под струю воды, все мне рассказать, потому что я понимал: он не будет тратить время, закрутит крышку и, забыв обо мне, пойдет дальше уверенным походным шагом непоколебимого солдата, ожидающего только своего часа, когда бог войны пошлет шанс встретить врага для победы, а не для отступления.
Поэтому я все вложил в вопрос:
— Что будет?
— Вот так и будет. Пока воевать не научимся.
— А научимся?
— Научимся, — сказал он протяжно и уверенно, бережно подставляя фляжку под струю чистой воды, — всегда научались. — И, уже уходя, обернулся. — Ты это, идите отсюда, ничего уже здесь не высидите.
***
Когда начались бои нашего батальона с прорвавшими ишуньские позиции немецкими и румынскими частями, мы познакомились с убийственно жесткой немецкой тактикой. Наблюдатель засек группу мотоциклистов и бронетранспортер, заорал: «НЕМЦЫ!» Подали команду к бою, и только успели нырнуть в окоп, когда над головами и по брустверу раздались пулеметные очереди такой плотности, что мы не то что выстрелить, а и думать встать с дна не могли, так плотно ложились пули по верху окопа, выбивая комья земли и противно свистя. И почти сразу на наших позициях стали рваться мины. А когда минометный обстрел прекратился, ранив осколками несколько бойцов, ни мотоциклов, ни бронетранспортера уже видно не было. Так продолжалось несколько раз вдоль всего переднего края. Как мы потом узнали, немецко-фашистское командование определяло наши позиции, и капитан Мальцев приказал сместиться на сто метров назад и отрыть индивидуальные окопы для стрельбы стоя. Это было очень своевременно, так как фашист открыл такой шквальный артиллерийский огонь, что разметал треть окопов нашего переднего края, а мы вжимались в наспех вырытые ямки и молились. Страшно было до потери ума: некоторые, свернувшись калачиком на дне, накрыв голову руками и всем, чем можно, заткнув уши, орали, кто-то молился, кто-то звал мамку.
Так в перерыве между столкновениями мы начали отход.
29 октября, отступая, мы уже вели бои в Красногвардейском районе. Успев изучить тактику немецкой мотопехоты, когда при столкновении с ней на нас обрушивалась подавляющая плотность пулеметного огня, а затем залп из минометов, причиняя большие потери, мы стремились сразу же сменить позиции. Проще говоря, значительно уступая врагу в маневренности и плотности огня, после одного-двух винтовочных выстрелов в сторону противника мы просто драпали с места боя, стараясь сохранять боевой порядок. При этом другая группа фашистов на мотоциклах или бронетранспортерах обязательно пыталась зайти к нам во фланг или в тыл и тоже обрушиться пулеметным дождем. Но враг берег своих солдат, поэтому после одного-двух маневров пехота прекращала преследование, а на место, откуда мы отстреливались, обрушивались от трех до десяти минометных залпов.
30 и 31 октября пытались закрепиться на северных и северо-западных подступах к Симферополю, но после мощного артобстрела командование, понимая, что не может противостоять фашистской артиллерии и пулеметно-минометной мотопехоте, во избежание неоправданных потерь, а также чтобы не дать себя отрезать от основных частей, опять приказало отступать. Отступление уже походило на бегство. Отходили мы со скоростью до 60 км в сутки. Только займем одну позицию, как поступал приказ идти дальше, выбиваясь из сил и разбивая в кровь ноги. А куда было деваться, ведь мы были краснофлотцы, которых в красивой морской форме ждала только смерть.
В итоге отхода через Бахчисарай 6 ноября 1941 года мы оказались в Ялте. Командир бригады полковник Жидилов с взводом конной разведки ускакал по горам в Севастополь.
***
7 ноября 1941 года мы встретили по-крымски. В Москве парад, снег, мороз, а у нас ласковое солнышко. Гадаем, как в положении отступающих будем отмечать годовщину революции.
С утра построились. После спокойной ночи и завтрака пшенной кашей с селедкой настроение приподнятое, праздничное.
Вышел капитан Мальцев:
— Товарищи краснофлотцы, от имени командования поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
— Ура! Ура! — кричим негромко и нестройно.
— Готовы бить врага?
— Готовы, — отозвались мы неожиданно стройно и громко, неизвестно с чего воодушевившись.
— Матросы, а также кто с Волги и Дона, два шага вперед.
Почти вся команда нашего бывшего БАО набиралась из уроженцев Ростовской и Сталинградской областей, поэтому большая часть батальона, включая бывших матросов, шагнула вперед. Подразумевалось, что мы умеем плавать, а остальных человек 150 повели на мол «крестить» в морских пехотинцев. Их загрузили на большой катер, который отплыл на 150 метров, и приказали прыгать в воду, десантироваться на берег. Крики, хохот, плеск воды.
Когда первые уже подплывали к берегу, началось самое интересное. На корме катера сгрудилось около десятка бойцов, которые не умели плавать и отказывались прыгать за борт. Раздалась команда: «За борт котят!» Экипаж дюжих матросов по одному выдергивал их с общей кучи и под хохот бурлящих в воде моряков пинками отправлял в воду. Не умеющие плавать с криками и матом смешно плюхались и оказывались в дружном обществе, которое не давало утонуть, но и расслабляться не давало. Котят пинками и рывками заставляли грести и держаться на плаву. Чудо, но пока «котята» добрались до берега, все уже умели плавать, по-собачьи, но умели. Я теперь знаю, как надо учить плавать.
Как новообращенные морпехи обсохли, нас всех — около 1200 человек, погрузили на суда, и мы пошли в Севастополь.
Праздничный день продолжился живописной морской прогулкой. Я сидел на бакене на скатке с вещмешком, привалившись к борту, и любовался морем, с удовольствием вдыхая морской воздух, слушал плеск воды и крики чаек. Какая же красота вокруг! Ничего больше не надо в жизни, простое счастье сидеть на берегу и чувствовать запахи моря и прохладу. И, конечно, вспомнил Шуру. Свежесть и легкость любимой девушки и море. Шура смотрела и улыбалась. Смотрела, как всегда, загадочно, словно шептала: «Закрой глаза, я тебе подарочек приготовила», а ветерок трогательно колышет мягкие густые волосы и легкое, облегающее стройные изгибы платье. Ее дыхание приблизило поцелуй, и я уже почувствовал мягкие губы и обхватил невесомую фигурку, когда тычок в плечо и дружный хохот вернули меня на борт и в настоящее. Осмотрев товарищей сонным хмурым взглядом, я глубоко вздохнул и потянулся. Счастливое видение улетучилось, но оставило приятную расслабленность и умиротворение. Остаток пути просто скользил взглядом по морской глади, не шевелясь и ни о чем не думая.
Я не знал, что Шура погибла при артобстреле при отступлении. Они с девушками все-таки уговорили командование бригады взять их в медсанчасть, а потом в грузовик с медикаментами, в котором ехала Шура, попал снаряд. Узнал об этом случайно уже в Севастополе от девчонки-санинструктора.
Глава VII. Оборона Севастополя
После высадки на берег — марш-бросок в район Мекензиевых гор, где уже с 5 ноября держал оборону так называемый второй перекопский отряд морской пехоты, это то, что осталось от 5-го батальона нашей бригады. Причем остатки 1-го, 2-го и 4-го батальонов мелкими группами еще неделю выходили к нам на позиции.
Мы заняли оборону у хутора Мекензия-2, на участке, где располагались траншеи и фашины 90-летней давности, остатки от нахимовской обороны Севастополя. В старинных брустверах надо было оборудовать пулеметные гнезда. Нам достался инвентарь, оставшийся от трудовых отрядов горожан, возводивших укрепления вокруг города. Я осмотрел узоры плетеных корзин, набитых камнями и обмазанных глиной. Такие укрепления назывались фашины и как крупные кирпичи в шахматном порядке красиво были выложены поверх исторической траншеи. Жалко было портить красоту, но ничего не поделаешь, война есть война. Я поплевал на руки, взял лом и — э-эх, лом звякнул, выбил искры и отскочил, чуть не попав мне по ноге. Ощущение такое, будто ломом решил разбить металлическую плиту. Ну ладно, сверху, наверное, от времени застыло. «Надо пробить слой, а там уже пойдет», — подумал я и врезал со всего маху киркой по окаменевшей фашине. Рукоятка кирки лопнула, металл, уже знакомо выбив искры, отлетел в сторону.
В нашем пулеметном взводе оказался матрос, который до призыва работал на стройке, так вот он рассказал, что до революции при строительстве церквей в цементный раствор замешивали яичный белок. Застывая, он превращался в гранит. Возможно, этим же способом пользовались защитники Севастополя, замешивая раствор, которым потом обмазывали корзины и камни в них. Эти, казалось бы, глинобитно-хворостинные брустверы были так прочны, что мы отказались от мысли как-то их поправить. Выручили проходившие мимо артиллеристы. Началось все с шуток-прибауток:
— Не пыли, пехота.
А мы им:
— Мы не просто пехота, а морская.
А они:
— Что еще за чудеса такие, вы бы еще морской кавалерией обозвались или воздушной, — ржут.
А мы им:
— У простой пехоты окопы простые, а у нас такие, что пушка не возьмет.
А артиллерийский старлей нам не поверил, думал, шутки шутим, его подначиваем. Усмехнулся и идет дальше за своей батареей 45 мм пушек.
А мы ему:
— Слабо, значит?
А парень лихой, гонористый, хоть и молодой совсем, но уже повоевать успел, цену себе знает. Нервно так гимнастерку вокруг ремня расправил и товарищу моему:
— Ко мне, боец!
Ну мой краснофлотец подходит нехотя и старлею:
— Да вы не серчайте, товарищ старший лейтенант. У нас правда затыка здесь, бруствер над траншеей вроде глиняный с травой, а пулеметную бойницу в нем проделать не можем, крепкий дюже.
— Ну так вы, пехота, лопатки бы отложили, после войны с песочком поиграете, и ломиком.
— И ломиком, и киркой пробовали — никак, в прошлом веке укрепления делать умели.
— Язынин, — командует старлей, — покажи пехоте, как надо.
— Слушаюсь, — отвечает бравый двухметровый жилистый батареец Язынин, хватает лом и со всей мощи втыкает его в неказистые с виду укрепления.
Искры, звон, лом отскакивает и вылетает из отсушиных рук батарейца, который скачет и трясет ими в воздухе.
— Ни хрена себе, — изрекает командир батареи ученую мысль. — Нам же такое в училище рассказывали. Ни хрена себе, — повторяет и командует: — Всем отойти на 100 метров. Горидзе, разворачивай орудие, цель — бруствер, дистанция пятьдесят метров, бронебойным, прямой наводкой. Товсь!
— Готов.
— Огонь!
Когда рассеялась пыль, мы увидели, что бронебойный снаряд 45-го калибра, конечно, повредил поверхность старинного укрепления, но не глубже чем на 30–40 сантиметров.
— Ну ни хрена себе, — продолжал научно выражаться старлей.
И только с 3-го снаряда в одну точку, уже с двадцати шагов, удалось добиться сквозного пробития. После этого, все продумав и просчитав, командир батареи проделал еще две бреши, потратив на каждую по два снаряда. В этих брешах мы оборудовали хорошие позиции для пулеметов.
Я был помощником пулеметчика. Не случайно адмирал Нахимов организовал укрепления в этом месте — с нашей бойницы широко и далеко просматривались все подступы, а мы при этом оказались надежно прикрыты толстыми и прочными стенами, готовыми устоять даже против прямого артиллерийского попадания. Почувствовав себя в безопасности от вражеских пулеметов и минометов, в нас опять появилась уверенность и боевой дух. Недалеко от бойницы мы соорудили небольшую, но теплую землянку, где до наступления успели выспаться, обжиться и были готовы воевать со всеми вражескими полчищами.
Когда началось, думали, что все здесь останемся — погибнем, до следующего дня не доживем. По несколько раз в день нас обстреливала артиллерия, минометы, затем на наши старинные доты пыталась идти в атаку немецкая пехота с пулеметами, но мы быстро пристрелялись и легко их укладывали, злорадно, не обращая внимания на густое щелканье их пулеметов, такое убийственное раньше, а сейчас не страшнее комариных укусов.
Сидим за нашим музейным укрытием после неточного минометного обстрела, ждем атаки. Мы уже привыкли, что позиции неприступны и чаще всего противник атакует соседние подразделения, минометная и артподготовка по нам ведется вяло. Ждем с интересом, пойдут на нас или нет. И тут в щиток максима, как в колокол, страшно и противно щелкнула винтовочная пуля, а на соседней позиции убит пулеметчик. Гитлеровские снайперы, если нет наших снайперов, охотятся за командирами, а затем за пулеметчиками, да и остальные фрицы, я думаю, в первую очередь стараются уничтожить пулеметный расчет, поэтому у нас наибольшие потери.
Над убитым другом вместо панихиды обсуждаем, где может сидеть гад, что его убил. На мокрой земле вычерчиваем карту подступов к нашим позициям. Каждый может нарисовать их с закрытыми глазами. Пологий спуск с выкошенной выстрелами и вырубленной артиллерией растительностью. Мест, где мог скрываться снайпер или снайперы, не много. Мы предположили четыре. Чтобы убедиться, что кукушка не слетела, создали видимость активности и движения по открытым участкам, дождались выстрела и дали залп со всех пулеметов по этим вероятным гнездам. Тишина. Слышим звуки ожесточенного боя слева и справа. Нас фрицы опять атаковать постеснялись.
В память об убитом земляке, как стемнело, группами по три человека ползком добираемся до предполагаемых снайперских гнезд. В руке на лямке саперная лопатка, лезвие остро отточенное, сталь крепкая, клепаная, одетая на ореховую рукоятку и закрепленная на ней стальным кольцом. В руке удобнее и ухватистее топора. В кармане галифе наган, но понятно, что посреди позиций наших и фрицев в затишье ожесточенных боев первый выстрел — последний выстрел. Я с двумя товарищами очень осторожно, очень плавно, потому что глаз реагирует на резкие движения, клещами охватываем воронку под сваленным деревом. Подползая слева, увидел, что в воронке что-то есть, но боковым зрением уловил движение со стороны немцев и притих в густых ветках, затаился, моля бога, чтобы мои товарищи сделали то же самое. Нам повезло: опередили фрицев на несколько минут. Когда два фашиста, не заметив нас, скатились в воронку и стали, громко сопя, вытаскивать тело снайпера, я тихо продвинулся вперед и рубанул лопаткой ближнего фрица, раскроив ему череп. Второй фриц, схваченный за обе руки с приставленной к горлу финкой, впал в ступор и только мелко дрожал. Обратно мы также тихо с трофеями и языком вернулись за свои фашины. Помимо языка и снайперской винтовки, которые мы передали в штаб, немецкого автомата, который достался моим товарищам, и вальтера, который я забрал себе, вернув наган своему пулеметчику, мы захватили снайперский ранец, где обнаружили много нужного, нового и интересного. Сидя в землянке, мы делили трофеи, Яшка — краснофлотец с финкой, вытащил плитку шоколада, разорвал обертку и разделил между нами. При свете самодельной керосинки цвет жижи, вытекшей из головы зарубленного мной немца и засохшей на ранце, такой же, как цвет плитки, и я отказываюсь от протянутой мне доли. Яшка пожал плечами, завернул плитку обратно и сунул в свой вещмешок.
Я вырос в деревне, с пеленок видел, как рубят кур, уток, режут свиней, баранов, коров, когда вырос, делал это сам. А когда пришлось уничтожать врага, сделал и это. Видел, как городские проседали на ватных ногах на дно окопа при виде убитых окровавленных товарищей, мне тоже было не по себе, но я понимал, что противник тоже сделан из мяса. Крещеный младенцем, сознательно с батюшками не общался, но откуда-то всплыли воспоминания, что весь род человеческий от Адама и Евы, и от каждого человека исходит род, поэтому убийство — страшный грех. Друг-татарин пересказывал слова муллы, что Аллах милостив ко всем живущим на земле и только к верующим после смерти, потому что человек — создание всевышнего и ни один смертный не имеет право на его жизнь. У противника тоже есть мать, отец, сестры, братья, жена, дети, он тоже кому-то дорог, и будь я очень верующий человек, если бы зависело только от меня, от моей жизни, я бы отдал ее, дал себя убить, чтобы все прекратилось, чтобы враг за свои злодеяния был повержен молнией. Но ведь наоборот: если я дам себя убить врагу, если погибнут все мои товарищи в окопе, если я не остановил бы его, мы не остановим их сейчас, они убьют нас, а потом, добравшись до наших родных, фашисты радостно победно пойдут дальше грабить и убивать. Поэтому нет, мы тоже научились убивать, чтобы защитить нашу Родину, наших родных, чтобы не прекратился род человеческий.
Но к поверженному врагу не было ненависти. Душа фашиста отлетела, осталось лежать тело кому-то близкого человека. Мир праху его. Поэтому я не смог есть тот шоколад.
***
Целую неделю 7-я бригада сражалась на Мекензиевых горах. Хорошо оборудованная позиция третьего батальона оказалась не по зубам противнику. Пулеметные очереди нас не доставали, минометный обстрел мы пережидали в укрытиях, а артиллерия била по нашей высоте не точно и тоже не доставляла нам, прячущимся в земляных щелях, особых хлопот. Фашисты атаковали соседние батальоны. К 14 и 15 ноября бригада, понесшая большие потери, была выведена во второй эшелон. Только наш 3-й батальон остался в своих траншеях. На соседние с нами позиции пришли подразделения 3-го морского полка, и мы еще неделю, неся потери, отбивались от обступавшего со всех сторон врага.
Глава VIII. Отход
В 20-х числах ноября и наш батальон, в котором осталось не более 150 человек, получил приказ на отход во второй эшелон. Ночью командиры повели нас в Севастополь. Шли скрытно всю ночь, спотыкаясь по раскисшей земле и мокрой траве. На привале, не разжигая костров, перекусывали консервами, сухарями и водой из фляжек. Думали, выйдем к Севастополю, отдохнем, обогреемся, как рассказывали в каких-то казармах.
Разведка периодически сообщала о находящихся впереди немцах. Командиры смотрели на карту, на компас и меняли маршрут. К утру вышли на какой-то населенный пункт, разведчики узнали, что это Морозовка. Так мы оказались в тылу врага. Пробиваться малыми изможденными силами с остатками патронов в Севастополь — самоубийство. Связи с командованием нет, доложить и получать инструкции не у кого. В сложившейся ситуации: силы на исходе, голодные, мы думали, что вот-вот выйдем к месту отдыха, а оказались в смертельной ловушке, многие упали духом.
После долгого совещания решили пробиваться к своим, на восток к Керчи и Тамани. Мы не знали, что Феодосия и Керчь уже заняты врагом.
Шли по ночам вдоль моря, не отрываясь далеко от берега. Днем прятались в зарослях, выставляя во все стороны дозоры. Но батальонный порядок длился недолго. В случайном встречном бою погиб исполняющий обязанности командира батальона.
Под утро идем в надежде на скорый привал и сон, когда впереди раздается короткая винтовочно-автоматная перестрелка, бухнуло две, затем еще одна граната, и резкая тишина — головной дозор скоротечным боем столкнулся с румынской колонной. Я нырнул за россыпь камней в кустах, выбрав обзор из расщелины большого камня, приладил трехлинейку и сунул немецкую гранату с большой ручкой за голенище, вторую такую же за пояс сзади. Справа, слева рассыпались остальные бойцы, которыми командовал старший лейтенант Петр Салманов. Замыкающие быстро отходят по склону холма в сторону. А капитан, к сожалению, не запомнил ни имени, ни фамилии, со своим ординарцем полезли на небольшую сопку, наверное, чтобы оценить обстановку. Прилетевшая мина накрыла обоих.
После короткого минометного обстрела опять тишина. Поняв, что румыны прямо сейчас атаковать не собираются, мы отступили вслед замыкающим. Около часа мы бегом отрывались от возможного преследования, а остановившись, поняли, что окончательно разминулись со своими. Соединиться нам больше не пришлось. Не имея связи с другими подразделениями, в окружении врагов, такой задачи мы себе не ставили, только бы добраться до своих. А там бог даст, опять все встретимся.
Еще раньше я примкнул к командиру саперного взвода старшему лейтенанту Петру Салманову. Салманов сражался с финнами и был опытным военным. Он не растерялся, как многие, уверенно принял на себя командование и заботу остатками батальона. В новом формировании он определил младших командиров в отделениях и старших в стрелковых маневренных группах, порядок дозоров и охранения. Требовал от нас исправности оружия с максимальным боезапасом. Если солдат оказывался без сапог, снабдить его обувью становилось задачей всего отряда, потому что, как он говорил, в бою возлагается надежда на каждого бойца, и если он сдаст свой оборонительный рубеж из-за того, что ногу без сапог поранил, может погибнуть все подразделение.
Только Петр Салманов не потерял веру в победу. Из-за того, что немцев и румын вокруг как тараканов, многие считали, что война проиграна. Он рассказывал, что мы не можем проиграть, потому что современная война — это война государственных ресурсов, а это люди, продовольствие, обмундирование, оружие, боеприпасы. Потом техника, ремонт, горючее, запчасти. Германия, говорил он, воинственная, но маленькая страна. Она обладает хорошо обученной армией, которая сначала прошла без боя по Европе, что подготовило германские штабы к боевой связке частей, а тыловые службы к своевременному снабжению горючим и боеприпасами. Пройдя эту подготовку, вермахт встретил незначительное французское сопротивление, легко получив боевой опыт, и только затем немецкая армия встретила серьезное сопротивление в Польше, но неподготовленной, неопытной армией со старинной техникой и кавалерийской тактикой.
В результате вермахт — немецкая армия, быстро и идеально прошла все этапы подготовки. Салманов рассказывал это, как будто радовался, так ему было интересно наблюдать, изучать и рассказывать о примере создания современной армии. Но все равно Салманов считал нападение вермахта на СССР авантюрой, обреченной на провал. После этого он убедительно рассказывал дальнейший ход войны СССР с немецко-фашистскими захватчиками, а мы становились его последователями.
По словам Салманова, молниеносные успешные действия германской армии как раз подтверждают его убеждения, что гитлеровские стратеги тоже понимают масштабность Страны Советов, ее ресурсов и стремятся в кратчайшие сроки уменьшить эту колоссальную разницу. Первое, о чем говорил он, что Гитлер — тиран-узурпатор и принимает стратегические решения, не обладая знаниями военной науки и, как все тираны, слушает, скорее всего, только себя и слышит только то, что ему нравится, а не опытных военачальников. Итак, молниеносные действия вермахта привели к успеху, но дальше, по мере углубления на нашу территорию, снабжение немецкой армии неминуемо рухнет, как это было с Наполеоном, а это значит, что враг не сможет применять отработанную технику подавления нашей пехоты плотным, растратным пулеметно-автоматным огнем — возникнет нехватка патронов, и минометными обстрелами — мины кончатся. Запчасти для танков, прошедших всю Европу и наверняка уже израсходовавших свой ресурс, необходимо возить с заводов Круппа несколько недель по железной дороге, колея рельсов которой не совпадает с европейской, а это значит, что противник не сможет применять такую эффективную тактику танковых ударов. Учитывая наступление широким фронтом, маленькая Германия наверняка уже потратила свои людские ресурсы.
В противовес этому наша страна обладает колоссальным мобилизационным запасом, и сейчас наверняка формируются новые дивизии и армии. Наши предприятия легко переходят на военную продукцию и имеют большое количество современных разработок оружия, как авиационного, тяжелого бронетанкового, так и стрелкового. Поэтому в ближайшее время германская военная машина начнет буксовать, а наша Красная армия перейдет в контрнаступление. Поэтому нам, закаленным в боях, обязательно надо сохраниться как подразделение и выйти к своим. После этого батальон пройдет переформирование, пополнится свежими мобилизованными кадрами, вооружится современным стрелковым автоматическим оружием, новыми пулеметами, а нас, прошедших Севастополь, назначат командирами и младшими командирами, и уже этой зимой с морозами мы пойдем в наступление против потрепанной, не успевшей восстановиться, замерзающей без зимнего обмундирования и обуви фашистской армии.
В один из переходов между Алуштой и Судаком мы увидели подтверждение слов Салманова о богатстве нашей армии. Прямо у дороги стояла гигантская колонна, около 100 грузовиков с боеприпасами и имуществом без водителей, охраны и офицеров, по-видимому, брошенных бежавшими тыловиками.
Осмотрев содержимое грузов, набрали патроны к винтовкам сколько смогли унести, обулись в новые кирзачи, взяли новенькие плащ-палатки и простыни на портянки. Жалко, не оказалось гранат и тушенки.
Салманов приказал построиться:
— Так, товарищи краснофлотцы, мы не можем взять их себе, но и допустить, чтобы достались фрицам, тоже не можем. На этом они если не за нами гоняться будут, так патроны и снаряды точно возить будут. Поэтому, шоферы, два шага вперед!
Из полусотни вышли два человека.
— Не густо, — говорит Салманов. — Водить машину или мотоцикл кто-нибудь может?
— Я умею, — сказал я, — а еще трактор.
— Во, — говорит Салманов, — трактористы, выйти из строя.
Вышли еще семь человек.
— Ну вот, другое дело, — говорит Салманов. — Ко мне.
Побродив вдоль обрывистого берега, нашли удобный съезд в море. Шоферы и Салманов немного потренировали нас трогаться и разгоняться, а затем вставлять распорку на педаль газа, чтобы грузовик ехал без водителя. После этого мы разгоняли грузовик, вставляли палку и выпрыгивали.
Я первым из трактористов после водителей сел в грузовик, тронулся и медленно поехал к обрыву. Руль тугой, не должен сыграть в сторону. Выжал сцепление, несколько раз газанул, чтобы наполнить карбюратор топливной смесью, на последнем нажатии осторожно отпустил руль. Я точно вымерял и выстругал распорку такой длины, чтобы грузовик ехал плавно, без рева, но не заглох, поэтому уверенно вставил палку между рулем и педалью, осторожно выпрыгнул. Грузовик как будто не заметил моего отсутствия, также плавно подъехал к обрыву и рухнул вниз. Следующий довез грузовик до обрыва тоже без приключений.
Пятый тракторист сначала рванул вперед со страшным ревом, затем заглох. Опять рванул, взревел с черным дымом, испугался и выпрыгнул из кабины, держась за руль, свернув машину влево, чуть сам под нее не попал. Палка выпала, грузовик заглох, уткнувшись в заросли. Зрители, наблюдавшие за гонками боевых водителей, громко ржали. Неудачный водитель оправдывается: мол, ну чего вы, я же тракторист. Кому-то послышалось таксист, что привело к новой волне веселья: «Таксист! Вот так подвез!..», и кличка прилипла. Грузовик завели, вернули на исходную, после чего списали с таксопарка в обрыв.
Следующий тракторист запихал длинную распорку, и грузовик со страшным ревом понесся к обрыву, и пока летел с обрыва, продолжал страшно реветь, как раненый зверь. Водителя прозвали Укротитель.
Седьмой водитель-тракторист рано выпрыгнул из ревущего и разогнавшегося грузовика и смешно покатился по траве, заработав кличку Парашютист, но машина доехала до обрыва и благополучно нырнула с него.
Народ оживился, требовал продолжения. Водители стали спорить, кто позже всех выпрыгнет из кабины. Оба водителя уверенно выскочили за два-три шага до обрыва, соревнуясь со смертью, самодовольно оправляя гимнастерки под ремень, притоптывая новыми кирзачами и победно оглядываясь. Следующая очередь была моя.
— Давай, летчик!
Летчик, летчик! Догнала меня служба в авиации. Я оглядел товарищей и наткнулся на насупленный взгляд Салманова. За последнее время мы сдружились с нашим командиром. Вокруг него собралась компания ловких и умелых морпехов, для которых он был не просто командир, а старший боевой товарищ, бугор. Он явно не одобрял опасного циркачества, но, видно, не хотел лишать усталых, упавших духом краснофлотцев случайного развлечения.
Еще вспомнил слова Шуры, что не дурак, и, не обращая внимания на подначки, спокойно, без рывков, доехал до крайней точки и вышел не споткнувшись, не спеша закрыв за собой дверцу кабины, как из стоячей машины, чем вызвал не меньший восторг.
Оставшиеся автомашины с грузом отправляли с обрыва все желающие, быстро учась вождению. Последний грузовик отправил с обрыва морпех, только что ставший водителем. Салманов дал команду «построиться», затем «справа по одному, бегом марш!». Остатки батальона, в котором теперь почти все были водители, скрылись в лесу
***
В бой вступали нечасто, но потери продолжались. Кто-то захлебнулся в винных погребах, коих было много на побережье. Многие переодевались в гражданку и оседали у сердобольных вдовушек.
Заходим в уютный хуторок, спрятанный в зарослях на берегу моря. Встречает хозяин — старый винодел, отец двух веселых вдовых дочек, одна потеряла мужа в финскую, у другой в лагерях сгинул. Дочки при отце ведут себя скромно, но глазищами из-под косынок бойцов так и пожирают.
— Кто ж такие к нам пожаловали? — спрашивает хозяин, приглашая за большой стол под навесом, оставшимся с последней свадьбы.
Пока Салманов усаживается поудобнее, горло прочищает, раздумывая над ответом, старшина уже выдает:
— Мы, отец, особое секретное подразделение с особого секретного задания возвращаемся, вот решили у вас передохнуть, не возражаете?
— Ясно, отступаете, значит. Ну что же, отдыхайте, раз пришли, только не хулиганьте.
— Хулиганств не будет, — заверяет Салманов. — Нам бы перекусить чего не найдете?
— Мы не шановние, отец, нам бы крупы какой да сала, — добавляет старшина.
Поразмыслив, шевеля усами и бровями, а потом почесав ниже спины и затылок, хозяин оглядывает нас, считая в уме, и говорит:
— Сегодня можно и накормить, а завтра посмотрим.
Тяжело поднявшись с лавки, машет рукой, приглашая идти за собой. Салманов дает команду двум бойцам идти за стариком. Вернувшись с мешком пшеничной дробленки и ведром картошки, бойцы с азартом шептались, обсуждая закрома и дочек хозяина.
Хозяин принял нормально, даже выдал зарезать кабанчика, а дочки принесли соленых помидоров, огурцов, капусты и остались помогать стряпать. Когда расселись обедать, хозяин принес две бутыли с вином, и мы поняли, что попали в рай.
Почти три дня мы отсыпались и отъедались. Узкая дорога между заросших холмов к хутору позволяла контролировать ее одному дозору, а при необходимости с пулеметом и гранатами можно было вести бой с достаточно крупными силами противника. Подходы с моря по берегу были завалены скальными обвалами и были недоступны, и можно было быстро отступить через горы и лес. По словам молодых вдовушек, их и в мирное время не жаловали, и кроме местных мало кто про них знал, а сейчас, когда соседние села опустели, про них подавно все забыли. Мы, может, и не уходили бы с того хутора, у некоторых грешным делом такие мысли были, и, может, стали бы партизанским отрядом, но на третье утро одного бойца нашли захлебнувшимся в винном погребе. Есть такие, которым все мало, вот и этот, разведав хранилища, прокрался ночью и или не сдюжил с большим кувшином, или был так пьян, что заснул и поперхнулся, в общем, утром он плавал в луже вина мордой вниз. Это была вторая небоевая потеря на хуторе. Первая обнаружилась, когда хозяин не дозвался одной из дочек, а мы одного бойца. Другая дочка сообщила, что сестра полюбила морпеха и они вместе сбежали, куда, она только догадывается. Гнев хозяина был страшен. И нам показалось, что больше всего он расстроился не из-за дочки, а из-за винного погреба, так бережно им опекаемого. В общем, нам показали на дорогу, и мы двинулись дальше.
***
Скрытно передвигаясь, мы продолжали идти вдоль Черного моря по крымским горам, скрытые густой растительностью. Впереди всегда двигалось охранение. Перед селами делали привал и высылали разведку выяснить, есть ли немцы, румыны, где они и давно ли были, какие настроения в деревне, сможем ли достать еду. Встречались сельчане, которые прогоняли нас, мол, идите отсюда, у меня дети, хозяйство, а немцы узнают — всех расстреляют. Если удавалось что-нибудь достать поесть, мы сразу уходили, оставляя в лесу за собой засаду для прикрытия, делали маневр в сторону от моря и только через несколько километров устраивали привал. Еду готовили на маленьких кострах в корнях деревьев. Дым от таких костров стлался вверх по стволу, растворяясь в кроне и не обнаруживая нас. На таком костерке мог уместиться только один котелок или кружка, поэтому готовили, а потом и ели по двое, иногда по трое. А когда уходили, тщательно скрывали следы от костров травой и ветками.
Однажды нам повезло — мы достали мешок муки. Разведя костер, я замесил тесто, и каждый замесил в своем котелке, добавив воды и соли. На единственной в отряде саперной лопатке как на сковороде нажарили лепешек. Сначала голодные солдаты сразу разрывали и сметали полусырые лепешки. Затем, немного насытившись, на своих костерках варили чай из горных трав с ягодами, дожидались, когда пышки подрумянятся, и тогда уже жевали прихлебывая. Когда все наелись, сменили дозоры, повалились спать. Спали по двое, положив в костерок бревно и нагребая возле него травы или елового лапника, сверху плащ-палатку или шинель, а кто просто ложился сверху лапника. Укладывались по двое, накрываясь сверху второй шинелью. Салманов показал, как из двух плащ-палаток появляется навес, в котором мы с ним спали, прижавшись спина к спине, а в этот раз после пышек между нами влез пятнадцатилетний подросток Мишка, как-то оказавшийся в отряде. Мишка поменялся одеждой с дезертиром, забрав еще винтовку, и так встал в строй. Мы не стали его прогонять, потому что к нам уже прибивались 15–16-летние мальчишки, причем почти все приходили с оружием и ничем их было не прогнать. Недаром еще Наполеон Бонапарт говорил, что лучше нет солдата, чем в 15 лет. Они знали местность, и вся разведка ложилась на них. Днем без оружия в своей обычной одежонке шли вперед, а к вечеру возвращались и ночью вели отряд в обход всех опасных мест. Бывало, что от неуемной храбрости гибли в случайных стычках с фрицами, румынами и откуда-то взявшимися гитлеровскими прихвостнями с черно-белыми повязками. Но чаще всего, проводив нас до границ своих сел, где они знали каждую тропинку, возвращались домой. Но Мишка шел с нами до конца.
Возле какой-то деревушки, двигаясь через виноградник, услышали выстрелы. Сразу развернулись в цепь, приготовились к бою, выслав вперед разведку. Дозорные вернулись с грудным младенцем на руках. Ребенок ползал по изнасилованной и расстрелянной матери. Кто это сделал, выяснять не смогли: с другой стороны к деревне ехала немецкая колонна. Среди нас был старшина в годах, он взял девочку на руки, напоил водой из ложки, спросил чистое белье и перепеленал. Девочке было около полугода, и старшина назвал ее Катюшей. У него дома остались три дочки, за которыми он очень скучал и умел обращаться с детьми.
Через два перехода нам встретилась деревня, где он смог передать Катюшу. Жители обещали пристроить малышку в детский дом в Новом Свете или Судаке.
Глава IX. Безымянная сопка
29 декабря 1941 года утром на подходе к Коктебелю нас со старшим лейтенантом Петром Салмановым осталось 18 человек. Вернувшийся из разведки Мишка сообщил, что в Коктебель входят две колонны румынской пехоты.
Как стемнело, со всеми предосторожностями идем в обход Коктебеля. Двигаясь по оврагам или между сопками, выходим к морю и в ложбине под сопкой у самого моря находим брошенные ящики с патронами, гранатами, минами и разобранными в разных кучах пулеметами системы максим и Дегтярева. Запасшись боеприпасами, в том числе гранатами, я достаточно легко собрал три пулемета максим с боезапасом аж по две ленты на 250 патронов. Щедро, однако, наши тыловики имуществом разбрасываются. Обсудив, что хорошо было бы этот клад с теми грузовиками соединить, как тачанки, вот тогда бы мы повоевали, а то утопить теперь придется. Бойцы продолжили обсуждение об укреплении бортов для защиты от пуль, а я присел, пытаясь собрать пулемет Дегтярева. Он, конечно, для пеших переходов весил много, но не как максим, а иметь с собой дополнительную огневую мощь при прорыве к нашим позициям, как мы думали, уже недалеко, очень даже не помешает. Остальные лениво копаются в брошенном богатстве, ворча, что не нашлось брошенного ящика тушенки. Некоторые уже спят.
Утром неожиданно на краю оврага прямо над нами возникли всадники. Я вздрогнул, вскинув пулемет, верховые также быстро скрылись. Смотрю, остальные туда же целятся. Немцы сразу бы атаковали, и на этом бы моя история завершилась, но это были румыны, которые, увидев перед собой отряд «черной смерти», взявших их на мушку, решили не рисковать, а доложить командованию, что, рискуя жизнью, совершив разведку кавалерийской атакой, обнаружили засаду морской пехоты красных. Я думаю, так и было.
Салманов думал так же.
— Камрады, бежать нам некуда, да и надоело. Побежим — передавят как тараканов. Не первый день воюем, каждый 10 румын стоит. А здесь, — показал он на сопку, — на этих позициях мы их сотни положим. А там, глядишь, как в Севастополе — попрыгают и обойдут. Поэтому слушай приказ: Кочерга, Хрустов — дегтярь, мосинка, шмайсер, гранаты. Позиция — скалы на левом склоне сопки. Сектор огня: подступы с берега — центр.
— Команенко, Филиппов — мосинка, шмайсер, гранаты. Позиция — скалы по центру, сектор огня: центр — правый фланг.
— Лавадзе, Люшин — максим, мосинка, шмайсер, гранаты. Позиция — правый склон спереди сопки, сектор огня: от центра, подступы с правого фланга.
— Ганиба, Кравчук, Колосов, Талов — вторая линия обороны — максим, мосинки. Позиция метров за 100 до вершины. Замаскируйтесь, займите позиции, разберите цели: та малая соседняя сопка спереди, около моря, справа от нее холмы и овраги.
— Василенко, Гриценко, Мишка — винтовки. Замаскированная позиция на верхушке сопки. Круговое наблюдение.
— Куриленко, Шкледа — максим, шмайсер, мосинка, гранаты. Позиция — склон справа, сектор — складки местности справа от сопки, тропа, подступы с соседней сопки.
— Корж, Власов, с имеющимся оружием выбираете позицию для обороны сопки с тыла. По местам. Жду доклада о приближении противника.
Наша новая позиция господствовала над равниной, идущей со стороны Коктебеля, которая прямо перед самой сопкой заканчивалась оврагом-промоиной, где мы отдыхали и нашли брошенное вооружение с боеприпасами и где нас застала румынская разведка. То есть наши четыре пулеметные точки простреливали это пространство на всю возможную дальность стрельбы, с учетом, что мы скрывались за россыпью камней. Если смотреть на Коктебель, то слева сопку отделяла от моря хорошо простреливаемый песчаный берег. Прямо перед нами у моря небольшая сопка с хорошо просматриваемой и простреливаемой вершиной, нашими верхними позициями. Справа, около полукилометра простреливаемого пространства, располагалась другая сопка. Сзади нас тоже примерно около полутора километров вдоль моря еще одна сопка. Если оборудовать несколько хорошо замаскированных позиций, румынам нас взять будет непросто.
Поняв, что нас никто не атакует, остроглазый Мишка остался наблюдать, стрелки и пулеметчики начали окапываться и укреплять позиции, а я с Салмановым и еще двумя бойцами принялись минировать подходы.
***
29 декабря два батальона 4-й горнострелковой румынской бригады остановились в Коктебеле. Интендант с квартирмейстером организовали офицерам пирушку, награбив в погребах вин и коньяков многолетней выдержки. На столах жареная баранина, целиком зажаренные гуси, поросята, конфискованные у местных крестьян, и немецкая ветчина.
Для командования горных стрелков все складывалось наилучшим образом. Во главе большого стола полковник Ионеску подводил итоги кампании:
— Кровопролитные бои прошли, красные в Крыму потерпели поражение. Они, как докладывают немцы, еще крайне неудачно делают безумные попытки высадить десант, но их атаки с моря отбиты. Нам остается немного поддержать союзников, и Крым наш. По данным генштаба, немцы вот-вот возьмут Москву, и война выиграна. При этом Румыния не ограничится Транснистрией. Возможно, после победы и другие причерноморские земли, включая Крым, перейдут под протекторат великой Румынии.
Участники банкета разразились овациями.
— А как вы знаете, — продолжал Ионеску, — штаб кондукэтора и король Михай издали циркуляр, что командование частей должны составить именные списки офицеров, унтер-офицеров и солдат, заслуживших своей доблестью права владения землей на новых территориях, и я сейчас думаю над исполнением воли командования и монарха.
При этих словах последовали еще более бурные аплодисменты и тост за полковника Ионеску, кондукэтора и короля Михая.
Говоря это, Ионеску понимал, что уважаемые люди страны через приближенных ищут подходы к маршалу-диктатору, а дворянские дома Бухареста к королевскому дому молодого царя Михая, стремясь получить плодородные земли новых территорий. Поэтому полковник распустил слух, что вхож в кабинет первого министра и может способствовать в распределении земель. Козырями наверняка будут героические подвиги, поэтому полковник Ионеску восседал во главе стола на музейном кресле как на троне, вальяжно откинувшись на спинку, накинув на плечи плед, ниспадающий как мантия. Подчиненные офицеры соревновались в подобострастии, показывая уважение, наперебой предлагали свои услуги и клялись в личной верности. Ну что еще может быть лучше?
А впереди малое Рождество (Новый год), которое Ионеску встретит в этом маленьком захолустном, но далеком от боев и уютном поселке с бесконечными винными погребами и кабинетом с видом на море. А еще с трофейным стадом тучных коров, баранов и прочей живности, часть которого, конечно, придется передать в пользу страны, ну а часть он сможет переправить в свое хозяйство. Все-таки интендант заслужил Звезду Румынии с мечами. Вот тогда майор Календеру позеленеет от злости. Полковник питал тайную ненависть к Календеру, который происходил из знатного рода и имел настоящие связи в кабинете первого министра и при дворе хоть и безвластного, но значимого короля Михая. Да к тому же еще был храбр. Просто он заигрывает с солдатней, и глупые мужланы как бараны идут за ним в атаку. Дурачье. Календеру воюет за свои будущие владения, а эти переодетые селяне заработают только бесплатное отпевание. А знак Звезды Румынии при этом был бы майору ой как кстати, но полковник не дал ему такой возможности, хотя Календеру в этой гиблой войне не раз рисковал жизнью и ходил со своими дураками на позиции красных. А вот полковник как раз за эти атаки и был удостоен Звезды, и интендант Кумитреску будет удостоен, а Календеру пусть едет верхом на осле. И довольный собой полковник вальяжно взмахнул рукой, поощряя лейтенанта-подлизу, который радостно щелкнул каблуками.
***
Утро 30 декабря началось для больной головы Ионеску неприятным стуком в дверь. Тревожность предвещала неприятности, когда дежурный офицер доложил о срочном пакете из штаба бригады. Почему-то полковник предвидел, что там: «В районе побережья Феодосии противнику удалось высадить десант силами до 500 человек, которым удалось продвинуться в направлении Коктебеля. Приказываю: немедленно выступить, обнаружить и уничтожить десант противника». И ни слова о взаимодействии с частями вермахта. Немецкий саперный взвод в данной операции не подмога. Полковник привык прикрывать немецкие части. Сейчас, как того требовал приказ, предстояло самостоятельно атаковать морскую пехоту красных, и так известных своей безумной злобой, а сейчас вообще пытающихся отчаянно закрепиться на пятачке суши и не факт, что кто-то придет на помощь, ведь пока взаимодействия с другими частями, кроме немецкого саперного взвода, расквартированного в Коктебеле, он не ощущал, а в боеспособность своих переодетых крестьян, цыган и пастухов не верил вообще. Полковник дал команду разложить карту на обеденном столе и заходил по кабинету в поисках идеи, как избежать боя, а главное — нежелательных последствий. Можно выдвинуться прямо сейчас, немного заплутать в сторону от моря в обход Феодосии и разминуться с русскими. Или, наоборот, взять шахматную паузу и просто остаться на месте. При этом или поменяется ситуация и приказ отменят, а русские, которые не знают численности нашего гарнизона и которых не так уж много, не станут рисковать, а просто уйдут дальше. «Из этого может кое-что получиться», — подумал Ионеску и дал команду отправить конную разведку приданных каларашей проверить подходы к Коктебелю вдоль моря со стороны Феодосии. Пока о русском десанте, кроме него, никто не знал.
Всегда хорошо иметь приданные подразделения: ими можно рисковать, ведь это не твои потери. А их оплошности — это ведь их оплошности, мои солдаты такого бы не совершили, но, если что, награды всегда достанутся мне, ведь это я ими командовал и я их послал на задание.
Пробежав глазами карту, полковник приказал ее убрать, подавать завтрак и пригласить на него командиров подразделений и приближенных офицеров.
На завтраке с хорошим вином (коньяк Ионеску подавать не разрешил, коньяк с утра не полезен) полковник сообщил о приказе как о неясной ситуации. Что кто-то неизвестно куда идет и с какими целями, можно было бы предпринять атаку, но неизвестно, в каком направлении и с какими силами. Естественно, офицеры хором соглашались, но некоторые недоумки стали предлагать направить во все стороны конные патрули, а пока хорошо подготовиться, проверить оружие, лошадей и направить на окраины города усиленные пулеметными и минометными расчетами пикеты.
Организовав видимость исполнения приказа, полковник собрался отдохнуть после завтрака, но тут вернулись из разведки калараши и сообщили, что всего в нескольких километрах попали в засаду вражеской морской пехоты. Причем эти недоумки так шумели, что теперь об этом знали даже трофейные коровы.
Со слов поручика Рою, в районе бухты за мысом в форме гребня они что-то увидели, развернулись и пошли в атаку, намереваясь провести разведку боем, но, выскочив из-за холма, напоролись на хорошо оборудованную позицию более чем 50 человек русской морской пехоты, которые открыли ураганный огонь, но опытные румынские конные разведчики совершили маневр, прошлись по левому флангу противника, зарубив и застрелив около десятка красных, скрылись за холмом.
Ионеску не поверил ни единому слову командира каларашей, но главной бедой здесь было не это. Теперь полковнику ничего не оставалось, как отдать приказ выдвинуться и вступить в бой.
Ясно, что Рою со своими головорезами наткнулись на подразделение русских, и, привычно разделив на 3, понял, что противника, скорее всего, около двух десятков. «Может, это авангард? Но не могут же русские впереди морского десанта, находящегося в боевом развернутом состоянии, готовые к бою и понимающие, что противник, то есть я, знает об их существовании, направлять его впереди себя на убой? Черт-те что, ничего не понятно. Зачем мне такая разведка, если после нее надо отправлять разведку?» Рассвирепев, Ионеску отдал приказ на построение и выдвижение навстречу противнику, чего уже было не избежать.
***
Не знаю, какая часть отходящих наших войск оставила в районе сопки много оружия и боеприпасов, но нам удалось восстановить три пулемета максим и один дегтярь. А под командованием кадрового сапера старшего лейтенанта Салманова мы оборудовали насколько успели неплохие оборонительные позиции.
Еще раньше во время переходов те, кто слушал Салманова, усвоили, что каждый боец — это боевая единица и опорный укрепленный пункт оборонительной линии, который должен стать непроходимым для противника. Если гибнет одна огневая точка, сектор огня подразделения растягивается от соседних огневых точек, что снижает его плотность. Поэтому огневая точка должна быть как дзот (деревоземляная огневая точка) с бойницами, причем тщательно замаскированная, потому что обнаруженная огневая точка — уничтоженная огневая точка.
За полтора часа до начавшейся атаки мы немного вгрызлись в каменистые склоны сопки и тщательно замаскировались, свежий грунт и мокрые камни прикрыли дерном и травой. Успели заминировать входы в овраг перед сопкой и по центру, если противник попрет в лоб. К сожалению, остальные мины были без взрывателей.
«Румыны», — подал сигнал Мишка. Я сделал жест, означающий «не кричи», но шум моря перебил его голос, поэтому я, сложив руки рупором, покрякал как чайка условным знаком, что означало «противник, приготовиться».
Салманов принял тактическое решение не раскрывать наших позиций как можно дольше, стреляя исподтишка, держа румын в суеверном страхе. Открывать огонь только на поражение, по одному выстрелу с винтовок и только в момент разрыва мины. Цели — командиры, пулеметчики и минометные расчеты. Стараться попасть по ногам, потому что, во-первых, тело прикрыто амуницией, металлическими предметами, оружием, руками. Во-вторых, попадая в мягкие ткани ног, пуля может пройти навылет и задеть еще одного врага, и, самое главное, крик боли раненого солдата деморализует его товарищей, тогда как убитый вызывает чувства мщения. При этом раненого надо эвакуировать с поля боя, что с радостью сделают двое, а то и трое-четверо из цепи. То есть одним удачным выстрелом можно вывести из строя до восьми солдат и офицеров противника, а один общий удачный залп в унисон разрыва мины — отбить атаку. «Жалко, что нас так мало, — сказал Салманов, — нас бы еще десяток, и, оседлав соседнюю сопку, мы бы здесь до победы румын крошили».
Румыны приближались цепями по совершенно голой местности. По флангам перебежками меняли позиции пулеметные расчеты. Офицеры или унтер-офицеры шли позади. Позади последних шеренг ехали конные офицеры, подавая команды выкриками, унтер-офицеры их повторяли. На расстоянии далекой видимости расположился автомобиль и около него, по-видимому, группа старших офицеров. Позиция у нас была очень выгодная, наступавшие были как на ладони.
Несмотря на многократное вражеское превосходство, после обороны Севастополя мы чувствовали себя уверенно и даже с усмешкой смотрели на румынские маневры.
Дойдя до прицельного расстояния, первая и вторая шеренги залегли, пулеметчики приготовились к стрельбе. Сзади показались минометные расчеты.
Последовала команда, после которой пулеметчики с флангов сделали несколько коротких очередей наугад, первая шеренга сделала залп и побежала на сопку. Вторая шеренга встала на место первой и принялась постреливать наугад в нашу сторону. Находясь в надежных каменно-земляных укрытиях и необнаруженные врагом, мы продолжали наблюдать, не отвечая на выстрелы.
Добежав до оврага, отделявшего поле от сопки, стрелки остановились, но после окрика обнаруживших себя унтер-офицеров побежали обходить справа и слева. Первыми добежали до мины штурмующие со стороны моря. Готовые к взрыву краснофлотцы разобрали цели и ждали. Мы с Мишкой выбрали пулеметный расчет, грамотно расположившийся в канаве и даже, возможно, недосягаемый для остальных. Из-за большого расстояния мы договорились вдвоем стрелять по пулеметчику, чтобы наверняка.
Грохнула мина на левом, морском фланге, и почти одновременно с ним раздался залп из трехлинеек и крики раненых по всем шеренгам. Мы с Мишкой попали по выбранной цели, и второй номер, бросив пулемет и громко крича, потащил своего товарища с позиции. При этом, как я увидел, были уничтожены еще два пулеметных расчета и два офицера или унтер-офицера. Оставшиеся румынские стрелки первой шеренги бросились обратно, вторая шеренга начала беспорядочно обстреливать с винтовок сопку.
После окрика остатки первой шеренги вместе со второй опять под пулеметным прикрытием подтянутых пулеметов задних шеренг пошли в атаку, на ходу продолжая беспорядочно обстреливать камни.
Метров за двадцать до оврага румыны, избегая губительного фланга со стороны моря, не приближаясь к крикам и стонам ползающих раненых товарищей, как по команде побежали огибать нас справа и встретили вторую группу мин и еще один винтовочный залп от невидимого противника. Мы с Мишкой попали в офицера, которого радостно схватили и потащили четверо солдат. Остальные, включая конных офицеров, драпанули в сторону Коктебеля и остановились в недосягаемой для выстрелов видимости только после окриков из автомобиля.
Румынская пехота залегла, а в бинокль Салманова было видно, как вокруг автомобиля спешились офицеры. Потом они неожиданно вернулись в седла и уехали. Первая, но совсем не та, что была вначале, осталась на месте с двумя пулеметами на флангах, а остальные двинулись за автомобилем. Румыны поехали обедать. А мы остались на своих позициях, не обнаруживая себя.
В вырытой нами канаве вместе с Куриленко, Коржом, Власовым и Мишкой мы грызли сухари, запивая водой из фляжки. Тяжело вздохнув, Куриленко достал из сидора небольшой шмат сала. Вынув из голенища нож, стал нарезать тоненькими ломтиками. Неслышно, как только он умел делать, к щели подполз Салманов и поместился, утрамбовав нас. Видно, что он был в хорошем настроении.
— Все живы, никого не задело?
— Все, никого.
— Ну слава богу, там тоже все живы.
— Сало тильки трохи зовсим, — посетовал Куриленко.
— Та дивки з хутора не йдуть зовсим, — в тон ему вторил я.
И мы, прижатые друг к другу, согревшись и перебив голод кусочками сала, вдруг стали так громко ржать, что перекричали море, неожиданно стихшее, как перед бурей, и наше многоголосое ржание эхом разносилось по всем окрестным сопкам, отражаясь от них и от странного вида длинной кривой и тощей горы, глубоко вдающейся в море.
— Ладно, хлопцы, румыны зашевелились. По местам, Микола с Мишкой, Талов, смотреть по сторонам, — скомандовал Салманов и уполз на позицию справа.
Пообедав, румыны подтянули минометы и начали обрабатывать сопку. Не обнаружив нас, они расстреливали вслепую. Мы с Мишкой и Серегой Таловым остались в вырытом укрытии, и нас мины не доставали, но все равно было очень страшно. С каждым взрывом сопка противно сотрясалась так, что казалось, съедет в море, погребя нас под собой. Я как мог скрывал перед подростком свой страх, а Мишка сжался на дне укрытия, свернувшись калачиком и закрыв голову руками, взвывал при каждом разрыве. Я ругал себя, что не настоял, не прогнал его, как других мальчишек, когда была возможность. Обманул он нас своим бравым видом в начищенных сапогах, защитных галифе, бушлате, тельняшке и каске набекрень. А еще с гранатами за поясом и трехлинейкой, носимой им на изгибе левой руки как опытный охотник, как носил его погибший отец. А сейчас так было жаль этого вояку, превратившегося в совсем ребенка.
Отвернувшись от Мишки, смотрю на Серегу, а он смотрит на соседнюю сопку и одними губами матерится. Гляжу — на соседней вершине пристраивается минометный расчет. Это все, теперь не до жалости. Я дал Мишке хорошего леща, схватил за шиворот и проорал в самую мордочку: жить хочешь? Мишка удивленно смотрел на меня, не ожидая такого поведения. Я сунул ему винтовку в руки и проорал обоим: цель — наводчик, огонь! И тоже стал целиться в наводчика: убьем его, заряжающий, подающий и остальные уже не страшны.
Расстояние до цели около пятисот метров, если не больше, попасть очень сложно, практически невозможно, но если их не убрать, нам конец. С их позиции наши огневые точки как на ладони. Я прицелился и выстрелил. Наверное, пуля прошла близко, потому что наводчик метнулся в сторону и стал шарить взглядом по сопке. Мишка выстрелил и тоже не попал. Этот румын оказался смельчаком. По его резким движениям я понял, что он нас засек и меняет прицел, мне даже показалось, что я встретился с ним взглядом. Если он успеет, мы погибли, и все остальные тоже. Раздался выстрел Талова, и наводчик скрылся за сопкой, а за ним и вся обслуга, хотя по ним мы не стреляли.
Следующую атаку румыны предприняли между сопок с правого фланга, сразу после минометного обстрела. Они выскочили на пулеметное гнездо Лавадзе с Клюшиным, и те почти в упор кинжальным огнем, уже не думая о скрытности и маскировке, уложили не менее полуроты румынских горных стрелков, завершая во время перезарядки гранатами. Но, обозначив себя, сразу были уничтожены тремя минами.
Основная опасность исходила от вершины соседней сопки: если там расположить минометный расчет и несколько стрелков, то мы не удержимся. Во время передышки с Сергеем скатились на нижнюю позицию за пулеметом, на вершине он нужнее, и в окопчике у Куриленко со Шкледой видим удручающую картину. Рядом с ними разорвалась мина, ранив обоих. Шкледу легко посекло осколками, и после перевязки он готов воевать, но Куриленко явно доживал последние мгновения: осколок вошел в спину, и боец уже не подавал признаков жизни. Перевязали как могли, постарались утешить (вдруг он нас слышит), думали перенести его в пока безопасное место за противоположный склон сопки, но он умер. Положили в стороне от позиции, накрыли шинелью. Товарища не вернуть, можно только отомстить. Когда волокли пулемет на вершину, переживая очередную смерть, вспомнил слова Салманова на одном из привалов у костра: слово «отомстить» возникло, когда древнерусский дружинник из задней шеренги становился на место погибшего воина из первой шеренги и уничтожал врага, убившего его товарища, отстояв в бою место погибшего. Поэтому я с Мишкой остался устанавливать пулемет, а Серега Талов отправился вниз, отомстить за Куриленко.
Мы успели вовремя. Закрепив максим, сразу же открыли огонь по минометному расчету и отделению стрелков на вершине соседней сопки. Хорошо пристрелявшись перед этим с винтовок, мы очень быстро закончили все пулеметными очередями. Вершина была пуста, и мы перенесли огонь на атакующих передний правый склон сопки.
Мы стреляли с неудобной как для нас, так и для румын траектории — вскользь по сопке. Откуда-то левее нас сверху точными винтовочными выстрелами нас поддерживал Салманов. Также исподтишка Романенко и Филиппов с центральной позиции одиночными винтовочными выстрелами, стараясь не обозначить себя, уничтожили почти всех унтер-офицеров и один неаккуратно приблизившийся минометный расчет. Атака прекратилась, когда закончилась лента.
После прекращения атаки все стихло. Мы внимательно следили за румынами, которые без оружия, с опаской оглядываясь, собирали своих раненых. К ночи они отошли совсем. Ночь была морозная, и, наверное, враг ушел в теплые помещения Коктебеля.
Чтобы проверить силы наблюдающих, нас было слишком мало. Оставь свои позиции, мы были бы сразу уничтожены любым хорошо укрепленным пикетом, которых командование горных стрелков наверняка расставило вокруг нас.
А мы всю ночь срочно углубляли свои окопы и совершенствовали свою оборону. В темноте я минировал основные направления вероятных атак. В этот раз я не просто минировал подходы, используя в качестве запала ручные гранаты. Я обложил мины камнями, чтобы от взрывов было больше осколков, а потом тщательно маскировал дерном и мхом. Чеку на гранатах, привязанных к минам, я наживил, чтобы легко вытаскивалась, и привязал к ним проволоку от телефонных катушек, также тщательно замаскированную. Одну — перед позицией Кочерги и Хрустова, две — перед позицией Команенко с Филипповым и три — напротив позиции спереди справа, где погибших Лавадзе с Люшиным заменили Галиба и Власов, а мы с Мишкой теперь наблюдали на 360 градусов и должны поддерживать всех. Это была самая трудная ночь в жизни. Я два раза забывался во сне во время долбления каменистой земли, углубляя свой окопчик, но сразу просыпался от пронизывающего холода. Мишка совсем сник. С убитых румын ползком мы набрали меховых шапок, шинелей, теплых носков и рукавиц. Завернув во все это подростка, я оставил спать в укрытии на вершине, а сам минировал и укреплялся. Особенно нам понравились румынские добротные штаны из шинельного сукна, которые мы, сняв с убитых, надели поверх наших х/б.
Наверное, хорошо выспавшись, плотно позавтракав и продумав тактику штурма нашей высоты, утром 31 декабря одновременно с минометным обстрелом центра и правого склона сопки румыны пошли в атаку, на расстоянии около 500 метров до оврага залегли и устроили с нами перестрелку. Хорошо скрытые позиции по центру остались целы, хотя многие бойцы уже были несколько раз ранены осколками мин и контужены.
Так продолжалось достаточно долго. Румыны то поднимались, то опять залегали. Обстрел то прекращался, то опять возобновлялся. Враг постоянно пытался завладеть позицией на соседней сопке вдоль моря, но Кравчук с Колосовым и мы с Мишкой с пологой высоты, недоступной ни для выстрелов, ни для глаз, легко их уничтожали пулеметным огнем.
Также враг пытался занять позиции на дальней сопке справа, но открытая пологость ее вершины не позволяла оборудовать позиции, а мы старались не дать им закрепиться. Единственное, что удалось им, это установить один или два минометных расчета непосредственно за вершиной этой сопки. Так как на открытую часть вершины они выйти не решились, расстояние далекое, поэтому стрельба по такой траектории вела к попаданиям в море.
Но тут началась одновременная активность на обеих сопках и обстрел нас со всего, что можно. Очень экономно, короткими очередями, только по явным целям, мы некоторое время противодействовали этим попыткам, когда снизу слева услышали длинные очереди из пулемета Дегтярева, затем взрыв мины — началась стремительная атака скрытно подошедших румын вдоль берега. Кочерга и Хрустов, находясь на позиции левого склона, открыли огонь из Дегтярева и, дернув за телефонную проволоку, взорвали заложенную мину, но, несмотря на большие потери, румынские стрелки после окриков офицеров, поддерживаемые огнем из пулеметов, беспорядочно стреляя по сопке, опять пошли в атаку. Некоторое время пулеметно-автоматным огнем и гранатами Кочерга с Хрустовым сдерживали румын, периодически пытавшихся по открытому песчаному берегу добраться до них, потеряв при этом до 30 человек, но потом последовал минометный обстрел, и краснофлотцы были убиты попаданием мины. Наша позиция со стороны моря была уничтожена. Заменить их было некем.
Сразу началась атака с центра и справа. Румыны, настроенные решительно, направили по центру и справа огромную толпу смешавшихся шеренг, наверное, до роты. Поддерживаемые огнем пулеметов поверх голов, перебежками, непрерывно стреляя с винтовок, когда первая цепь ведет беспорядочный огонь, а задняя броском выдвигается вперед, опережая первую и так до последнего броска.
Почти одновременно центр и правый фланг напоролись на мины, причем по центру сначала Команенко и Филиппов подорвали за телефонные проволоки две мины, причинив большие потери плотно наступавшим цепям, уничтожив убитыми и ранеными почти всю первую шеренгу, но задние цепи после окриков унтер-офицеров опять поднялись в атаку, добрались до края, начали спрыгивать в овраг и карабкаться по центру на сопку. Команенко и Филиппов стали забрасывать их гранатами, отстреливаться с автоматов, и были расстреляны пулеметно-винтовочным огнем следующей цепи нападавших. Но тут сработала третья мина, последняя с запалом, заложенная мной в первый день обороны. Румыны дрогнули и побежали, несмотря на то, что с этой стороны обороняться было уже некому. Также погибли, не дав прорваться противнику на своем направлении, Ганиба и Власов. Обстреливая короткими очередями по своей косой траектории наступавших по правому флангу румын, они вели дуэль с румынским пулеметчиком до того, как у них закончилась лента. В этот момент румыны бросились в атаку и напоролись по очереди на три подрываемые проволокой мины. Прорвавшихся до взрыва Ганиба с Власовым положили гранатами и с автоматов, но были уничтожены пристрелявшимся румынским пулеметчиком. Но и здесь румыны больше не штурмовали. Мы с Мишкой этого, конечно, не видели, потом нам Салманов рассказал, переползавший с одного места на другое с винтовкой, румынским шмайсером и гранатами. Он укутался в измазанную в грязи плащ-палатку так, что с десяти метров был похож на скальный камень. А мы с Мишкой все это время с максима очень коротко и экономно не давали закрепиться румынам на соседней справа сопке, уничтожив пулеметчика и человек 10 стрелков. При этом во время лобовой атаки на Ганибу с Власовым около взвода горных стрелков пытались обойти нас из-за соседней сопки. Румынский пулеметчик с недосягаемой нам позиции непрерывно поливал заднюю часть нашей сопки, прикрывая неожиданную атаку пехоты, вступил в противостояние и смертельно ранил оборонявшего тыл Коржа. Под прикрытием этого пулемета румыны бросились на нашу сопку, но Куриленко и Талый, дернув за проволоки, произвели два взрыва и открыли огонь из окопов с автоматов. Мы поддержали их с вершины с максима, и атака захлебнулась. Но в этой атаке Куриленко с Талым геройски погибли.
После недолгого затишья румынские минометы стали опять обстреливать вершину сопки и наши уже уничтоженные позиции, опять убивая убитых краснофлотцев, не зная, что нам, наполовину контуженным, почти некем и нечем обороняться.
Тут Мишка начал вылезать из укрытия и прям под минометным обстрелом вставать. Я схватил его за рукав румынской шинели и с силой бросил на землю. Перекрикивая взрывы, проорал в самую мордочку:
— Куда башку тянешь? Жить надоело?
Мишка поводил головой и заорал, показывая на дерево над обрывом к морю:
— Румыны!..
Мы переползли к обрыву и увидели под нами румынского горного пехотинца. Он стоял на ступени обрыва, уже зацепил якорь за дерево и крепил штурмовую лестницу. По веревкам к нему на уступ лезет человек десять и столько же готовятся у подножия.
Мы метнули ему в голову по большому булыжнику, и румын кулем повалился на других скалолазов. Падая, он задевал остальных собой и лестницей, при этом увлекая их дальше, навьюченных автоматами и гранатами, с обрыва так, что на нижних шлепнулись уже четверо, давя и калеча.
В этот момент передо мной мысленно предстал весь план румынских стратегов, где эта атака горных стрелков, прорвавшихся за сопкой после предыдущих атак, забравшихся со стороны неприступной скалы в тыл нашему отряду, если бы не Мишкина наблюдательность, должна была нас уничтожить. Легко расправившись с последней их атакой, я вдруг понял, что мы победили, сопка наша. Победили крупное подразделение румын с пулеметами и минометами. За два дня мы их столько намолотили, и я был почему-то уверен, что у румын не осталось ни минометов, ни гранат, ни патронов к пулеметам. Голод, бессонница и переутомление ввели меня в безудержный восторг, так что я высунул голову с обрыва и заорал:
— КАСКУ НОСИТЬ НАДО!.. — И громко расхохотался безумным смехом.
А румыны продолжали срываться с обрыва, падать, скатывались и с криками «АМБУСКАДА!» драпать по берегу в сторону странной горы, похожей на гребень. Преследовать их мне было уже нечем. На счастье оставшихся в живых румынских стрелков, у меня закончились патроны и к винтовке, и к шмайсеру, и тем более к максиму. Внизу я разглядел около десятка неподвижных тел.
Тут я заметил, что Мишка странно на меня смотрит. Вместо унылого лица и потухшего от перенесенных испытаний взгляда на меня с восторгом смотрели ясные, радостные глаза. И вдруг он заговорил, как будто не он, не своим деревенским южным говором и хрипловатым голосом, а как-то правильно, чисто:
— Тебе трудно поверить, но запомни, пожалуйста, что я скажу. Ты выживешь, война закончится через три года нашей победой в Берлине. Ты вернешься домой, будешь уважаемым человеком. У тебя будут дети, внуки и правнуки. Они будут тебя очень любить, как и я, Миша — один из твоих правнуков. Весь наш народ будет благодарен тебе и всем нашим воинам за то, что выстоите и победите! Твои потомки верят в тебя, любят и ждут.
Взрыв — нас накрыла взрывная волна, и все затихло.
Когда я опять взглянул на Мишку, то увидел прежний тусклый взгляд на изможденном лице.
— Мишка, что ты сказал?
— Шо опять, — вяло отозвался подросток.
— Что ты мне сейчас говорил?
— Я? Дык ты орал, я молчал.
«Наверное, приснилось. Наверное, отдав последние силы с выдохом крику, я выключился, и только взрыв меня разбудил», — подумал я.
Было странно тихо. По безоружным румынским солдатам с носилками и белыми повязками на рукавах, которые, опасливо посматривая, крались в нашу сторону, я понял, что атаки пока больше не будет.
Слышны были только крики и плач румынских раненых. Наши молчали. Это значит, что все мои товарищи погибли. Нельзя было остаться невредимым после многочасовых прицельных, хорошо пристрелянных минометных, пулеметных и винтовочных залпов.
Я оставил Мишку наблюдать, полез осмотреться. Перелезая от воронки к воронке, услышал хлопок ладони по земле, повернулся, — в двух метрах от меня лежал завернутый в свою плащ-палатку невидимка Салманов и прижимал палец к губам.
— Что у вас? — одними губами спросил командир.
— Атаку из-за той сопки отбили.
— Знаю.
— На соседней верхушке до десятка с пулеметом уничтожили.
— Знаю, видел, молодцы.
— Атаку с обрыва со стороны моря отбили.
Салманов удивленно покачал головой:
— Козлы горные. Патроны остались?
Я отрицательно помотал головой.
— Камнями человек 10 положили. Остальные драпанули.
— Я посчитал, за два дня мы их только убитыми человек 300 положили. Но и мы с тобой одни остались.
— А Кравчук с Колосовым?
Командир отрицательно покачал головой.
— Мишка со мной.
— И Мишка. — С этими словами Салманов выстрелил рядом с одним из санитаров, пытавшегося с раненым забрать его винтовку.
Санитар бросил винтовку, рухнул на четвереньки и поднял руки. Постояв так, схватился за носилки и торопливо вразнобой, не попадая в ногу с другим санитаром, они стали быстро удаляться.
— С теменью спустимся, патроны соберем, не должны еще сегодня полезть.
Я кивнул.
— Смотрел наших?
— На кусочки.
Как стемнело, с Салмановым под прикрытием Мишкиной винтовки осторожно спустились к первым убитым румынам. Сползая мимо того, что было нашим пулеметным гнездом на правом склоне, увидел месиво земли, камней и человеческой плоти, развороченной минометными залпами.
С ближайшего румына снял ремень с подсумками, надел на себя, закинул за спину его винтовку. У остальных собирал в ранец подсумки с патронами, гранаты, сухари по карманам, других припасов не было. У одного из убитых нашел автомат, как шмайсер, только с деревянным прикладом, и с ним три запасных магазина. Я его также закинул за спину. Жалко, не удалось найти пулемет. Наверное, их румыны с собой забрали. Интересно было бы сходить на соседние сопки, где мы уничтожили минометные и пулеметные расчеты, но сил уже не было, и Салманов подавал знак возвращаться.
Из части собранных гранат вокруг сопки, на подступах, смастерили ловушки, другую часть в вещмешки закидали из расчета, сколько за пояс поместится. В другое бы время неплохо трофеев набрали, по два автомата то ли немецких, то ли румынских, то ли чешских с боеприпасами, винтовки немецкие с мешком подсумков с патронами, да гранат штук пятнадцать.
О завтрашнем дне думать не хотелось. Единственный уцелевший максим без единого патрона в ленте. Все основные позиции, удобные для обороны, разбиты и пристреляны румынскими минометчиками, да и вся сопка, наверное, уже прибрана на квадраты. Надежда только, что за последние два дня, а как будто неделю, у них не осталось ни мин, ни минометов. Рассуждая с Салмановым о сложившейся безвыходной ситуации, думали о переходе на другую сопку или о бегстве, но в любом маневре встреча даже с небольшим вражеским подразделением приведет к бесславной гибели, и хана всей героической обороне. Как говорил Салманов, в шутку или нет, если выживем и до командования дойдет, что мы тут 18 человек (с сыном полка) несколько дней сражались с двумя батальонами румынских горных стрелков и, можно сказать, уничтожили их, считая убитых, раненых, потерянные вооружение и боеприпасы, то нас и к Героям могут представить. Но главное — выжить, а выжить пока получается, только сражаясь. А если придется погибнуть, умрем на месте, но в бою.
Новый год встречали втроем: старший лейтенант Петр Салманов, я — краснофлотец Николай Василенко и Мишка. Погрызли сухарей, у кого-то из убитых в сидоре нашли фляжку с вином. Не помню, как заснул, прижавшись в окопчике к Мишке, Салманов с другой стороны нас поджал. Наверное, выпив натощак вина, мы незаметно заснули. Боевое охранение, дозоры и пикеты несли наши героически погибшие товарищи. Проснулся от застывшего плеча, да так, что шевелить больно. Хорошо не правого. Смотрю, Салманов впереди окопчика лежит, в бинокль смотрит. Подкрался к нему бочком, левую сторону приволакивая. Смотрю, а там румыны по полю наступают во весь рост, не пригибаясь, не перебегая, без пулеметов и минометов, с винтовками наперевес, и штыки примкнуты.
— «Чапаева» вчера смотрели. Кинобудка приезжала, — как не здесь шутит Салманов.
— Только у нас ни максима, ни Анки.
— Да, — потянул старлей, — нет у нас Анки.— Потом встряхнулся. — Ну что же, у Анки там тоже патроны кончились, да Чапай подоспел. Так что, Николай, я прямо, попробую в том окопчике или меж камней повоевать, ты сползи справа на бросок к ловушкам и затаись. Как сработают, кидай все гранаты, меняй позиции, только так, чтоб задние не поняли, откуда летят и сколько нас, авось побегут, а ты передних, кто прорвется, ложи сколько сможешь, а дальше как бог даст. Ну, прощай.
— А мне куда? — проснулся Мишка.
— Бег бы ты отсель, с сопки сзади спустишься, и дай бог ноги.
— Я не уйду, — опять уперся Мишка.
— А к румынам попадешь?
— Живым не дамся.
— Ну как знаешь, с винтовкой на вершине крутись во все стороны, главное, за сопками смотри. А как мы затихнем, прячься в окопчик, срывай чеку и жди.
— Чего?
— Чапаева.
— Гы-гы-гы-гы, — не к месту развеселился Мишка и взял винтовку.
Наверное, победив все винные погреба на Новый год, румыны шли в полный рост. Я, замотанный с головы до ног в мятую грязную, обваленную в траве плащ-палатку и разные тряпки, незаметно занял свою позицию, разложив перед собой гранаты и два шмайсера.
Слышу, команды ближе и ближе: «Стэнда, стэнда». Потом крик: «Посрать форма», потом опять: «Посрать форма». Смешно, еле от смеха сдерживаюсь. Похоже, унтер командует в форму от страха гадить. Странно, жить последние секунды осталось, а я от хохота сотрясаюсь, еле звук сдерживаю.
Чувствую, близко. Ну, думаю, чего ждать, взял первую гранату, дергаю, размахиваюсь и кидаю. Слышу — взрыв, затем еще два — ловушки сработали. Кидаю в другую сторону еще одну — взрыв дуплетом. Теперь чуть правее, еще на подлете, сначала ловушка — вижу, летят камни, затем моя в пяти метрах правее. Сверху над головой винтовочные залпы — наугад лупят в сопку. Слышу, левее один за одним четыре взрыва и автоматные очереди. Я, сильно замахнувшись, слыша сверху Мишкины винтовочные выстрелы, кидаю еще одну, думаю: хорошо, с одной стороны ломят, и сразу вскакиваю на одно колено и, захватив ремнями за плечи, сразу с двух автоматов, высоко подняв, поливаю в сторону наступающих, стараясь отсекать по три патрона, выстреливаю по магазину-обойме. Кидаюсь назад, за холмик, и перезаряжаю магазины. И так, пытаясь понять, где румыны, несколько раз. Салманов еще стреляет, Мишка палит. Румыны, слышу, палят, но не наступают. Залегли?
Меняю позицию, приподнимаю автомат, делаю три короткие очереди, перекатываюсь ниже, еще приподнимая автомат, три короткие очереди. В ответ пули летят не точно, куда попало. Значит, еще не засекли. Отползаю назад, слышу: опять ловушка сработала где-то далеко за сопкой слева — Салманова обойти пытаются. Если спустился с окопа второй линии, тогда позиция у него очень невыгодная. Да чего я, все равно погибать, так хоть от командира немного стволов отведу. Беру опять два автомата на ремни в обе руки, выдвигаюсь ползком вперед, из-за плавного уклона выглядываю на корточках и метрах в десяти натыкаюсь на румын, которые вверх, левее меня смотрят, и я разряжаю в них с обоих автоматов по рожку. Мечусь назад. Кроме крика, румыны больше ничем не реагируют. Перезаряжаюсь. Упал на землю, ствол вперед выставил, жду, никого нет. Слышу, румыны стрелять прекратили. Салманов еще очередь пустил Неужели живой? Осторожно подползаю к бывшей позиции, выглядываю — бегут румыны. От восторга отправляю вслед длинную очередь до щелчка, хотел ура прокричать, но сил не осталось.
Сел, смотрю на убегающих румын, отщелкиваю рожок, пошарил, а больше и нет, и, как назло, с соседней сопки выстрелы куда-то поверху. Мишка не отвечает. Неужели убит?
Слышу сверху хрип Салманова:
— И какого хрена? Не шевелись. Прямо пулемет оставили, за сопкой, наверно, тоже. На той сопке стрелки закрепились, Мишке голову высунуть не дают.
— Живой?
— Вроде живой. Патроны есть?
— Нет.
— Ну так какого хрена, мать твою, — хрипит шепотом.
Сказать мне нечего, в руках последняя граната.
— Не шевелись, — слышу удаляющееся шуршание.
Понятно, ни у Салманова, ни у меня патронов не осталось. У меня последняя граната. К Мишке не пробиться. Следующая атака — последняя, без шансов. Теперь точно конец. Пошевелюсь — сверху сразу заметят, пристрелят. В атаку пойдут — пристрелят.
Остается не шевелиться, ждать приближения румын и взрывать гранату, авось еще кого с собой прихвачу.
Глава X. Партия Шермана
Лежу, удивляюсь своему безразличию, покой в душе. Наконец-то не надо, как последние месяцы, метаться и что-то выдумывать, куда-то бежать, жизнь сохранять, лежи себе и лежи, жди судьбу. Не заметил, как провалился в сон.
Приснился мне красивый, солнечный и ласковый летний день. Сижу на берегу Волги, а вроде как в Крыму, и братишка меня младший зовет:
— Колька, иди, жинка зовет. — И убегает обратно смешно вприпрыжку.
А чего зовет, я ж в колхоз должен идти, самолеты чинить. А по сну вроде как есть жена, поэтому иду за братишкой. Смотрю, девушка стоит, лицо незнакомое, миловидное, сама под платьем ладная такая. Я к ней иду, руки протягиваю, а она половником по кастрюле дыщь-ды-дыщь.
Просыпаюсь — румыны уже близко, перебежками наступают, стреляют.
Притаился, жду, хоть бы не рано заметили, поближе подошли. Решил, вскочу неожиданно со взведенной гранатой над головой и с криком «ура» страшным голосом в атаку на них брошусь.
Лицо в землю спрятал, чтобы раньше времени не заметили, с гранатой под правым плечом на изготовку лежу.
Вдруг слышу: из-за соседней справа сопки автоматные очереди в тыл наступающим. Причем дружные, четкие звуки ППШ. Румыны, которые на меня наступали, в толпу смешались, винтовки побросали, в ложбину бегом, как стадо, ломанулись промеж двух сопок и прямо на автоматно-пулеметные залпы. Дегтярь! Его ни с кем не спутаешь. Тут я понял, что наши подоспели. Сначала хотел сделать, как задумал, — «ура!» заорать и гранату в румын бросить, но тут можно сгоряча и от своих в бок получить, поэтому лежу дальше, жду.
Уложив наступающих на меня румын, неизвестные бойцы цепью бросились вперед. Справа от меня метрах в пяти упали двое с дегтярем, дали пару очередей и опять два-три шага вперед, упали, и две короткие очереди. Слева тоже группа цепью постреляла и вверх, на вершину сопки, упали, и опять два-три выстрела. Сверху с правой сопки тоже дегтярь по румынам тарахтит.
После того, как вторая группа морпехов-краснофлотцев вперед прошла, решился. Медленно поворачиваюсь и медленно, как ученик с парты, поднимаю правую пустую руку, и в этот момент мне в спину уперся автоматный ствол десантника, который, видно, давно за мной притаился.
— Браток, я свой.
— Кто такой?
— Краснофлотец Василенко, 3-й батальон, 7-я бригада морской пехоты. Вы, хлопцы, как Чапаев.
***
После боя ищу Мишку и Салманова. Одни десантники расположились цепью между сопок и на вершинах заняли пулеметные позиции, другие обшаривают убитых румын, пополняют боезапас. Два бойца уже снаряжают ленту нашего уцелевшего максима.
Увидел Мишку, он подбежал, обнялись, живы. Смотрим, Салманов с командиром десантников карту смотрят, Петр что-то показывает на карте, морской офицер кивает, соглашается.
— Щас опять в прорыв, — говорит мой новый знакомый матрос — разведчик Варела, и слышно, что ему по нраву.
— Все отступают, а мы фрицев гоним. Вы тоже молодцы, вон сколько уложили.
— То румыны.
— Какая на хрен разница, — ухмыльнулся Варела, — всех на дно к едреной фене, рыб с червями кормить. Ты видел, что они с людьми делают?
— Видел, — вспомнил я растерзанную и расстрелянную мать и малышку рядом с ней.
Спасшее нас подразделение оказалось десантным отрядом Арона Шермана. Около 250 краснофлотцев из состава Новороссийской 9-й бригады морской пехоты. Мы, наобнимавшись со спасителями, влились в их ряды.
Хороним наших 15 погибших товарищей и двух морячков из отряда Шермана в овражке, у подножия обороняемой нами сопки. Это не первые боевые потери отряда. Пробившись из Феодосии с боями через перевалы, к моменту нашей встречи дошла половина, и встреча с двумя свежими батальонами горных стрелков могла закончиться их гибелью. Поэтому командир и десантники были нам очень благодарны за эти три дня изнурительных ожесточенных боев, где мы ценой гибели нашего маленького отряда смогли растрепать два хорошо подготовленных и хорошо вооруженных подразделения противника, а подоспевшие морские пехотинцы добили дезорганизованных, понесших большие потери и павших духом румын.
Как я понял, задачей морского десанта под командованием Арона Шермана был захват Коктебеля и удержание его до подхода основных сил. Задача невыполнимая и самоубийственная. Пройти по сильно холмистой, местами гористой местности с пятьюстами десантниками, вооруженными только стрелковым оружием, без поддержки артиллерии и авиации, не говоря уже о бронетехнике, не имея никакого представления о местах расположения противника и его количестве. Каждый из прошедших боев мог быть последним. Но в каждом бою ценой больших потерь и невероятного везения, а также силой боевого духа, говоря себе: мы черная смерть, мы красные дьяволы, совершая отчаянные атаки и стремительные маневры, они заставляли расчетливого противника терять веру в свои силы и спасаться бегством.
Я слышал, как обсуждали первый на выходе из Феодосии бой. Краснофлотцы, стремительно передвигаясь, напоролись в ночи на крупное подразделение немцев, оседлавших перевал в районе горы со странным названием, и те, кинжальным огнем расстреляв наш авангард, заставили десантников залечь. На перевале, на господствующих позициях находилось около роты немецкой пехоты. В других обстоятельствах и с другими бойцами это был бы первый и последний бой. Опытные фашистские пулеметчики при поддержке минометов постепенно уничтожили бы весь отряд. Но это была морская пехота. Отвлекать основные силы врага, связывая его перестрелкой, Шерман оставил только десять бойцов, еще десять добровольцев, вооруженных ножами, револьверами и гранатами, отправил пробираться в обход немецких позиций, а сам с основными силами переместился на труднодоступный склон, с которого немцы ожидали атаку меньше всего.
Когда десяток морских дьяволов по одному по-пластунски крались в обход, а основной отряд, отступив в темноту, тихо, как тени, зашелестел к другому склону, немцы держали на выстрел авангард и расстреливали с минометов место сзади него, где, как им казалось, залегли наступающие, вспахивая минами там, где уже никого не было.
Добравшись до обратного склона, абордажная группа поднялась в тыл, тихо сняла наблюдателей и также тихо начала вырезать ближайших фрицев. Когда те заметили, что их режут, десантники были уже в центре фашистских позиций и после броска гранат со страшными криками «За Родину!» бросились в атаку. По этому сигналу со всех сторон с криками: «За Родину!», «Полундра!», «Сарынь на кичку!», а затем с общим «Уррра-а-а!» бросился весь отряд. Испуганные немцы кинулись с сопки в разные стороны, ища спасения в темноте между клиньями атакующих.
А на исходе боя в бледном тумане приморской зорьки подошли еще две роты фрицев, как им казалось, для удара во фланг штурмующим сопку краснофлотцам, со стороны того, очень пологого, почти обрывистого склона, откуда только что атаковал немцев весь отряд, но наверху были уже наши позиции, и не остывшие еще бойцы расстреляли неудачливых немцев с шикарных, ими же подготовленных стрелковых гнезд с их же пулеметов МГ.
После этого наша трехдневная оборона, благодаря которой бойцы Шермана с ходу снесли остатки недобитых румын, стала подарком, благодарность за который светилась во взгляде каждого краснофлотца.
Теперь необходимо было захватить Коктебель, но, вопреки словам Варелы, на штурм мы направились не сразу. Шерман дал команду расставить наблюдателей, закрепиться на господствующих высотах и направил группы разведчиков вокруг Коктебеля.
Мы с Мишкой спали, когда вернувшиеся разведчики сообщили, что на подступах и вокруг Коктебеля противника нет. Это могло означать, что все возможные подразделения немцев, румын и еще кого-нибудь стянуты в городок и приготовились к обороне. Мы не знали, что румыны в панике бежали и весь гарнизон Коктебеля представляет из себя немецкий саперный взвод, вооруженный карабинами, и больше никого.
Также разведчики сообщили, что на въездах в город и с моря стоят укрепления из мешков с песком, но кем они защищаются и с каким вооружением, выяснить не смогли.
Захват Коктебеля Шерман разыграл, как в шахматах. Группами по три бойца с пулеметным прикрытием мы просачивались городскими дорожками с разных сторон.
Сначала обнаружили два укрепленных рубежа с пулеметами, один со стороны Феодосии, другой с моря. Не ожидавшие нападения с тыла, фашисты были легко ликвидированы. Другие укрепленные пикеты, брошенные румынами, пустовали. Остальные группы разведчиков спокойно входили в город через закоулочки и тропки, которые показывали встречные местные жители, и от них же узнали, что немцев очень мало, танков, бронетехники нет совсем. И только одна группа, заходя со степи, наткнулась на двух часовых. Немцы вскинули карабины, но брошенная финка уничтожила одного, а второго взяли как языка.
Так в переутомленном закате, тихо передвигаясь переулок за переулком, морпехи наконец обнаружили и обложили старинное здание, где закрепились немецкие саперы. Назвать фашистами рабочих с перепуганными лицами в обычно такой бравой, а сейчас неказисто торчащей форме вермахта не поворачивался язык. Саперы находились в неизвестности, им было очень страшно. Три дня румынские горнострелковые батальоны, усиленные минометной ротой и кавалерийским эскадроном, несли неоправданные, нелепые потери в странном бою с крохотным немыслимо кровожадным подразделением красных, и вдруг перестрелки затрещали уже в городе. Не имея связи ни со своими, ни с румынскими постами, саперы бросились уговаривать молодого лейтенанта покинуть этот дом и этот город. Нет смысла быть убитыми в конце победоносной войны, говорили они, погибнув от отчаянной контратаки сумасшедших русских фанатиков. Лучше никому не будет, ни Германии, ни их семьям. Они столпились перед черным ходом с ранцами и другой поклажей, глядя на юного офицера молящими глазами.
В этот момент по окнам и дверям фасада ударил шквальный огонь, скосив оставшихся в передних залах немцев. А когда с гранатными разрывами внутри здания дико, нечеловечески со стороны парадного завопили: «Ура-а!», немцы с заднего хода, бросая оружие и поклажу, рванули наутек. Пробежав через спасительный выход и дальше через уличные коридоры вон из города, они выскочили на пулеметный расчет, на меня с Мишкой. Дав короткую очередь, я вынудил их залечь. Вставали они уже с поднятыми руками по команде догнавших их краснофлотцев.
***
По-видимому, в своих донесениях о ходе боевых действий Шерман А. М. вынужден был указать о встрече с бойцами подразделения, прошедшего по тылам противника, которых он включил в свой отряд, потому что числа 3 или 4 января в Коктебель прибыл грузовик с НКВДшным чином и двумя бойцами. Меня, Салманова и Мишку арестовали и отвезли то ли в комендатуру, то ли в тюрьму.
Начались бесконечные допросы. Нас подробно опрашивали о пройденном пути от Мекензиевых гор до Коктебеля, что мы делали на территории, захваченной врагом, почему шли на восток, а не сдались в плен, дотошно записывая наши слова на бумаге, и, наверное, сравнивали. Обидно было смотреть на их ухмылки, когда я рассказывал о трехдневной обороне нашей сопки. Они открыто веселились над моим рассказом о найденном нами брошенном вооружении, о приведении в действия мин с помощью проволоки из катушки связиста и о ведении мной стрельбы сразу из двух румынских шмайсеров. Офицер НКВД веселясь даже кивнул присутствующему на допросе подчиненному: «Ходатайствую наградить Василенко Звездой Героя», и они громко и продолжительно расхохотались. Справедливости ради надо сказать, что на нас не орали, не били и не обвиняли в трусости, наверное, потому что мы по приказу оставили позиции в Севастополе. А мы с Салмановым, получается, не сговариваясь, умолчали о том, что заблудились и не вышли к месту назначения, потому что уходили от боев с превосходящим противником. Если бы это всплыло, для нас все закончилось бы плохо.
Прошло около недели или двух, когда на допросе НКВДшник достал газету и спросил:
— А на бронепоезде оставались пулеметы или боеприпасы?
— Каком бронепоезде? — не понял я.
— Ну который стоял под сопкой, тот, что вы обороняли.
— Не было никакого бронепоезда, там и железной дороги нет, — ошалел я.
— Понятно, — ответил он. При этом смотрел на меня серьезно и даже уважительно. — На, читай.
Газета называлась точно не помню, «Боевой натиск» Крымского фронта или «На штурм» 44-й армии, в которой достаточно точно был описан наш бой на высоте. Но ведь корреспонденту надо было украсить статью героизмом, и он написал, что отряд воинов-краснофлотцев за три дня боев уничтожил 500 врагов и, оказывается, защищал стоящий под сопкой бронепоезд. Конечно, никакого бронепоезда не было, а мы просто хотели жить.
В тот же день нас выпустили. Старшего лейтенанта Салманова отправили в какую-то саперную часть, а меня в запасный стрелковый полк 44-й армии. Мишку переодели и тоже куда-то отправили. К сожалению, ни с Мишкой, ни с Петром Салмановым мы больше не виделись.
Глава XI. Крымский фронт
В запасном стрелковом, недалеко от Керчи, оружия нет, обмундирования не дали, кормили впроголодь. Паек хуже, чем в регулярных подразделениях, раза в два. Кормили плохо промытой и недоваренной шрапнелью 9 дробь 16, как мы называли перловку, без мяса и без сала, что по меркам артельной жизни означало, что дела плохи. А щи из прокисшей капусты и гнилой картошки просто кошмар. При этом много политзанятий про новый фронт по освобождению Крыма и долг отдать жизнь, защищая Родину.
Повара готовить не умели и не старались, кто-то пытался поговорить с ними, подсказать, помочь, но услышал угрозы быть битым поварешкой с криком «много вас таких попрошаек ходит», а еще мы прослушали политзанятия, что кто недоволен, как кормят в Красной армии, тот против Советской власти.
В полку было много пополнения из Грузии и Азербайджана. Пару раз азербайджанцы, доведенные до изжоги такой кухней, доставали у крымских татар барана или часть коровьей туши и на одолженном там же казане готовили такой вкусный шулюм, какого я в жизни не ел.
Один такой раз, когда весь взвод наелся, а азербайджанцы в своем кругу что-то бурно и весело обсуждали, постоянно взрываясь хохотом, я обратил внимание на унылого парня, который сидел отдельно от земляков.
— Здорово. — Подошел я к нему. — Как дела, друг?
— Спасыбо, — протянул он грустно.
— Дома сейчас тепло? — Искал я подход, чтобы узнать причину грусти.
— Тэпло, — сказал он и опять замолчал.
На руке между указательным и большим пальцами я увидел синюю татуировку корявой надписью «Улдус». Заметив мое внимание, боец спрятал руку в рукав, натянув на кисть, захватив пальцами манжет гимнастерки, стал чистить им штанину. Поняв, что разговор не получится, я пошел мыть свой котелок.
Часто бывает, что жизнь нас заранее к чему-то готовит, будто подбрасывает знаки, а прошедшие незначительные события имеют продолжения, будто из ситуаций разных людей складывается мозаика одного продолжения. Так и сейчас.
Вечером нас с Вугаром, как звали парня с татуировкой, отправили в охранение. Сидим в окопчике на двоих, скрытые зарослями кустарника, по очереди на корточках перекуриваем, пуская дым в корни, чтобы он, поднимаясь, стелился и растворялся в зеленой листве, не опавшей зимой в крымском климате. Как оказалось, Вугар успел повоевать и тоже знал подобные хитрости.
Сидение фронтовиков в окопе располагает к открытым беседам. Прошедшие проверку боями, даже ранее никогда друг друга не видевшие, часто общаются как старые знакомые. Поэтому я узнал историю несчастной любви Вугара и Улдус, произносил он как Юлдус.
Родители Вугара — школьные учителя, он тоже закончил курсы и мечтал работать в местной школе учителем азербайджанской литературы. С ним на курсах училась девушка по имени Улдус, дочь местного князя, поэтому она всегда была в сопровождении родственников или порученцев отца.
Меня очень удивило, что в нашей Стране Советов после стольких событий остались князья, но Вугар сказал, что у них у власти находятся потомки дореволюционной знати, а отец Улдус управлял нефтяными промыслами, которыми до революции владели его отец и дед.
И вот, несмотря на присмотр, Вугар и Улдус понравились друг другу и находили способы общаться, записки передавала ее подружка, а любимым их занятием были гляделки. Когда Вугар рассказывал про гляделки, его лицо становилось смешным и счастливым, и видно было, что это были лучшие минуты его жизни. А по окончании курсов подружка Улдус отвлекла сопровождающего дядю, и молодые люди сбежали. Вугар все подготовил для побега. Он съездил в какое-то село в России и договорился о работе для двух учителей, где его с радостью ждали и даже предоставили дом для жилья. Но подружка не только помогла Улдус сбежать, но и сообщила ее семье, поэтому люди отца настигли их на вокзале в тот же день.
Вугара не убили, потому что он прикинулся валенком и сказал, что не украл Улдус, а хотел помочь с работой. Тогда его избили и отправили в армию, поэтому войну он встретил в Одессе раньше своих земляков.
В полку оружия хватало только на караулы, а тут еще азербайджанские и грузинские маршевые роты шли к нам без оружия, и вскоре на построении зачитали фамилии, в том числе я услышал:
— Рядовой Василенко!
— Краснофлотец Василенко. Я!
— Разговорчики.
Выйдя из строя, оказался среди переживших оборону Одессы, Севастополя и отступление. Всего человек 50. Замполит объявил, что в настоящий боевой момент задачей полка является добывание оружия.
Мы построились в три шеренги и из стоящих трех в колонне сформировались, как сейчас говорят, диверсионные группы, и уже этой ночью мы должны совершить вылазку и, уничтожая врага в первой линии окопов, захватить как можно больше оружия и сразу же вернуться обратно.
Командование рассчитывало, что нам удастся незамеченными подкрасться к первой линии обороны противника и, как можно дольше сохраняя тишину, врукопашную уничтожить занимающих первую траншею. После этого, пока противник готовит артиллерию, подтягивает резервы, накапливает живую силу для контратаки, нам необходимо совершить бросок обратно к своим окопам.
В группе одна винтовка на троих, у остальных ножи и даже черешки от лопат. Правда, МСЛ-40 в достатке, причем очень добротно сделанные из хорошего металла, насаженные на крепкую деревянную рукоятку, выточенную, как сказал мне Вугар, из кавказского ореха. Я наточил все стороны своей лопатки, как лезвия топора, из пеньки сделал темляк, чтоб не потерять в темноте. Еще в голенище кирзача смастерил ножны для своего снятого с убитого румынского офицера ножа. Кстати, его мне особисты, в отличие от трофейного вальтера, вернули. Жаль, вальтер бы мне пригодился при вылазке.
Для подачи условных сигналов обучились подражанию очень странному крику местных ночных птиц. Первый раз, когда это услышал, покрылся мурашками и волосы на голове зашевелились от ужаса. Звук, будто порождение ада, плачет, как ребенок.
Поздним вечером подтягиваемся к передовой. Осторожно, меняя друг друга, переползаем к позициям немцев. Когда до вражеской траншеи осталось метров сто, раздался плач из преисподней, в ужасе застываем. Передний заметил противника. Ужасная птица издает два душераздирающего плача, и мы ползем дальше уже друг за другом в три разведанные передними бойцами коридора без мин и дальше тремя ручейками вливаемся в фашистский окоп, не встретив никакого сопротивления. Наверное, ночные крики адской птицы загнали часового в блиндаж.
Крадучись расходимся по окопу вправо-влево. Впереди бойцы батальонной разведки, за ними стрелки с винтовками, занимая позиции. Передний присел, подняв руку. Мы тоже присели, затаились. Из-за поворота показались два немца, шаг, и оба вражеских часовых беззвучно растворились. По бесшумному сигналу двигаемся дальше мимо двух фашистских трупов без винтовок и снаряжения. Расходимся по ходам сообщения и находим несколько земляных блиндажей, распределяемся по две тройки на блиндаж.
В тишине врываемся в землянки противника. Первый Вугар с трехлинейкой с примкнутым штыком, следующий я с саперной лопаткой, тройку замыкает Никита с большим кухонным ножом-свинорезом. При тусклом свете буржуйки колем, рубим, режем еле проснувшихся фрицев. Вскидывается винтовка, я, как на стройке, левой выдергиваю ствол, правой с саперной лопаткой бью в темноту до неприятного мокрого хруста. Винтовку за спину, обшариваю вокруг, забираю с собой солдатскую пехотную портупею с подсумками и длинным штык-ножом в ножнах. Еще забрал четыре гранаты с длинными деревянными ручками и ранец, успев набить его тушенкой. Выходя из блиндажа, заметил отблеск на стволе еще одной винтовки под нарами, тоже забрал с собой. Тихо уходим тем же путем обратно. Каждый нес две или три винтовки с боеприпасами, еще добыли два ручных пулемета, и разведчики тащили двух языков. К сожалению, ни автоматов, ни пистолетов не добыли. Также тихо возвращаемся назад.
Уже на подходе к своим позициям услышали звуки стрельбы с вражеской стороны, но не по нам, а где-то там, у них.
Днем мы отсыпались в тылу, а ночью опять крались на вражеские позиции. Так удачно, без потерь и с добычей, больше не получалось. Немцы держались настороже, стали плотней и сложней минировать подходы, прокладывать колючую проволоку перед позициями и навешивать на нее связки консервных банок, вместо часовых появились пулеметные расчеты.
Но мы тщательней маскировались, надевая на себя мешки с прорезями для головы и рук и каждый раз меняя место атаки, очень осторожно подползали к фашистским окопам, а наши саперы все равно прокладывали путь в минном поле. Разведчики находили пулеметные гнезда и забрасывали их гранатами, а мы уже в открытую, с криками «ура» врывались в переднюю линию окопов и добивали всех, кого в них находили.
Последний раз нам не повезло. Командование решило совершить отвлекающий маневр, начать атаку в одном месте, устроив там много шума, а основная группа из 25 человек подкралась к другим позициям. Как только мы туда ворвались, несколько бойцов подорвались на мине и на нас обрушился минометно-артиллерийский залп. Я в очередной раз поверил, что везучий и в предсказания правнука из сна, потому что, упав на дно окопа, приваленный телами товарищей и присыпанный землей, оглохший, я все же выжил, и как только взрывы прекратились, стал вылазить, по дороге раскопав от тел и земли Вугара. Не посмотрев, жив он или мертв, потащил к своим. Я полз как во сне, подтягивая товарища за ворот фуфайки. Вокруг был то ли сон, то ли кино. Я подумал о помощи, и появился боец, который помог мне тащить раненого товарища.
В своем окопе меня о чем-то спрашивают, а я не слышу. Проснулся утром, слух вернулся. Узнал, что нас осталось четверо. Вугара отправили в госпиталь. У него контузия и множество ран. Повезло, что мы его вытащили и вовремя доставили в медсанбат.
Другим азербайджанцам нашего полка везло меньше. Они нелепо гибли, соблюдая обычаи, не приемлемые на войне. Несколько раз снайпер выцеливал воина-азербайджанца. Выстрел — и к убитому устремляются земляки со взвода, хотят помочь, громко плачут, молятся, бегают вокруг него. И в этот момент в гущу людей одну-две мины — и 10–20 погибших.
Большая проблема была с водой, ее брали с одного с немцами ручейка. Мы на восточном берегу овражка, немцы на западном. На дне ручеек. По какой-то договоренности мы набирали воду до полуночи, а фрицы до утра. Но однажды наш дежурный не набрал воды. Я собрал десяток фляжек и под утро рванул к ручейку. Набрал воду, повесил фляжки на ремень через плечо. Винтовка метрах в трех. Встаю с корточек, а сверху, всего метров 20–25, сидит пожилой немец с автоматом в руках, погрозил пальцем и крикнул: «Рус, найн бегай!». Я схватил винтовку и, петляя вправо-влево, рванул наверх. Выстрелов сзади не было, видимо, у него был такой же лопоухий сын. Спасибо немцу, что не выстрелил.
Глава XII. Крымский фронт. Крах
В Крым переброшена 40-я танковая бригада, потом еще две танковые бригады и два отдельных танковых батальона. Было ясно, что командование планирует серьезное контрнаступление. Учитывая, что у немцев почти нет бронетехники, за исключением броневиков разведки, а также нет крупнокалиберной артиллерии, мы были готовы опрокинуть врага. Но вместо победных события развернулись против нас. Все происходящее было дико и нелепо, приказы безумны и вели к катастрофе. Мысль о предательстве командования была частая среди бойцов. Это потом, после многих лет стало известным желание представителя верховного командования Мехлиса выслужиться, во что бы то ни стало, любой ценой доложить Сталину, что он справился в Крыму, оправдал доверие великого Сталина, а тогда без разведки и артподготовки нас бросили в бой, невзирая на непролазную грязь, дожди и болотистую местность, вместе с тяжелыми КВ и Т-34 с десантом на борту.
Я опять выжил, потому что не попал в десант и первую шеренгу в атаке. Мы должны были идти во второй шеренге за пятью Т-34, когда враг артиллерийским и минометным огнем накрыл первых атакующих, мы залегли.
Передние танки забуксовали в глине, почти все экипажи и десант погибли. Нашей артиллерийской или минометной поддержки не было. Мы стали отползать назад, тридцатьчетверки тоже нехотя попятились.
На нашем участке к своим траншеям вернулись четыре КВ и пять Т-34. Шесть КВ и пять Т-34 остались на поле боя, застряли в грязи. У немцев не было артиллерии, способной пробить и уничтожить танки, но десант был перебит. Зачем чье-то дуроломство загнало эти машины в грязь?
Дальше еще страшней: высокое командование приказывает эвакуировать танки, застрявшие на нейтральной полосе.
Для эвакуации создали отряд: два Т-34, шесть тракторов и человек 40–50 обслуги. Так я опять стал механиком в ремонтно-эвакуационном взводе бригады.
Ночью готовимся выдвигаться на нейтральную полосу. Во время инструктажа понимаю, что к пристрелянному немецкой артиллерией месту брошенных танков предполагается выдвигаться всей нашей горемычной бронетракторной группе. Выкрикиваю из строя:
— Разрешите сказать?
— Чего тебе, боец? — важно так зам. комиссара спрашивает.
— Немцы как услышат двигатели, накроют нас артиллерией. Поляжем там все вместе с тракторами.
— Кому еще непонятна боевая задача?
Все молчат.
— А ты еще раз кукарекнешь, к стенке встанешь. И всех касается, кто сомневается в приказах командования. — И, срываясь на крик: — Будете расстреляны как трусы и предатели! Всем ясно?! Выполнять!
По группам: один танк, два трактора и человек двадцать пеших, собираемся выдвигаться. Я пытаюсь образумить трактористов:
— Братцы, не идите сразу за танком, пропустите вперед на два прогона троса, авось уцелеете при обстреле, а мы потом, если живы будем…
Договорить не получилось. Я хотел сказать, что если повезет и наша тридцатьчетверка с экипажем целы останутся, у них броня, а у немцев нет крупного калибра. Если уцелеют тракторы с трактористами, случайно не попав под обстрел. И уцелеют пешие бойцы и механики, если не пойдут гурьбой рядом с танком, а подползут на нейтральную полосу после обстрела. Тогда у нас будет шанс попытаться протянуть тросы от тракторов к танку, а от него к сломанному танку, тогда, может быть, удастся его выдернуть и успеть вытащить до следующего обстрела. Но трактористы сплюнули, отвернулись и пошли к своим ХТЗ.
В переднем окопе ждем, пока прогреются танки с тракторами. Ну, думаю, как мы с ревом подходить будем, шансов уже не будет. Поэтому встаю и говорю:
— Ну что, пошли, что ли. Раньше выйдем, раньше дойдем.
Грубо хватаю ближайшего новобранца-недокормыша с обреченными глазами, хоть одного спасу. Вылезаю с ним на бруствер и осторожно иду в сторону нейтральной полосы. Со мной вылезают еще человек пять, крадутся следом. Остальные хотят доехать на броне и тракторах, поэтому провожают нас ухмылками.
Как взревели в ночной тишине дизеля, уже не таясь, со всех ног мчимся вперед. Тридцатьчетверка, обложенная седоками, почти догнала нас, когда до его ближайшего застрявшего собрата осталось метров десять. Зная, что будет дальше, ныряю с недокормышем в глубокую колею под завязшую носом тридцатьчетверку, зажал уши руками, разинул рот и сжался как мог.
Услышав наши двигатели, противник начал артналет. Не первый раз попадаю под артобстрел, но никогда не могу избавиться от животного страха ожидания, когда тебя разорвет в клочья. Когда нет сил терпеть, хочется все прекратить и выбежать навстречу разрывам. Я покосился на своего бойца — лежит, не дергается, молодец.
Обстрел резко прекратился. Я отнял руки от ушей, тишина звенит через вату, но уши целы. Толкаю соседа — не отвечает. Толкаю сильней, окликаю — не отвечает. Неужели убит? Трогаю пальцами шею, чувствую толчки крови в жилах — жив, без сознания. Выползаю из-под танка, вытаскиваю его. Приходит в себя, озирается, что-то кричит, затыкаю ему рот, показываю: молчи. Осматриваюсь. Вокруг следы взрывов, разорванные тела бойцов и два разбитых трактора. В живых никого. Тридцатьчетверки не видно. Наверное, ушла из-под обстрела и, решив, что все погибли, вернулась обратно.
Вижу мокрые штаны бойца, снимаю с убитого тракториста целые штаны с сапогами, протягиваю горе-товарищу, мол, переодевайся. Тот не сразу понимает, затем берет обновы и крадучись прячется за танк. Нашел время стесняться.
Когда доползли до своих, все очень удивились, что мы живы.
При тусклом свете керосинки видно, что у моего бойца из ушей тянутся дорожки запекшейся крови, он ничего не слышит, контужен, отправляют в медсанбат. Здесь же давешний зам. комиссара и с видом нашкодивших котов ротный и другие командиры. Сидят подавленные. Угробили без толку два трактора и взвод личного состава. Не знаю, жалеют ли о людских потерях или бздят докладывать. А ведь, как я понимаю, задачу по эвакуации и ремонту бронетехники никто не отменял, и людей надо продолжать гнать на убой. Поэтому, не вставая, не прося разрешения обратиться, как на колхозном собрании, уверенным голосом говорю:
— Первыми выдвигаются механики и механики-водители пешими. Осматривают технику, выбирают, что можно восстановить. Готовим к эвакуации. Бойцы с тросами скрытно выдвигаются и закрепляют их на выбранной технике…
Зам. комиссара встрепенулся, громко постучал указательным пальцем по доске стола перед ротным.
— После этого, — продолжаю я, — километрах в 3-х по фронту обозначаем атаку тридцатьчетверками. Фрицы начинают там обстрел. К эвакуируемой технике выдвигаются тридцатьчетверки, чуть позже тракторы из расчета два трактора — один танк, принимают и закрепляют тросы. Эвакуируем.
— Да, — говорит зам. комиссара батальона, вставая и хлопая по столу ладонью, непонятно к кому обращаясь: — Завтра же оттуда два танка достать.
Следующей ночью крадемся на нейтральную полосу к застывшей технике. Добровольцы: я, механик-водитель и еще один боец, осматриваем, цепляем выбранную махину наращенными вдвое тросами. Тянем концы насколько можно дальше. Слышим вдалеке с правого фланга рев трех или четырех Т-34, и почти сразу грохот разрывов — немцы обстреливают. Слышим даже несколько выстрелов тридцатьчетверок в ответ. Отвлекающий маневр перерос в нешуточный бой, артналет усиливается.
Видим, из темноты с нашей стороны показался танк. Быстро закрепляем концы, забегаем за него, берем волочащиеся с каждого борта длинные тросы, трактористы помогают с зацепом. В темноте под грохот разрывов и рокот дизеля нашей тридцатьчетверки они оказались на месте как по волшебству. Даю отмашку механику-водителю белой портянкой, тракторы и тридцатьчетверка одновременно тянут в нужном направлении, сломанный танк поддался и начал движение. Увидев, что дело пошло, со всех ног мчимся прочь к нашим окопам.
Обстрел соседнего участка затих. Звенящая, зловещая тишина и топот наших сапог. Сзади тарахтение ХТЗ и урчание Т-34, поэтому, перепрыгивая минометные и обегая артиллерийские воронки, готовлюсь упасть на дно, свернуться калачиком, заткнуть уши, раззявить рот, зажмурить глаза и молиться.
И тут грохот, вздрагивает земля. Сбегаю в воронку, но снаряды падают далеко позади, не причиняя вреда. Выбегаю наверх и мчусь к спасительным окопам. Трактористы и экипаж тридцатьчетверки натерпелись страху, выходя из-под обстрела, но тоже вернулись целыми и невредимыми, дотащив до наших окопов почти целый танк, который после ремонта встал в строй и участвовал в боях.
Я думаю, если бы указанные события потом привели к успеху, мы были бы представлены к награде. А пока наша награда — это жизнь.
Потом выдвигались три-четыре бригады, которые часто гибли под обстрелом, едва успев закрепить тросы на корпусе танка. Когда гибла первая бригада, отправлялась вторая, и так далее, так что один эвакуированный танк стоил до 40 погибших и раненых.
Только эвакуировав то, что могли восстановить, узнали о предстоящем наступлении. 112-й стрелковой бригаде при поддержке 40-й танковой бригады приказано захватить ж/д станцию Владиславовка. И опять атаки в дождь и грязь. До товарища Мехлиса — главного комиссара Крымского фронта и представителя Ставки Верховного Главнокомандования, не доходят причины неудач в Крыму, а вразумить ни у кого духу не хватает, и он гонит войска вперед. Как итог после очередного неудачного прорыва 25 марта мы потеряли все КВ и Т-34, остались только тринадцать Т-60, и наступление закончилось на исходных рубежах.
Но наша страна богата, люди в тылу падают от усталости, Сталинградский тракторный, другие заводы и фабрики работают круглые сутки, и в Крым перебрасывают новые КВ, Т-34 и Т-60.
Утром 9 мая 1942 года 40-я танковая бригада и 128-я стрелковая дивизия готовятся к атаке, когда снова зарядили дожди. Ждали отмены, но опять приказ атаковать!
К вечеру 11 мая, кроме восьми легких Т-60, потеряли все танки и, положив несметно в грязь и склизкую траву в атаках по открытой степи в полный рост народу русского и нерусского, отходим в Керчь.
***
Остановились где-то на окраине. Ротного убило в последней атаке, взводного еще раньше. У других так же. Поэтому сами, без команд, ожидая налета, ковыряем грязь, окапываемся. В погребе во дворе разрушенного дома с двумя сержантами с разных подразделений сооружаем очаг. Пытаюсь согреться и обсушиться. На тепло собираются бойцы, потерянно прятавшиеся от непогоды по сараям и углам развалин.
С сержантами определяем боевой порядок, расстановку, охранение. Никому неохота в пасмурную хлябь в дозоре сидеть, но кое-как договариваемся, и два солдата идут на позиции. Замечаю задремавшего между бойцами танкиста:
— Ты с Т-60?
— Да.
— Танк где?
— Нету.
— Где?
— Сломался.
— А починить? Горючка в нем, вооружение, боеприпасы?
Молча смотрит на меня, как на глупого, а ведь если бросили, оставили врагу с исправным вооружением, это расстрел. Боец как будто понимает мои мысли. Вызывающий взгляд сменяется отчаянием, и голова склоняется на руки, лежащие на коленях.
— Остальные где?
— Кто?
— Второй, другие экипажи?
— Не знаю, — отвечает бедолага, не поднимая головы.
Ладно, я не особист, а такой же отступающий, кто его знает, что там у них произошло.
Т-60 шустрый, броня тонкая, но пушка автоматическая 20 мм и пулемет с ней спаренный 7,62 — неплохая огневая мощь. Если правильно их распределить, да с запасными позициями и возможностью защищенного, скрытого маневра, то из наших остатков получится неплохой оборонительный рубеж и уничтожить нас будет непросто. Согреться бы и отдохнуть немного.
С этой мыслью выхожу наверх. Иду вдоль по улочке, в разрушенном доме замечаю спрятанный танк. Уже неплохо, но если я заметил, враг тоже заметит. Подхожу. На корме, прямо на броне, как на печке, над неостывшим двигателем под шинелями и плащ-палатками спят два танкиста. Не решаясь отнять драгоценные секунды, будить не стал, иду дальше.
Как и предполагал, остальные семь спрятались в овраге. Некоторые даже ветками замаскировались. Задумка неплохая, но если обнаружат, танки с экипажами обречены: маневра нет, пути отступления легко перекрыть, тонкая броня не спасет ни от минометов, ни от гранат, и убежище превратится в ловушку. Иду на храп и запах дыма. Между двух Т-60 под натянутой плащ-палаткой в рваном комбинезоне изможденный закопченный танкист варит кашу в котелке.
— Здорова.
В ответ молчание. Подсаживаюсь рядом, пытаюсь разговорить:
— В охранении?
Кивает. Ну хоть так.
— Через час старший и командиры танков должны прибыть в командный блиндаж — погреб третьего дома по улице.
— Нет старшего, командиры не все, — простуженно шелестит танкист.
— Нет? — повышаю голос. — Может не быть командира танковой роты старшего лейтенанта Иванова и командира танка сержанта Петрова, но старший подразделения и старший экипажа должны быть всегда!
— Понятно!
Встаю, руку протягиваю. Танкист отвечает на рукопожатие. Поворачиваюсь, выхожу из оврага бодрым шагом.
В подвале, где набился народ из остатков разных частей, после чистого крымского воздуха ударило дымом очага по-черному, махоркой, грязной одеждой. Бойцы сидя спят, курят, думки тяжкие думают. Дождь прекратился. Подаем команду занять позиции. Сержанты отправились на фланги искать соединение с соседними подразделениями и хоть какое-нибудь командование.
Подошли танкисты. Я в стеганой телогрейке и фуражке, не представляясь, знакомлюсь с прибывшими, жмем руки, приглашаю выйти на свет божий и свежий воздух.
Довожу последний известный приказ: занять оборону на указанных позициях. Интересуюсь здоровьем, питанием, укомплектованностью, горючим, боеприпасами. Танкисты народ хозяйственный, это не пехота — на горбу свое носить, все, что добыли, везут на боевом друге: мешок с крупой, тушенку, махорку, спирт, самогон. С топливом и боеприпасами хуже. Горючки на один переход, патронов на один бой вряд ли хватит.
Штыком от трехлинейки рисую на земле наши позиции. Указываю места, где удобнее расположить их легкие танки и как подготовиться к встрече с врагом: окопаться с маскировкой, запасной позицией и возможностями для маневра — ложбины, разрушенные строения, овраг. В овраге оставляю один танк.
Танкисты понимают меня, а я их, когда говорю:
— К каждому экипажу приставим трех бойцов из пехоты.
В ответ закивали, засветились глаза под шлемофонами — есть кому помочь окопаться, а в бою лишние глаза и огневое прикрытие.
— Ну вперед, а то что-то давно тихо. И этого захватите, — указываю на стоящего у входа в погреб танкиста-одиночку, — в экипаж определите.
Только заняли позиции, появились немцы: пехота, бронетранспортеры и танк. Идут в боевом порядке осторожно, от куста к кусту, от ложбины к ложбине под углом вкось к нашей линии обороны. Пехота за техникой и перебежками, а минометы и орудия наверняка жахнут в любую секунду, ждут корректировки.
Подходы заминировать нечем. Надеясь на маскировку, стараемся подпустить поближе.
Фрицы остановились, залегли. Группа на правом фланге прощупывает овраг. Бронетранспортер занял вход, пехота с пулеметом перебежками поверху. И тут немцы совершают ошибку — никого не обнаружив, используя овраг как естественное укрытие, пускают по нему большую часть своей атакующей пехоты, которая, достигнув другого выхода, напоролась на кинжальный огонь автоматической пушки и пулемета, хорошо замаскированного Т-60. Пулеметная группа и пехота фрицев, залегшие на кромке оврага, оказались в ловушке и были уничтожены.
Одновременно открыли огонь другие Т-60 и стрелки, уничтожая остатки атакующих. Скрылся только немецкий легкий танк, который находился сзади всех фрицев и прикрывал по фронту. Сразу фашистский артналет, и у нас большие потери.
Глава XIII. Между тем и этим светом
В боях на окраине Керчи мы держались до 17 мая, пока не осталось ни одного танка. Никто нами давно уже не управлял, паника и катастрофа, хаотичная эвакуация в Тамань.
С остатками своего взвода я шел к берегу Керченского пролива в надежде переплыть и остаться в живых.
При подходе к берегу взрыв-вспышка, и свет померк.
***
Дикая огненная вечная мука, я весь боль между двумя мирами. Казалось, жгучая и пульсирующая боль никогда не прекратится. Потом ее бесконечность истончалась, менялась на легкость и блаженство другого мира. Страдания отступали. Где-то там остался кусок меня, которому больно, и я плыл дальше, к счастью и покою, но что-то дергало и мучения возвращались. В один из таких возвратов я очнулся и через несколько дней осознал себя в краснодарском госпитале.
Без остановки ныла кисть левой руки, на которой остались мизинец и большой палец, изматывающая боль правой ноги, перебитой в двух местах с отрывом сухожилий, доставляла страшные страдания. Осколки с головы до пяток терзали плоть каждый по-своему и кто во что горазд. Головная боль и мутное зрение от контузии при всем этом казались житейским делом.
Невозможно спать, есть, что-то делать, думать. Вместо сна — забытье посреди нытья во всем теле, и сразу пробуждение от дикой боли. Страшно, что никто не может это облегчить и сказать, когда закончится. Ни хирург, когда удаляет из меня, зажавшего деревянную палку в зубах, очередной осколок, ни начальник хирургии, ни даже начальник госпиталя.
Ногу собрали, руку зашили, часть осколков, что нашли, удалили. Но заживает одна рана, появляется другая. Чаще всего еще один осколок, который выкорчевывается без обезболивания, наживую, только деревянная палка в зубах, чтобы не сломать их скрежетом. Хирург сказал, что на меня морфия и так потрачено сверх нормы, а осколки — не тяжелые ранения, даже если застряли глубоко в мясе, поэтому обезболивание не положено. Но основная беда — костяшки оторванных пальцев и жилы правой ноги, которые не хотят заживать.
Чтоб перестали ковыряться в ранах, обманываю хирурга и медсестер, что ни нога с рваными жилами, ни костяшки руки больше не беспокоят, и меня отправляют в госпиталь в Дагестан.
***
Начиная с Краснодара, прошло полтора года по госпиталям. После Дагестана в Баку, затем в Красноводск. В госпиталях мы не пропускали не единой сводки Совинформбюро, узнавали друг у друга и у вновь прибывших о делах на фронте, а когда в конце августа 1942 года враг подошел к Сталинграду, к физической боли добавились переживания за родных, от которых давно не было вестей. Каково им сейчас, когда до Сталинграда, до линии фронта, всего около двухсот километров? Живы ли они, долетают ли до них фашистские бомбардировщики?
Все-таки раньше моя семья была в относительной безопасности, их могли не коснуться ужасы войны и вражеские зверства, как в других захваченных землях. А если гитлеровцы возьмут Сталинград, что будет с отцом, матерью, братьями, сестрой? А я израненный, лежащий в госпитале, ничем не мог им помочь.
В сентябре бои шли уже в городе. По доходившим слухам, защитники города прижаты к Волге и скоро город будет сдан, но почему-то шли недели, а Сталинград держался.
Сводки сообщали об успешных отражениях фашистских атак, при которых враг нес огромные потери в живой силе и технике, и потом наши войска по плану или еще как обязательно отходили. Но в конце ноября 1942 года пророчества Салманова о переломе войны в нашу пользу стали сбываться — в сводке Совинформбюро появилось сообщение о взятии населенных пунктов. На следующий день по привычке мы ожидали сообщения об оставлении этих населенных пунктов, но наши войска продолжали успешно продвигаться вперед. Ходячие и некоторые неходячие раненые стали слушать сводки с большим воодушевлением. Радовались, хлопали, если было чем, в ладоши, или, как в моем случае, я громко хлопал правой ладонью по столу или тумбочке, как по барабану. Потом гурьбой шкандыбали курить и обсуждать.
Вообще, мне — оборонцу, окруженцу, который хоть и с боями, но только отступал, было очень обидно, что не могу участвовать в этих наступлениях.
Я уже мог ходить с костылями, мог читать, и не мутит, но никак не хотели заживать костяшки оторванных пальцев. Просился домой, убеждал, что дома меня вылечат родные и наш местный ветеринар, что привело к хохоту начальника госпиталя.
Не смог я доказать командованию, что ветеринар наш излечивал таких, что врачи крест ставили. «Людина померла и померла, а животинка грошей стоит, оттого и лекарства для нее лучше готовят, и лекарь больше стараний прикладывает», — объяснял он. А еще: «Человек, что случилось, расскажет и, где болит, покажет, а с животинкой поди разберись, что не так и почему, поэтому ветеринар лучше больного чует и понимает».
После окружения Паулюса и его войск в Сталинграде, которое мы встретили с большим воодушевлением, даже некоторые лежачие заходили, вместо дома меня направили в Ташкентский госпиталь.
Только ради питания стоило туда попасть. Из тех же продуктов нам готовили наваристый бульон, борщ, шурпу, плов, бешбармак. Давали молоко. Кормили свежими овощами и поили наваристым компотом с вкусными лепешками, и, самое главное, мы объедались медовыми узбекскими дынями размерами чуть меньше торпеды. Я за несколько дней сразу выздоровел, все раны от осколков затянулись, хромать почти перестал, но костяшки оторванных пальцев никак не хотели заживать. Видя мои мучения, местная санитарка тихо, чтобы никто не услышал, посоветовала мне, представьте себе, сходить к фельдшеру-ветеринару из ее деревни.
Через день я как выздоравливающий попросился в полуторку, следующую в нужную деревню, грузить фрукты-овощи. В кишлаке сразу помогли найти ветеринара. Пожилой бодрый аксакал в белом халате долго качал головой и цокал языком, узнав, что я полтора года не могу это залечить, потом привязал мою руку к столу и попросил немного потерпеть. Не то чтобы не больно, но после всех мучений достаточно терпимо. Аксакал удалил из руки разбитые костяшки, зашил, густо намазал каким-то вонючим снадобьем и перевязал. Уже к вечеру следующего дня я понял, что рука заживает. Если не тревожить, почти не болела, я даже стал про нее забывать. Через несколько дней рана совсем затянулась, и с меня сняли швы и повязку. «Видишь, какие узбекские дыни лечебные?» — порадовался за меня хирург на последнем осмотре.
Глава XIV. Домой
К концу 1943 года меня демобилизовали. Выдали проездные документы и 200 рублей. Немного, но доехать и на подарочки хватит. За долгие ночные разговоры под чаек со спиртом, которым меня угощали санитарки, каптерщик дядя Султан подобрал мне почти новые галифе и кожаный ремень, а за румынский офицерский нож, чудом сохранившийся в моих вещах, помог выменять новую, с немятыми погонами гимнастерку и офицерские яловые сапоги.
В вагон меня загрузили с полным вещмешком подарков и четырьмя огромными дынями. На мои возражения, что не дотащу, дядя Султан сказал: по дороге скушаете.
Тут он оказался прав: в полном вагоне ехали в основном служивые, выздоравливающие и выздоровевшие обратно на фронт, в отпуск или, как я, вчистую, домой. Первая дыня оприходована с первой бутылкой, как только тронулся паровоз. После второй началось хождение по вагонам, поиски однополчан и братания. Для нас эта поездка была долгожданным праздником беззаботного времени, когда можно на несколько дней забыть про фронтовые горе-беды, боли, страдания и страх и просто без оглядки с такими же служивыми отдохнуть душой, попеть песни и порадоваться, что пока жив и здоров. Так, под приятным хмельком, проходя мимо одной компании, услышал про 40-ю танковую бригаду и встал как вкопанный. Смотрю, откуда голос это озвучил, а там боец как вскочит, и башкой о верхнюю полку. Друзья его с хохотом обратно сажают, а он, не слушая подначек, ко мне бросается: Колька, старшой, не может быть, живой?
Стоим в обнимку с Олежкой Яковлевым, с которым танки с нейтральной полосы эвакуировали, каждый раз прощаясь с жизнью, и ревем навзрыд. Смех сразу стих, фронтовички радуются за нас, но тоже невзначай слезы вытирают.
Олег был тяжело ранен на нейтральной полосе в одной из неудачных эвакуаций, также около двух лет маялся по госпиталям и теперь как выздоровевший возвращался на фронт.
— Я как от контузии отошел, — говорит Олег, — видеть стал нормально, ну и вообще, отжил, короче, в госпитале встретил Лешку Сапожникова, ну помнишь, челюсти, как пассатижи?
— Ну конечно помню.
— Ну так вот, он мне и рассказал, что как по тебе снаряд вдарил, думали, что все, готов — места живого нет. Но на лодке на Тамань тебя переправили и каким-то санитарам сдали. Те брать тебя не хотели, говорили, что труп. Но наши ошалевшие были, пристрелить их обещали, и санитары тебя куда-то утащили. Лешка и сам не верил, что ты выживешь, но все равно дотащил. Даже когда мне рассказывал, говорил, что ты не жилец, а ты вон, гляди: жив, здоров и крепок.
Мы опять стали обниматься, уже радостно, с криками. Меня потащили за стол, но мы вместе с Олегом, который не хотел отходить от меня ни на шаг, сходили на мое место, откуда вернулись с бутылкой водки и дыней.
Вот, оказывается, как я выжил. Большое спасибо ребятам из ремонтно-эвакуационного взвода 40-й танковой бригады, которые меня полуживого, а скорее почти мертвого, перетащили через Керченский пролив. Пока буду жить — буду вспоминать об их подвиге.
Беззаботные паровозные дни пролетели незаметно, и вот я с адресом Олега Яковлева, Лехи Сапожникова и еще двумя десятками адресов новых друзей оказался на станции Палласовка Сталинградской области. Родная земля, а до дома еще почти двести километров.
Глава XV. Мирная жизнь
Мне почти повезло: я нашел телегу, идущую от станции Палласовка до родной Николаевcкой слободы. Телегой правила красивая, но ужасно вредная девушка, и, привыкший к женскому радушию, я был неприятно удивлен.
Не успел начать вежливый разговор, для знакомства пересказав вкратце свой боевой путь, как услышал от этой злюки, что, мол, я от фрица драпал-драпал, а потом, пока другие воевали, пролежал в госпиталях на белых простынях и сытом пайке. В подтверждение указала на мою красивую, без орденов и медалей, не нюхавшую пороха форму, добавив, что настоящих фронтовиков она видела.
Я сделал последнюю попытку перевести знакомство в шутку и показал ей изуродованную левую руку, заканчивая движение попыткой пощекотать этой козой ее бочок, но получил неожиданный и умелый удар кулаком в нос. Оставшуюся часть пути мы ехали молча. Получается, что одной травмой носа началась моя служба в армии, а другой закончилась.
Приехав домой с опухшим носом, попал в хоровод смеха, радости и слез. Узнал, что в 1941-м на меня приходила первая похоронка, а в 1942 году, после Керчи, из 40-й танковой бригады Крымского фронта пришла вторая похоронка. После второго известия родные решили меня ждать, несмотря на все сообщения.
После встреч, гуляний и гостей с раздачей подарков я наведался в правление колхоза, где меня опять направили учетчиком зерносклада. Жизнь стала налаживаться.
Несколько раз мне попадалась девушка, встретившая меня на телеге тычком в нос, как узнал, ее звали Анной. Любому понятно, что с такими лучше не связываться, но при встречах, один раз на улице, а особенно другой раз в клубе из темноты, я ловил ее такой пронзительный взгляд, что мурашки по коже. Ну нет, думаю, дорогая, по носу не так страшно, хоть и не по-людски, а вот еще раз тебя слушать мне точно больше не хочется.
Вокруг было много спелых, красивых, веселых девчат, но я переживал потерю Шуры, никак не мог ее забыть. Наверное, когда кончится война, я поеду в Крым навестить нашу сопку и похороненных под ней товарищей, разыщу Мишку и Салманова и обязательно найду могилу Шуры. Трудно представить, что ее больше нет, такой веселой, задорной, но вместе с тем решительной и непреклонной. Ругал себя, что плохо попрощался с любимой, не зная, что больше никогда не увидимся.
***
Летом 1944 года в правление позвонили из областного военкомата и сообщили о награждении меня орденом Красной Звезды за взятие в плен 13 немецких автоматчиков. В наградном листе немецких саперов в Коктебеле почему-то назвали автоматчиками. Меня наградили за бой, в котором я после Севастополя и обороны неизвестной сопки, опытный пулеметчик, просто одной короткой очередью заставил залечь одуревших от страха немцев.
Зато трехдневный кровавый бой, где 17 краснофлотцев и один подросток три дня насмерть грызлись с двумя румынскими батальонами, почти все погибли, но уничтожили до 500 вражеских горных стрелков, остался незамеченным.
Награждали меня в клубе. После торжественной части были танцы, на которых мой приятель Васька, тоже демобилизованный вчистую фронтовик без правой руки, немного перебрал горилки, и я выводил его из клуба. На выходе мы столкнулись с Анной. Она посмотрела на меня, как всегда, пронзительно, и спросила:
— Проводишь?
— Конечно, — ответил я, думая про Ваську, и мы пошли по улице.
Ваське было хорошо, он пел частушки про любовь, повиснув на мне здоровой рукой.
Во время особенно веселых припевов мы встречались взглядами с Анной, которая, оказывается, может быть улыбчивой и озорной.
Когда я завел Ваську до дома и сдал на руки причитавшей матери, на улице меня ждала Анна.
— Спасибо, что проводил, — сказала она со смехом и показала на соседний дом.
— Во как, — до меня дошла интересная ситуация. — А еще раз можно? — неожиданно для себя спросил я.
— Еще раз так же? — ответила Анна и громко рассмеялась.
— Нет, по-другому.
— А как по-другому? — Она опять громко засмеялась и пошла за калитку. Потом обернулась и говорит: — Ты прости меня, что я тебя тогда. — Посмотрела колдовским ласковым взглядом и побежала домой.
Мы с Анной стали встречаться, а через некоторое время поженились.
ЭПИЛОГ
В 1964 году накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла песня М. Матусовского и В. Баснера «На безымянной высоте». Когда я первый раз услышал слова этой песни, решил, что наш бой за сопку под Феодосией не забыт. Или Мишка, или Салманов выжили и донесли до авторов песни, как мы, 17 краснофлотцев и сын полка, оборонялись против отборных подразделений противника.
Ведь, как и в песне, «нас оставалось только трое» — я, Мишка и Салманов, — «из восемнадцати ребят», все про нас, и «как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка…», Коктебеля, «…на безымянной высоте» — на нашей сопке. Прям списано с нашего боя.
Я долго думал, что скоро или по телевизору, или по радио объявят, что песня написана про тот бой за нашу сопку и объявится кто-то из моих друзей, но потом понял, что таких боев «у незнакомого поселка, на безымянной высоте» в Великую Отечественную войну было великое множество, когда отважные и умелые воины по воле судьбы оказывались одни против фашистских полчищ, которых не уважаешь и не боишься, и надоело отступать, а бежать и бесславно сгинуть не позволяет гордость. И тогда множество последних из оставшихся в живых на обороняемых позициях, оказавшихся в окружении, оторвавшихся от своих или, как мы, пробивавшихся к основным силам, вступали в неравный бой со значительно превосходящими силами противника, понимая, что обречены. Но, закаленные в боях, они также понимали, что погибнуть можно по-разному: позорно бежать под усмешки убивающего тебя врага или с оружием в руках уничтожать его, внушая животный ужас.
Значит, эта песня написана про всех таких, как мои погибшие друзья, кто, встретив неравными силами ненавистного врага, принял смертельный бой и остался навечно героем.
Основано на реальных событиях.
Свидетельство о публикации №124031903390
С уважением.
Гасер 15.04.2024 08:12 • Заявить о нарушении
Дмитрий Посвежинский 15.04.2024 12:21 Заявить о нарушении