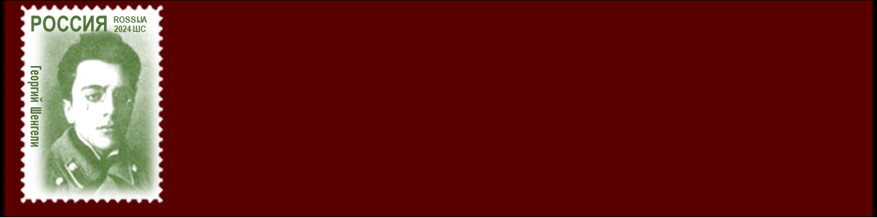Георгий Шенгели 1894-1956
Георгий ШЕНГЕЛИ (1894-1956) – русский поэт и переводчик, критик, филолог-стиховед.
- Песчаных взморий белопенный лук
- Обволокла медовая смола
- Угрюмый облик обожженной глины
- Обмякший пляж. Коричневая глина
- Исчерченный коринфскою резьбой
- Зеркальный шар лилового стекла
- В подводной лодке в рубке капитана
- Плащи из мутно-белого сукна
- Коринф. Коричневый. Коринка. Карий
- Трагические эхо Эльсинора
- Норд-ост ревет и бьет о дом пустой
- На фронте бред. В бригадах по сто сабель
- Был август голубой. Была война
- На улицах безводный полдень. Зной
- Он ползает. Растоптанной губой
- На мальчугана римского похож
- Архиерей уперся: «Нет, пойду
- Валяло круто. Темно-ржавый борт
- Из попугайной вырвавшись вольеры
- Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска
- Столетний дом. Его фанариот
- Нет воздуха, – так резки и ясны
- Здесь медлит осень. Здесь еще тепло
- Доверчив я. Обманут десять раз
- Я долго шел у погребальных дрог
- Я знал его. Он был умен, как бес
- Куб комнаты и воздух ледяной
- Ужасный год!.. Хотя б одна строка
- Раз – топором! И стала рдяной плаха
- Народ, чье имя – отгулье Иуды
- Из мрамора – под солнцем все белей
- Неумолимо как сифонофоры
- О алтари безвыходной тоски
- Холодный белый блеск стеклянных рубок
- Фантазии за письменным столом
- Мы – образы живых и мертвых книг
- В кафе безмолвие. Сигарный дым.
- Когда озноб серебряные гвозди
- У медного персидского бродяги
БОСФОР КИММЕРИЙСКИЙ
Песчаных взморий белопенный лук,
Солончаковые глухие степи.
И в тусклом золоте сгущенных сепий
Вздымается оплавленный Опук.
Раздавленный базальт, как звенья цепи,
На сланцевых боках означил круг.
Волчцы и терн. И тихо вьет паук
Расчисленную сеть великолепий.
Потоки вздутые остылых лав
Оставили железно-бурый сплав
И пыл свой отдали в недвижный воздух.
И медленный плывет свинцовый зной,
Растягиваясь в колоссальных звездах,
В рубинных радугах над крутизной.
1916
МИКРОКОСМ
Обволокла медовая смола
Жука металло-голубое тело,
И капелька округло отвердела,
И надолго под хвоей залегла.
Волна над новым дном поголубела,
На отмелях прозрачна и светла,
И тенью мимолетного крыла
Легко мутнели в ней чешуйки мела.
И трубка пенковая предо мной
Темнеет матовой золотизной,
И мутен желтопламенный янтарик.
И тихо в нем, как в волнах облака,
Включен металло-голубой фонарик.
В моей руке – далекие века.
1916
ОГОНЬ И ГЛИНА
Угрюмый облик обожженной глины
И смуглый звон чеканных кирпичей
Милей, чем плавный пересвет лучей,
Которыми звездились турмалины.
Я ювелиром был, ловцом огней,
Чей хладный пламень выбрали павлины,
Но прогудел полынный ветр былины,
И вот в кувшины звонко бьет ручей.
Где небо серо над безводным логом,
Где зной ложится бронзовым ожогом
На высушенные песком тела, –
Кирпичные там водоемы встанут,
И волны свежие, светлей стекла,
Отрадно в чаши глиняные грянут.
1916
МАРОН
Обмякший пляж. Коричневая глина.
Оливковый базальт – галопом глыб.
В глухой воде – клинки холодных рыб
И ветровых разбегов паутина.
Прочерчивает бухтовый изгиб
Отполированный плавник дельфина,
И в вечер уплывает бригантина,
И гаснет вымпела червленый шип.
Топор и карабин, бурав, лопата,
Кремень, брезента клок, моток шпагата,
И я один – покинутый марон.
Но вольным вижу я себя Адамом.
Мой лоб загаром новым опален.
Мне Библией – земля. И небо – храмом.
1916
ПОРТ СВ. ИОАННА
Исчерченный коринфскою резьбой
Иконостас из черного ореха.
Сгоревшего полудня льется эхо
Из купола струею голубой.
И бледным золотом дрожащий зной, –
Шипы уже незримого доспеха, –
Зигзагом быстрым, молниею смеха
У закоптелых ликов – как прибой.
Забытый порт Святого Иоанна…
В долине – церковь, где молчит осанна;
Безмолвный храм Тезея на холме.
И выше всех, в багряной мгле заката,
Над пропастью, на каменном ярме,
Гранитный трон – могила Митридата.
1916
CARMEN AETERNUM
Зеркальный шар лилового стекла
Меж яхонтовых гроздий винограда.
Из травертина грузная ограда,
И даль холмов – как сильный взмах крыла.
Так нежно италийская прохлада
В извивы дымной тени протекла, –
И мысль, отточенная, как стрела,
Размягчена в округлых волнах лада.
Где алый зной покоят мягко мхи,
Латинские усталые стихи
Поют, как медленный ручейный лепет, –
И вижу в быстрой смене, как Эней
Под звонким вихрем легкий парус крепит
И пенит синь неведомых морей.
1916
СМЕРТОНОСЦЫ
В подводной лодке в рубке капитана
На столике расчерченный картон.
Текучей майоликой отражен
Мутно-зеленый облик океана.
Но хода выверенного уклон
Прямолинеен в тусклостях тумана,
Где массою надменного тарана
Нос панцирного судна напружен.
Вот шелковистый быстрый свист торпеды
Змеиные томительные бреды
Вплетают в четкий перестук машин.
И в лепком воздухе – гранитны лица,
И в сдавленных глазах – осколки льдин.
Но радость вспыхивает, как зарница.
1917
EX ORIENTE UMBRA
Плащи из мутно-белого сукна,
Разрез направо, алый крест налево.
Их нежно вышивала королева,
И женская рука была верна.
Под медный плач латинского напева
Колышется органная волна,
И сердца рыцарского глубина
Вся рдеет от расплавленного гнева.
Окончено. Звенящий вопль трубы.
На весла тяжко налегли рабы,
И в море мерно выплыли галеры.
И с берега ловил их долго взгляд,
Прощальный взгляд на тех, кто солнце веры
Понес в провалы первых круазад.
1917
СЛОВАРЬ
Коринф. Коричневый. Коринка. Карий.
Колье гортанно прозвучавших слов.
Отраден мой сегодняшний улов:
Мир и словарь – как море и акварий.
Разглядывай резьбу радиолярий
Не под покровом громовых валов,
Но в хрустале недвижимых слоев,
И бережливым будь, что антикварий.
Так в малом целый познается мир.
Так в блеске золота раскрыт Офир,
И слово легкое – стигмат вселенной.
Люблю слова, певучую их плоть:
Моей душе, неколебимо пленной,
Их вестниками воли шлет Господь.
1917
***
…………………….«Трагические эхо Эльсинора!..»
Трагические эхо Эльсинора!
И до меня домчался ваш раскат.
Бессонница. И слышу, как звучат
Преступные шаги вдоль коридора.
И слышу заглушенный лязг запора:
Там в ухо спящему вливают яд!
Вскочить! Бежать! Но мускулы молчат.
И в сердце боль тупеет слишком скоро.
Я не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон,
Не по груди мне смелая кираса.
Но упивайтесь кровью поскорей:
Уже гремят у брошенных дверей
Железные ботфорты Фортинбраса.
1918
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Норд-ост ревет и бьет о дом пустой.
Слепая тьма ведет меня в трущобы,
Где каменные обмерзают гробы.
Но – поворот, и вот над чернотой
Стеклянный куб, сияньем налитой,
Тень от штыка втыкается в сугробы,
И часовых полночные ознобы
Вдруг застывают в ледяное «стой!».
И пуговица путается туго
Под пальцами, и вырывает вьюга
Измятые мандаты, а латыш
Глядит в глаза и ничему не верит:
Он знает всё, чего и нет… Вдоль крыш
Лязг проводов верстою время мерит.
1920
СВОЯ НУЖДА
На фронте бред. В бригадах по сто сабель.
Мороз. Патронов мало. Фуража
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,
О пополнениях взывает кабель.
Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:
Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.
Шалеют доктора и сторожа,
И мертвецы – за штабелями штабель.
А фельдшера – лишь выйдет – у ворот
Уже три дня бабенка стережет,
И на лице – решимость, тупость, мука:
«Да ты ж пойми! По-доброму прошу!
Ведь мужа моего отбила, сука!
Сыпнячную продай, товарищ, вшу».
1920 (18.VIII.1933)
МАТЬ
Был август голубой. Была война.
Брюшняк и голод. Гаубицы глухо
За бухтой ухали. Клоками пуха
Шрапнельного вспухала тишина.
И в эти дни, безумные до дна,
Неверно, как отравленная муха,
По учрежденьям ползала старуха,
Дика, оборвана и голодна.
В ЧК, в ОНО, в Ревкоме, в Госиздате
Рвала у всех досадно и некстати
Внимание для бреда своего.
Иссохший мозг одной томился ношей:
«Сын умер мой… костюм на нем хороший…
Не разрешите ль откопать его?»
1920 (18.VIII.1933)
КОРОТКИЙ РАЗГОВОР
На улицах безводный полдень. Зной.
Дома ослепли и остекленели.
Лишь кое-где на мякнущей панели
Легли платаны тенью прорезной.
Безлюдье. Вдруг – бегут. Вдруг – залп сквозной
Ударил, взвизгнул. Звезды зазвенели
Окон разбитых… В сердце ль, по стене ли
Пополз дымок прокислой белизной.
И за углом – лежит вдоль тротуара
Расстрелянный. Сквозь медный тон загара
Овосковелость мертвая глядит.
Глаз вытаращил правый. Левый выбит.
И на груди афишку: «Я – бандит»
Лениво раскаленный ветер зыбит.
1920 (19.VIII.1933)
САМОСУД
Он ползает. Растоптанной губой
Он ловит жизнь по сапогам суровым.
И голос рваный выпадает ревом,
Захлебываясь кровью и мольбой.
А солнце золотит глаза коровам,
Жующим жвачку. Воздух – голубой.
А мужики – работают, и вой
Скользит по лицам их железнобровым.
Могила вырыта. Удар сплеча,
И конокрад слетает, вереща,
И снова заработали лопаты.
Перехватила глина взгляд и крик,
С травой сровнялась. Но бугор горбатый
Рывком последним выперло на миг.
1920 (20–21.VIII.1933)
ПРОВОКАТОР
На мальчугана римского похож,
Остряк, знаток вина, стихов, блондинок –
Он щеголял изяществом ботинок
И пряностью матросского «даешь!».
А белый террор полз на черный рынок,
Скупал измену; гибли ни за грош.
А он грозил: «Ну будет сукам нож,
Когда закончит Фрунзе поединок!»
Закончил Фрунзе. С дрожью по ночам
В подвалах контрразведки здесь и там
Запоротых откапывали грудой.
И в эти дни мелькнуло мне: узлы
Едва таща, он юркал за углы
С детенышем, с женою жидкогрудой.
1920 (1.IX.1933)
«ДУХ» И «МАТЕРИЯ»
Архиерей уперся: «Нет, пойду!
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»
Грозит погром. И партизаны стражей
Построились – предотвратить беду.
И многолетье рявкал дьякон ражий
И кликал клир. Толпа пошла в бреду,
И, тяжело мотаясь на ходу,
Хоругви золотою взмыли пряжей.
Но, глянув искоса, броневики
Вдруг растерзали небо на куски,
И в реве, визге, поросячьем гоне –
Как Медный Всадник, с поднятой рукой –
Скакал матрос на рыжем першероне,
Из маузера кроя вдоль Сумской.
1920 (4–5.IX.1933)
***
Валяло круто. Темно-ржавый борт
Плечом ложился и вставал из хлябей.
Но отлило; без всяких астролябий
Могли прикинуть: за две мили порт.
Вдруг на волнах, как мяч, как панцирь крабий,
Встал полушар, огромен, черен, тверд,
И заплясал, идя на нас, как черт,
В мужских гортанях крик рождая бабий:
«Под ветром мина!» – резкий поворот,
Но цепок шторм. Нет хода. Смерть идет.
Застыли. Вдруг рука сама схватила
Винтовку. Треск – и бьет вулкан средь вод.
Казалось, их до дна разворотила
Душа освобожденная тротила.
1920
ИНТЕРВЕНТЫ
1
Из попугайной вырвавшись вольеры,
С картавой речью, с жадным блеском глаз,
Уставя клювы, перьями на нас
Со шляп разлатых машут берсальеры.
Вдоль хлестких бедер – стеки, револьверы;
В руках – решимость выполнить приказ
И придушить. И девок через час
Уже с бульваров тащат, – кавалеры!
Ну что ж! Мы постоим и поглядим:
Сабинянками начинался Рим,
А кончился… Друзья! без недоверья!
И к январю, средь визга и ругни,
Всем легионом драпали они, –
И думалось: гораздо ниже перья!
2
И эти здесь! Потомки Мильтиада!
Метр с небольшим, сюда включая штык.
Недаром им большущий «большевик»
Мерещится где надо и не надо.
И торговать же Мильтиад привык!
В любом подсумке два аптечных склада, –
Сплошь кокаин. Таких и бить – досада.
Ну и пришли «дванадесять язык»!
Но быстро гаснет выгодное лето;
Исчерпаны запасы «марафета»,
И близится январский Марафон.
Но бегать с ношей умным нет охоты,
Да и к чему? И каждый батальон
Успел свои продать нам пулеметы.
1920 (29.I.1937)
***
Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска;
Смесь говоров; визг, хохот, плач и брань;
Мундир, голландка, френч, юбчонка, рвань,
Фуражка, шляпа, кепи, каска, феска.
А там – дворец вознес над морем резко
Своих колонн дорическую грань.
Что там сейчас? Военный суд? Железка?
Иль спекулянт жмет генералу длань?
Уставя желтых глаз камер-обскуры,
Толпу пронзает академик хмурый
И, в дрожки сев, чеканит: – Во дворец! –
И липнет некий чин к нему, как сводня, –
Бочком… О чем поговорят сегодня
Ландскнехт продажный и поэт-мертвец?
1920 (29.I.1937)
ДОМ
(Диптих)
1
Столетний дом. Его фанариот
В античном стиле выстроил когда-то.
Мавромихалис иль Маврокордато
Оттуда воскрешали свой народ.
Туда входил корсар эгейских вод
Попробовать на зубе вкус дуката, –
Чтоб через месяц Пера и Галата
Пашам пронзенным подводили счет.
Порою для него везли фелюги
Те зелья, что придуманы на юге,
Чтоб женщину пьянить избытком сил.
Порой там бал плыл на паркете скользком
И Воронцов, идя с хозяйкой в «польском»,
Взор уксусный на Пушкина цедил.
2
Теперь там агитпроп. Трещат машинки
Среди фанерных, сплошь в плакатах, стен;
В чаду махры – мохрами гобелен;
И заву – борщ приносят в грубой крынке.
Сошлись два мира в смертном поединке;
И слово правды, гаубицам взамен,
Слетает с легких радиоантенн,
Как радия бессмертные крупинки.
Носящий баки (Пушкину вослед)
Здесь, к символу камина, стал поэт
И думает, жуя ломоть ячменный,
Что стих его – планету оплеснул
И, подавляя голос папских булл,
Как брат грозы, стремится по вселенной!
1920 (1937)
***
Нет воздуха, – так резки и ясны
Прямой каменноугольный обрыв,
И пересыпь лимана, и над степью
Бегущая между холмов двойная
Серебряная проволока рельс.
Нет воздуха, – в огромной тишине
И песнь, и парус повисают пусто, –
Ни высказать, ни двинуться нельзя
В неизъяснимой ясности заката…
Нет воздуха, – и что бы ни сжигать:
Овец ли Авеля или зерно
Его убийцы, – ни огня, ни дыма
В пустыне не взовьется в небеса, –
И Богу будет нечего ответить…
5. I.1921
ИЗГНАНИЕ
Здесь медлит осень. Здесь еще тепло.
И странно видеть зимние созвездья
Сквозь музыку с далекого бульвара,
Сквозь теплый вкус и нежность изабеллы…
К полуночи в ореховом саду
Прощаюсь я с моей дневной работой,
Бумажную я забываю книгу
И, сев на камень старого фонтана,
Вникаю в перепутанные знаки
Папирусов и папирос мечты…
И добрая татарская овчарка
Ко мне подходит и сует мне лапу,
И мы, обнявшись, вспоминаем горы,
Обоим нам запретные навек.
Октябрь 1927. Симферополь
***
Доверчив я. Обманут десять раз, –
В одиннадцатый каждому поверю:
Мне светел блеск любых свинцовых глаз,
И будущего – прошлым я не мерю.
Меня берет лукавящий рассказ
Про нищету, и подвиг, и потерю.
Я пьянице, насильнику и зверю
Мысль и обед готов отдать подчас.
Но трое клеймлено неизгладимо,
Но трем – преображающего грима
Еще изобрести не удалось.
Сквозь гордый жест, сквозь благородство взора
Я узнаю их наповал, насквозь:
Шпиона, проститутку и актера!
12. XII.1927
***
Я долго шел у погребальных дрог:
На кладбище везли футляр скрипичный;
В тоске взывал тромбон косноязычный
И плакался, давясь дыханьем, рог.
Я – человек, всем климатам привычный,
Но в музыке такой и я продрог.
Ах, хорошо спросить в трактире грог
И посидеть под музыкой обычной.
И, в сторону шагнув, как дезертир,
Я захожу в грохочущий трактир,
Сажусь к столу и спрашиваю грогу,
Но гробовым рыданьем надо мной
Взревел оркестр военную тревогу,
И вспомнил я: мне завтра надо в бой!
1933
КОНЕЦ ИНДИВИДУАЛИСТА
Я знал его. Он был умен, как бес, –
Неотразимый спорщик, скептик, циник,
Любитель женщин, вечный именинник,
Ниспровергатель всех семи небес.
Потом состарился, иссох, как финик,
Но всё язвил и шел всему вразрез,
Гремел, громил и наконец – исчез
И отыскался в тихом мире клиник.
Я посетил его. Был ясный день,
Порхали бабочки из света в тень,
И коридор был весь в гирляндах света.
Вошел я и – зубами стиснул крик:
Веселый голый маленький старик
На четвереньках нюхал у клозета.
1934
СТРАХ
Куб комнаты и воздух ледяной,
Как жук в янтарь, во тьму и холод впаян.
Спать не могу, тревогою измаян:
Что происходит за моей спиной?
Там белый дьявол стал всему хозяин:
Он кровью упивается парной;
Он, может быть, шлет палачей за мной,
И мне – валяться трупом у окраин.
Всё умерло. Безмолвие, как пресс.
Вдруг дробный звук – далеко там – воскрес;
Вот – ближе – топотом копыт сыпнуло.
Впускаю глаз под штору: там летят
Сорвавшихся четыре белых мулла.
И всадников прозрачных ищет взгляд.
1936
***
Ужасный год!.. Хотя б одна строка
Прореяла по темно-бурым бредням, –
Как молния, сгущенная полуднем,
Внезапно прорезает облака!
Весь год внимать нашептам, дрязгам, блудням,
На мир глядеть с ночного чердака,
Дать, чтоб в сиделки нанялась Тоска,
Забыть, что ртуть в родстве с гремучим студнем!
Нет, черт возьми! Ты призван жить еще.
Тебе ль клонить покорное плечо,
Когда морской дышать ты можешь далью.
Ты целый год эпохе задолжал,
Ну и плати – не золотом, так сталью;
Но помни: золот пушкинский «Кинжал»!
IX.1951
ПЕДАГОГИКА
Раз – топором! И стала рдяной плаха.
В опилки тупо ткнулась голова.
Казненный встал, дыша едва-едва,
И мяла спину судорога страха.
Лепечущие липкие слова
Ему швырнули голову с размаха,
И, вяло шевелясь, как черепаха,
Вновь на плечах она торчит, жива.
И с той поры, взбодрен таким уроком,
Он ходит и косит пугливым оком,
И шепчет всем: «Теперь-то я поэт! –
Не ошибусь!» И педагогов стая
Следит за ним. И ей он шлет привет,
С плеч голову рукой приподымая.
1955
ИУДЕИ
Народ, чье имя – отгулье Иуды,
Влачащий на себе его судьбу, –
О, не в твоем ли замкнутом гробу
Созрели пламенеющие руды?
Но там ли Бог сокрыл свою трубу,
Чей вопль сметет последние запруды,
Когда на суд прихлынут трупов груды,
И гордый царь поклонится рабу?
Народ! Влачи звенящие оковы:
Ты избран повеленьем Ие-говы
Распространить священные лучи.
И миру благовествуя спасенье,
Иди! Иди закланцем отпущенья,
И о своем страдании – молчи.
***
Из мрамора-под солнцем все белей –
слоны застыли, хоботы закинув...
Медлительны качанья паланкинов
над желтой пылью пекинских аллей.
Подобен гонгу резкий крик павлинов
в кумиренке у Бронзовых Дверей...
В душе-мерцанья тусклых фонарей,
в глазах-от зноя мутный блеск рубинов..
О тихий Край Фарфоровых Гробов,
расплавленных полуденных томлений,
где сонно все и где сама любовь –
лишь дар иссушенных корней женьшеня.
Тебе мои мечты и мой привет,
Тысячелетия недвижный бред!..
***
Неумолимо, как сифонофоры,
как дымные медузы папирос,
больной туман неумолимо рос;
тускнил небес лазурные фарфоры.
Взвивались траурные омофоры,
как бы в слезах - в холодных каплях рос;
для литургии тьмы слепил мороз
из тяжких туч громадные просфоры...
И вот по темным улицам иду,
кричу в тоске, в горячечном бреду
слагаю гимны я могильной яме...
И вторит мне рычание тюрьмы...
И восклицательные знаки тьмы
над бледными в тумане фонарями.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ
О алтари безвыходной тоски,
немые праздничные перекрестки!
Дух навалившейся за день известки,
Глухая пыль, скрипучие мостки...
Пусть вечер благостен и небо сине, –
один стою на четверном пути, –
мне некуда и незачем идти;
сказал, – дрожу, как листья на осине...
А вот еще один. Пришел, стоит...
И перекресток пыльный, как магнит:
властительны вечерние томленья
в безмолвии неколебимой мглы
Идут часы. Куются цепи звенья.
И вот бредем назад в свои углы...
СОНЕТ С КОММЕНТАРИЕМ
Холодный белый блеск стеклянных рубок
и кукольная теснота кают, –
безмолвный в них и ласковый уют,
невыпитый вечерних мыслей кубок.
В часах песок струит поток минут,
синеют кольца дымные из трубок.
Скрипит штурвал... Смола... Гирлянда губок...
И песню тихую касанья волн поют.
Пусть буря вслед гремяще грянет злостью:
за палисандром и слоновой костью,
за жемчугом и золотым песком –
скорей рванемся мы под рокот бури...
А там – всю ночь в таверне в Сингапуре –
какао адское, любовь и ром...
Фантазии за письменным столом,
над старою и рваною клеенкой...
Своею сетью, радужной и звонкой,
со мной сплели мечту о небылом.
Тоску по синим вздохам табака,
по старым сказкам, пахнущим смолою...
И сетью этой, радужной и злою,
надолго слеплена со мной тоска.
В тревожном, ищущем и пряном зове
звон золота еще и жажда крови,
и жажда купленных и лживых ласк...
Приятно думать вновь, что в каждом лике
живут два друга старых: Хенд и Джикель-
простор, мечта... Ножей матросских лязг.
Мы – Образы живых и мертвых книг, –
с пергаментов железных инкунабул,
с листов, проникнутых биеньем фабул,
мы, бледные, мы живы каждый миг.
Наш к Солнцу путь лежал во лжи парабол.
Недосягаемо пронесся яркий Лик.
И кто-то нас безжалостно настиг
больным оцепенением сомнамбул.
И Библиотека-собор для месс:
когда родится мрак в тиши небес
и черным бархатом обтянет залы, –
взвивается наш дикий danse macabre,
и наши мертвые звенят кинжалы
под звяканье хрустальных канделябр.
В кафе безмолвие. Сигарный дым
порозовел, пронизанный закатом.
С вниманием, на шахматах распятым,
безжизненно, томительно сидим,
А вечер веет пряным ароматом,
закат зовет быть снова молодым.
Качая тихо черепом седым,
мне угрожает мой противник матом.
Спасенья нет... Какой бы яркий жест
мог оживить конец игры бездарной?
...Пойду в простор, и тихий Южный Крест
мне заблестит, простой и лучезарный...
И отвечаю, неожиданно грозя,
самоубийственною жертвою ферзя.
ЛИХОРАДКА
Когда озноб серебряные гвозди
порою мне вбивает вдоль спины,
передо мной встают дурные сны,
рисуя мне рубиновые грозди.
Я рву их, рву, исполнен странной злости
они колышутся, тарантулов полны...
Я жажду томной лунной белизны
и тишины, как на пустом погосте...
Но из рубинных ягод пауки
взбираются проворно вдоль руки,
меня ласкают так истомно сладко...
Я истерически хочу кричать,
но вдруг кладет на горло мне печать,
свою печать царица-лихорадка...
КУРТИЗАН (Из Эдмона Ризо)
У медного персидского бродяги
Он желтую жемчужину купил,
Сияющую нежной сетью жил,
Оттаявших в бледно-молочной влаге.
И зная: красота острее шпаги,
С жемчужиной принять любовный пыл
Красавице холодной предложил
Письмом на раззолоченной бумаге.
Жемчужина отвергнута. Увы!
Он не подъемлет скорбной головы,
Трудясь упорно над сонетом пленным.
Окончив, – перл старательно дробит:
Письмо ей посылая, осушит
Чернила этим прахом драгоценным.
1922
.
Свидетельство о публикации №123121307209