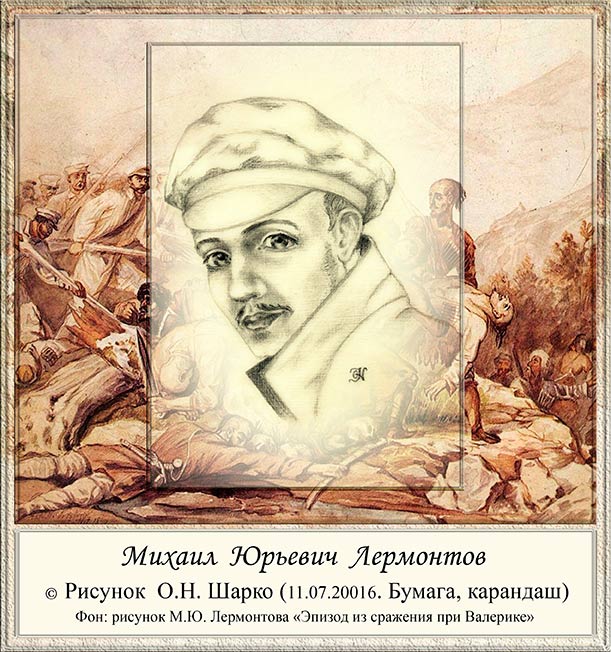Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть8
Военная карьера отставного майора Мартынова
========================================================
Часть 8
Не умолчал о прелестях Пятигорска и Мартынов: «…вся тогдашняя молодёжь стремилась на Кавказ. Это была настоящая эмиграция. По выражению одного из офицеров нашего полка, Карла Ламберта, в ту эпоху существовали только две дороги в России: первая – доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех остальных смертных, вела на Кавказ. И укатали же эту дорожку до такой степени, что весьма часто случалось офицерам, едущим по казённой надобности, сидеть по трое суток на станции в ожидании лошадей» («Моя исповедь», 15 июля 1871 г., село Знаменское). Командировка обычно продолжалась ровно год, и кто уцелел в боях с горцами – возвращались в свои полки. «Назначение офицеров от полков, – как описывает Н.С. Мартынов в своей «Исповеди», – происходило двояким образом: или по собственному желанию, заявленному заранее, или по жребию. Там, где желающих не оказалось, метали жребий, и кто из офицеров вынул из урны свёрнутую бумажку с надписью «Кавказ», тот и отправлялся туда пожинать лавры».
На Кавказ Мартынов отправился служить волонтёром от Кавалергардского полка: так сказать, «пожинать» те самые «лавры»…
Однако его «добровольческий» порыв объясняется не столько офицерским рвением «послужить отечеству», сколько тем, что за период обучения в юнкерской школе он так и не приобрёл надлежащих знаний в своей военной специальности. Пребывая в постоянных «штрафниках» Лейб-гвардии Кавалергардского полка, куда Николай Мартынов был выпущен в офицеры 6 декабря 1835 года, – достичь высоких показателей по службе у него не получалось, и продвижение по карьерной лестнице «до генерала» ему никак не светило: с января по декабрь 1836 года он регулярно, в течение всего года получал лишь взыскания по службе.
Читаем на стр.302– 305 книги С.И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» (Издательский дом «Мужской характер», Пятигорск, 2014):
«Так, в штрафном журнале за 1836 год отмечены наказания Мартынову (от одного до трёх нарядов дежурным вне очереди) за следующие проступки: 27 января «опоздал прибыть на манеж»; 30 января «опоздал прибыть в школу гвардейских юнкеров»; 17 февраля «не был 12 числа на офицерской езде; 15 мая «оставил своё место и слез без позволения с лошади»; 1 июня «за незнание своего дела на бывшем сего числа учении»; 15 июня «за нераспорядительность при наряде»; 21 ноября «за несоблюдение требований формы»; 16 декабря «за то, что опоздал сего числа прибыть к смотру № 6 эскадрона и за незнание людей своего взвода».
В следующем, 1837 году служебные упущения Мартынова, произведённого к этому времени в поручики, продолжались по-прежнему и прекратились в середине марта только потому, что 11-го числа этого месяца он отправился, как уже сказано, охотником в Отдельный Кавказский корпус.
Первое из этих упущений, отмеченное в штрафном журнале 7 февраля 1837 года, на первый взгляд, не имеет серьёзного характера и изложено в таких выражениях: «Поручик Мартынов наряжен без очереди дежурным при дивизионе на 3 раза за то, что без дозволения г. полкового командира поменялся с корнетом гр. Апраксиным 1-м внутренним караулом». Однако, если обратимся к приказу того же числа за №38, дающему некоторые пояснения по этому случаю, то придётся сделать вывод, очень невыгодный для Мартынова как офицера-кавалериста. «Из прежних времён, – говорится в приказе, – правилом постановлено, чтобы те гг. офицеры (когда очередь поэскадронно), кои не могут ездить на ординарцы, ходили во внутренний караул за тех, кои за них ездили на ординарцы. Почему на сей день должен был быть наряжен г. поручик Мартынов, вместо коего поручик князь Кочубей ехал на ординарцы. В таком случае г-ну поручику Мартынову без моего соизволения поменяться с корнетом графом Апраксиным не следовало, наиболее же так поздно, что сему последнему нельзя было сделать репетиции; за что я наряжаю г. поручика Мартынова на 3 раза дежурным при дивизионе…».
Мы видим из этого приказа, что за Мартынова «на ординарцы» ездили другие офицеры-однополчане, о чём он скромно умолчал в своих воспоминаниях. … Объяснение … мы находим в позднейшем приказе по полку от 15 октября 1838 года после возвращения Мартынова с Кавказа. «На высочайшем смотру сего числа, – говорится в этом приказе, – проскакали в галоп вместо того, чтобы ехать рысью, гг. поручики Лидерс 1-й и Мартынов. Я ограничиваюсь только сделать замечание г. поручику Лидерсу 1-му, ибо мне известно, что лошадь его всегда проходила рысью, и что вообще г. Лидерс занятием своим в верховой езде заслуживает снисхождение начальников, вместо того, как г. поручик Мартынов, которого не один раз я заметил, что от неправильного обращения с лошадью, как посадкою, так и управлением, сам причиною, что все его лошади не ходят рысью, что на всех репетициях он доказал».
Приведённый приказ, заканчивающийся довольно строгим взысканием (наряд дежурным при дивизионе 5 раз), очень плохо рекомендует искусство Мартынова в верховой езде. О том же, конечно, свидетельствуют и многочисленные карикатуры по поводу его верховой езды, рисованные Лермонтовым и другими лицами в верзилинском альбоме 1841 года, о чём мы находим сведения у биографа поэта П.А. Висковатого.
Все приведённые материалы могут служить объяснением, почему Мартынов решил в 1837 году отправиться охотником на Кавказ. Оставаясь в полку и подвергаясь гораздо чаще других офицеров-однополчан дисциплинарным взысканиям, он не мог рассчитывать на быструю карьеру. Поэтому он попробовал попытать счастье на Кавказе, где многие из его знакомых офицеров быстро получили чины и ордена.».
Забегая вперёд, – впрочем, все об этом давно и хорошо знают, и «вперёд» – это здесь всего лишь «фигура речи», – Мартынов, так и не состоявшийся «генерал», в своих воспоминаниях не преминул принизить Лермонтова в его военных успехах по юнкерской школе:
«…Он [Лермонтов], – вспоминает Мартынов, – был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади, но как в наше время обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, поэтому он никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не посылали» (см. «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», стр.489). При этом Мартынов-автор здесь явно противопоставляет Лермонтова себе, а точнее, себя Лермонтову: себя, которого «за красоту верховой посадки» – конечно же, в отличие от «дурно сложённого» Лермонтова, – «на ординарцы»… посылали. Однако, из уже известного нам приказа за №38 от 7 февраля 1837 года (из штрафного журнала) мы видим, что за Мартынова «на ординарцы», – и уже не в период учёбы, а на военной офицерской службе – ездили другие офицеры-однополчане, о чём он, само собой разумеется, умолчал в своих воспоминаниях: зачем же ещё и самому-то себя принижать?.. – и других желающих достаточно.
К слову будь сказано, поясним, что о р д и н а р е ц (вестовой) – это офицер или нижний чин, назначаемый к начальствующим лицам, преимущественно только для передачи приказаний. Поэт же – был прекрасным наездником, и даже лёгкую хромоту, которой даже гордился (она делала его похожим на лорда Байрона), получил во время занятий в манеже: его ударила молодая лошадь. Ю.Л. Елец в «Истории лейб-гвардии Гродненского гусарского полка» со слов М.И. Цейдлера пишет: «В служебном отношении поэт был всегда исправен, а ездил настолько хорошо, что ещё в школе назначался на ординарцы. Недостатки его фигуры совсем исчезали на коне» (см. Елец Ю. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. 1, СПб., 1890, стр. 207). А.Ф. Тиран, однокашник по юнкерской школе, хоть и был с Лермонтовым во взаимно-неприязненных отношениях, также свидетельствует, что его вместе с Лермонтовым посылали на ординарцы к великому князю Михаилу Павловичу.
Из «Формулярного списка о службе и достоинстве бывше прикомандированным к Гребенскому Казачьему полку и уволенного от службы Майора Мартынова» от 5-го октября 1841 года (т.е. по окончании рассмотрения дела судом в Пятигорске), имеющегося в материалах военно-судного дела, мы можем проследить рост военной карьеры Н.С. Мартынова.
В первый офицерский чин корнета – был произведён в 1835 году в возрасте 19-ти лет от роду. В звании поручика – с 1836 года. Затем служба в Кавалергардском Ея Величества полку, и с 6-го марта 1837 года – был командирован под начальство Командовавшего войсками на Кавказской Линии и в Черномории, Генерал-Лейтенанта Вельяминова. Участвовал в экспедиции «для продолжения береговой укреплённой линии по восточному берегу ЧёрнАго моря от Крепости Геленджика до устья реки Вулана с 21-го Апреля по 29-ое Сентября». При конвоировании транспортов с разными запасами участвовал в случавшихся в это время перестрелках…
Подводя итог, можно сказать и так: в атаку не ходил, в боях не участвовал, в случайных перестрелках ранен не был, – за что и получил Орден Святой Анны 3-ей степени с Бантом «Бант» означал награду, полученную за боевые заслуги. Кстати, у автора многих статей и книг о Лермонтове – Вадима Александровича Хачикова можно прочесть, что точно такую же награду – за строительство прибрежных военных укреплений в этот же период – имел и ротмистр (капитан) Столыпин-Монго. Впрочем, сама формулировка указа Николая Первого о награждении в августе 1838-го года, – тогда ещё «Поручика Кавалергардского Ея Величества полка Мартынова», – звучит очень убедительно: «…за отличие в экспедиции 1837-го года против Горцев», «в воздаяние ревностной службы и отличного мужества и храбрости Всемилостивейше пожалован Указом о награждении Орденом Святой Анны 3-ей Степени с Бантом».
(NB! По Императорской Конфирмации от 3-го Генваря 1842 года – за «убийство на дуэли» поручика Лермонтова – отставной майор ордена л и ш ё н не б ы л).
Да, конечно: защитники Мартынова имеют все основания сказать, что Николай Первый при награждении Мартынова – …н а с «забыл спросить» (!..). Но наградное представление до нас не дошло, и подробных описаний «героического» поведения Мартынова за этот период службы мы не имеем; потому и не «могЁм дать надлежаще высокой» оценки «боевого геройства» Николая Мартынова… Ну, прости нам, Господи, ежели мы с Вами в данном вопросе оказались из тех, что «слышали звон, да не знаем, где он»… Однако, мы – зададим им, этим самым защитникам, – отнюдь не праздный вопрос: почему же поручик Николай Мартынов в письме своему отцу из Екатеринодара от 5-го октября 1837 года называет эту экспедицию… «скучной»? Вот именно так и пишет: «…забыть эту скучную экспедицию!», – с восклицательным знаком. Впрочем, к этому письму мы с Вами ещё вернёмся, но попозже.
Далее по «Формулярному списку…». Высочайшим Приказом от 27-го Сентября 1839-го года – назначен состоять при кавалерии ротмистром (то же, что капитан в армии) с прикомандированием к Гребенскому Казачьему полку. С 9-го по 24-е мая во время построения Новотроицкого укрепления занимался фуражировкой, то есть в составе команды фуражиров добывал и собирал продовольствие в населённых пунктах, а также привозил с полей – корм для лошадей. Фуражиры занимались также доставкой отопительных средств и строительных материалов для строительства дорог, мостов и укреплений.
И, поскольку мы обещали быть в наших исследованиях непременно объективными, приведём здесь цитату, характеризующую Мартынова – как боевого офицера.
«Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова» под ред. В.А. Захарова и др., «Русская панорама», Москва, стр.474 – 477):
«4 октября 1840. Выписка из «чернового журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии под начальством генерал-лейтенанта Галафеева».
«……….….Неприятель, усмотрев обратное движение отряда, стал перебираться из лесу в деревню с тем, чтобы потом из неё провожать выстрелами арьергард. Заметив это, Владикавказского казачьего полка юнкер Дорохов бросился на них с командою охотников и, поддержанный линейными казаками п о д н а ч а л ь с т в о м с о с т о я щ е г о п о к а в а л е р и и ротмистра Мартынова, отрезал им дорогу и, преследуя в деревне среди пламени, положил на месте несколько человек.
……………Равномерно в этот день отличились храбростию и самоотверж <ением> при передаче приказаний под огнём неприятеля Кавалергардск<ого> Его Величества полка поручик граф Ламберт и Тенгинского пехотного поручик ЛермАнтов. …………».
За смотры, ученья и маневры Мартынов удостоился в числе прочих получить Высочайшие благоволения (благодарности, – пояснение моё ОНШ), объявленные в Высочайших приказах: 1836-го Майя 2 и 23-го. – Июня 4-го, 14, 15, 16-го. – Июля 14-го, 16-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26 и 27-го. – Августа 1-го. – Октября 12-го. – 1837 года Февраля 2-го. – 1838-го Июня 10-го, 11-го. – Октября 15-го, 27-го. – Декабря 20-го и 1839-го годов Майя 9-го, 25-го. – Июня 10-го, 11-го. – Июля 15-го и Августа 7-го числа.
По Высочайшему Приказу в 23 день Февраля 1841 года, – ровно на праздничный День советской Красной Армии (как мне нравится, смеясь, шутить по поводу такого совпадения дат), – уволен в отставку.
Как видим, для 25-летнего офицера – блестящая карьера. Но давайте не будем забывать, что у Мартынова – изначально – были «связи» по военному ведомству среди высокопоставленных и очень влиятельных военачальников.
Началась его карьера с рекомендательного письма… «Отец мой, – пишет Мартынов в своей «Исповеди» 15 июля 1871года, – был в дружеских отношениях с А.П. Ермоловым, а потому он просил сего последнего, ещё до приезда моего, снабдить меня рекомендательным письмом к бывшему начальнику его штаба Алексею Александровичу Вельяминову. Рекомендательные письма уже в наше время были не в моде; молодые люди избегали этого способа заискивания у новых начальников и, разумеется, неохотно принимали подобные письма. Но со старыми людьми ничего не поделаешь: у них свой взгляд на вещи, и разуверить их нет никакой возможности. Делать было нечего, я покорился воле отца и поехал рано утром к Алексею Петровичу… Он очень обласкал меня, посадил, расспрашивал о здоровье отца и вообще был как нельзя более любезен. Я видал его и прежде, а потому для меня знакомство с ним не было новым; но меня давила мысль, что я приехал за рекомендательным письмом, и чрез это самое мне на душе становилось весьма неловко. Чтобы выйти разом из затруднительного положения и, вместе с тем, намекнуть Ермолову, что я не солидарен с просьбою отца, я выговорил почти не переводя духа: «Ваше высокопревосходительство, я на днях отправляюсь на Кавказ и приехал спросить, не угодно ли вам будет мне дать какое-либо поручение к Алексею Александровичу?». Подвижная физиономия Ермолова, как мне показалось, выразила некоторое удивление или недоумение от моего вопроса; но это была одна секунда. Он тотчас же отвечал мне:
– Как не быть поручений? Мы с Вельяминовым старинные приятели; слава Богу, есть о чём потолковать. Я с вами отправлю к нему тяжеловесное письмо. Когда вы едете?
Я назначил день.
– Хорошо, я пришлю его вам на дом.
Цель моя была достигнута: рекомендация являлась на втором плане, если ей суждено ещё пробиться на свет Божий; но главное место, во всяком случае, принадлежало уже личной переписке…».
Своё содействие оказывал Николаю Мартынову и военный генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков, «с которым семейство Мартыновых было в свойстве, а затем и в родстве. Под покровительством Д.Г. Бибикова, – пишет Э.Г. Герштейн на стр. 273 «Судьба Лермонтова» (издание второе, исправленное и дополненное. Москва, «Художественная литература», 1986), – Мартынов был переведён в Киев для трёхмесячного заключения на гауптвахту, а также для отбывания последующего духовного покаяния, назначенного Святейшим Синодом». …Можно себе представить, как Мартынов «покаянно и честно» «отбывал» трёхмесячное лишение свободы под покровительством самого генерал-губернатора Киева!
А ещё приплюсуем умение услужить, подольститься, быть «навязчивым» в достижении своей цели…
Причины подачи Николаем Мартыновым рапорта об увольнении от военной службы – для нас и для многих его современников – остались в тайне. Документации не сохранилось. Никакой. Сам Мартынов – никогда и никому – никаких пояснений не давал: ушёл в отставку – и ушёл. Всё. Как говорится, «тайна, покрытая мраком».
У некоторых авторов можно прочесть, что он подал в отставку «по домашним обстоятельствам». Но это – всего лишь – версия одного из авторов-лермонтоведов, а остальные, за неимением иного объяснения, просто переписывают один у другого. Почему возникла такая догадка – вполне объяснимо: уволен по личному «прошению»; по службе характеризуется положительно; служил без нареканий… Следовательно, должна быть и причина «под стать»: как то: по собственному желанию, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам… В военных документах тех времён вообще (т.е. в общем и целом) – встречается такое словосочетание как «домовой отпуск», то есть отпуск, предоставляемый для посещения родного дома: по «домашним обстоятельствам». Вот Вам, – по мнению лермонтоведов, – и нашлась наиболее подходящая причина для отставки. Но – это лишь, повторим, предположение: из расчёта, что хоть какая-нибудь причина… да должна же быть указана (?..). Но для увольнения в отставку никакой особенной, никакой уважительной причины в те времена – не требовалось: например, достаточно было заиметь желание жениться…
А есть авторы, которые в своих размышлениях идут ещё дальше (…ну надо же как-то объяснить «скоропостижность» внезапного отказа от генеральской карьеры!..): отставка, мол, была продиктована важнейшими «домашними обстоятельствами»: то есть – просто необходима …якобы в связи с кончиной его отца, полковника лейб-гвардии Преображенского полка Мартынова Соломона Михайловича (1771–1839) и открывшимся в связи со смертью наследством. …Но позвольте: отец его помер в Москве 21 марта 1839 года, в связи с чем, очевидно, в период с 15-го января по 1-е марта 1839 года Мартынов и находился в «домовом отпуске». Возвратился на службу, как отмечено в Формуляре, лишь 11 апреля того же года, «в коем просрочил один месяц и 10 дней по болезни, – в чём законное Медицинское свидетельство представлено Полком по команде 16-го Марта 1839 года за № 516-м». Следовательно, после похорон отца у Николая Мартынова было достаточно времени, чтобы оформить необходимые бумаги для получения наследства. В отставку же, – согласно высочайшему Приказу, – Мартынов (на первый взгляд, по собственному желанию) вышел лишь в феврале 1841-го года…
Вопрос к вышеупомянутым авторам: не слишком ли запоздалая суетливость по поводу «открывшегося наследства»?.. И не слишком ли «круто» так безжалостно поступить с собственными планами на жизнь и вполне успешно складывающейся военной карьерой?..
…Ну, хорошо: допустим, из-за «наследства». Тогда почему тут же и передумал увольняться в отставку, отправив н о в ы й «рапорт» об отзыве своего первого прошения об отставке; в Москву не уехал, а продолжал принимать лечение минеральными водами и по-прежнему жить в курортном Пятигорске?.. (Некоторые авторы по этому поводу предполагают, что Мартынов в Пятигорске «поджидал» официальных документов об отставке. Это, конечно же, не может соответствовать действительности, поскольку документы пришли бы почтой куда угодно и по любому адресу). Параллельно возникает и такой вопрос: пусть даже, – с огромной и ничем не оправданной натяжкой, – причиной отставки явились наследственные дела, однако…простите, но повторюсь: зачем же «сразу-такИ» и в отставку? Это при таких-то амбициозных планах на генеральские эполеты? Так вот бездарно взять и собственноручно загубить такую успешную карьеру: как любят у нас писать ярые защитники Мартынова: «в 25-ть лет – он уже майор и Кавалер Ордена Святой Анны 3-ей степени с Бантом». …Конечно же: со стороны прагматичного и расчётливого «пожинателя лавров» военного карьериста Николая Соломоновича Мартынова – это уж «слишком»… – да просто архи-странно: вот так «ни с того ни с сего – наступить на горло собственной песне»?.. Для чего?.. Чтобы через пару-тройку дней срочно же и «передумать»?.. – Не-а: не складывается.
Ну… – насчёт «майора». Здесь есть нюанс.
В наше время на страницах лермонтоведческой литературы словосочетания «майор в отставке Мартынов» и «отставной майор Мартынов» – употребляются как понятия совершенно равнозначные и идентичные, – что не соответствует действительному положению дел.
[В скобках заметим, что особенно – мартыновское «майорство» прямо-таки вдохновляет «духовных» защитников Николая Соломоновича Мартынова: как невинно пострадавшего от «ядовитого характера» всего лишь какого-то «поручика» Лермонтова, явного «неудачника» по линии военной карьеры. При этом старательно подсчитывают, что от «поручика» (старшего лейтенанта) до «майора», – как они считают, – даже не одна ступень разрыва. Гордятся. И… осуждают лермонтовские «насмешки» – как непозволительное поведение – «низшего чина» по отношению к «высшему»… И при этом пребывают в таком восторге, что «забывают» осудить «майора» за подлое убийство – в спину – отважного и неустрашимого в бою «поручика», во всеуслышание категорически отказавшегося от своего дуэльного выстрела «в этого дурака Мартынова»].
Однако, «майор в отставке» и «отставной майор» – для военных – понятия разные.
«В 1836 г. подтверждено право офицеров до полковника, прослуживших в своем чине не менее года, уходить в отставку со следующим чином. Остались прежними и права на ношение в отставке мундира. … Следует ещё обратить внимание на то, что формулировки «награждение следующим чином при отставке» и «производство в следующий чин с увольнением от службы», которые обычно не различают, имели принципиально разное содержание. Если первая означала, что офицер получает следующий чин только для нахождения в отставке (а при поступлении вновь на службу принимается прежним чином), то вторая равносильна производству во время нахождения на действительной службе (и в этом случае уволенный мог бы поступить снова на службу с новым чином).» [см. Волков С. В. «Русский офицерский корпус». Москва, «Воениздат», 1993, стр. 12 ].
Следовательно, ротмистр по кавалерии (или капитан в армии, – что одно и то же) Мартынов, – усердно и без нареканий прослуживший более одного года в чине ротмистра, был, естественно, уволен в отставку со следующим чином. Поэтому – и оказался в чине (или звании) «отставного майора». [Кстати, Столыпина Алексея Аркадьевича, который «Монг`о», в материалах военно-судного дела тоже величают то «капитаном», а то – «ротмистром» ].
Если подробнее.
По Формулярному списку от 5-го октября 1841 года – с 27-го сентября 1839 года Мартынов значится в чине Ротмистра по кавалерии, что соответствует, как мы уже с Вами знаем, чину капитана в армии. А вот по Кондуитному списку от 5-го октября 1841 года (т.е. по списку с отметками о поведении и способностях; другими словами – характеристика), представленному суду на «Бывше прикомандированного к Гребенскому Казачьему Полку и уволеннАго от службы Майора Мартынова» значится, что «в настоящем чине» Отставной Майор Николай Соломонович Мартынов – пребывает с 1841 года (что следует понимать как с «после 23-го февраля» 1841 года). И теперь нам становится понятно, почему в материалах военно-судного дела Мартынова «величают» именно «отставным майором», – ибо, если бы он был возвращён на службу, то вновь числился бы ротмистром по кавалерии (нем., от Rotte – рота, и Meister – глава), а никаким не майором. Так-что военным «спецам», рассуждающим о ступенях разрыва в военной карьере Мартынова и Лермонтова… – надо бы «поостыть» да «остепениться». К тому же, Лермонтов и не собирался быть профессиональным военным, ибо хотел посвятить свою жизнь исключительно русской литературе. И никакие сравнения «военных успехов», – пусть даже с некой «благой» целью, чтобы хоть как-нибудь «поднять акции» Мартынова и защитить убийцу поэта в глазах общественности, – здесь никак не уместны.
Продолжение: Часть 9. В чём причина «скоропостижной» отставки?..
http://stihi.ru/2023/12/03/2607
Возвратиться: Часть 7. Линия отношений «Мартынов – Лермонтов»
http://stihi.ru/2023/12/02/3397
Свидетельство о публикации №123120206325