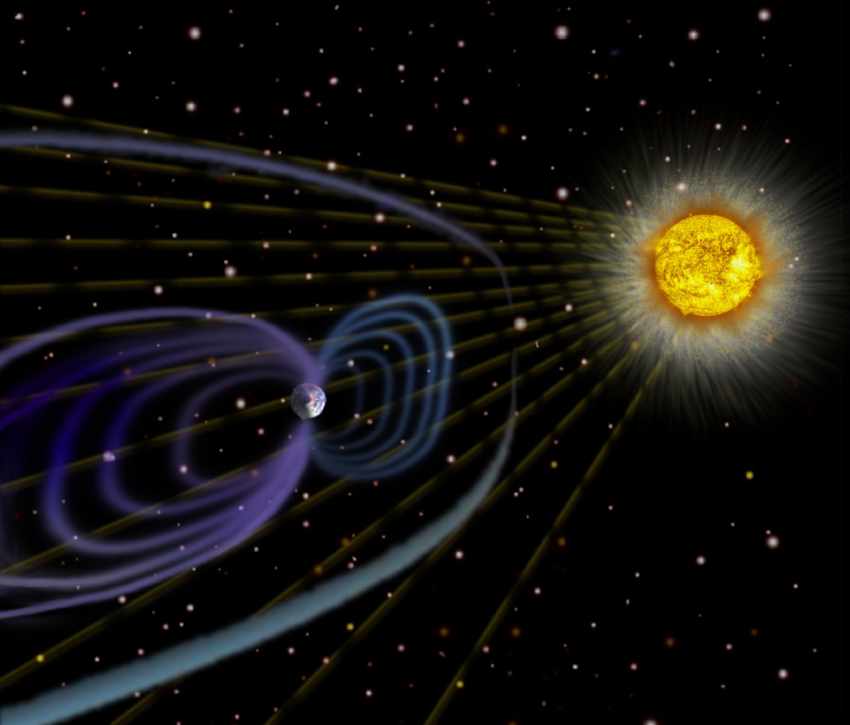Прозрачность капли водяной Михаил Синельников
"Новая публикация. Кажется, в последние годы я нашел в лице Игоря Савкина,властного хозяина славного издательства "Алетейя", не только читателя, но даже и почитателя. Обычно для публикации в периодике я отдаю тому или иному изданию 13 стихотворений - в память о Велимире Хлебникове. Это было его любимое число. Но Савкин, уже издавший мою объемистую книгу "Язык цветов", на сей раз предложит прислать ему неограниченное количество стихов. Я удвоил состав и этим ограничился. Вдруг мой высокочтимый издатель сделал мою подборку увертюрой ко всему альманаху "Солнечный ветер" и назвал её "26". Бенефис. Я тронут. А вообще жить в России надо долго. Чтобы чего-то дождаться".
--
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ
ПРОЗРАЧНОСТЬ КАПЛИ ВОДЯНОЙ
* * *
Вдруг на отца становишься похожим,
Наследуешь улыбку и печаль,
И умиленье перед чудом божьим,
И – временами – робость, как ни жаль.
Но то был страх за близких и забота
Вечерняя, рембрандтовская, та,
Струящаяся и всё вновь за что-то
Прощающая сына теплота.
С ней всё душа стерпела и смолчала,
Смирилась перед властью и толпой…
Но вот где материнское начало
Одолевает в ярости слепой!
БЛАГОВЕЩЕНКА
Куст Воскресенских и Покровских сёл.
Когда землёю оделял Столыпин,
Туда народ неутолимо брёл
И длинен был исход, и однотипен.
Пески пустыни, блеянье овец,
Жара, косые взгляды азиатцев…
Но вот приют желанный наконец!
Название, конечно же, из святцев.
И в детстве близ Ферганского хребта
Куркульской Благовещенки угодья,
Наличников резная лепота,
Заветного подобье Беловодья.
Горласты на заборах петухи
И злобны при амбарах волкодавы…
Всё стало прахом, видно, за грехи,
Не избежало горя и потравы.
Но слово было климата сильней
И озарялось календарной датой.
И чудится Мария. Перед ней
Склонился ангел дивный и крылатый.
ПОСОЛЬСТВО К ГАЮ
Посольство это в мир его услад
Вступило, чтобы, разум напрягая,
Почтить коня, включенного в сенат,
Восславить власть и добродетель Гая.
Страшился всё же иудей Филон
Божественность признать в безумстве зримом,
Шёл анфиладой мраморных колонн
И размышлял о том, что стало с Римом.
А в пурпур облачённый властелин,
Будь в настроенье ласковом, иль строгом,
Уже давно был на Земле один,
Себя прекрасным ощущая богом.
Судьбой злосчастной к гибели влеком,
Был Риму мил отец его геройский…
«Калигулою», легким сапожком,
Любовно сына называли в войске.
Любившие кудрявое дитя
Ещё когда и сами были малы,
Теперь, и сожалея, и грустя,
Готовились вонзить в него кинжалы…
Посольство выходило из дверей
И уносило благоуверенья
В края, где уж записывал Матфей
Благую весть при свете озаренья.
РАСПЯТИЕ
Обычай римский перенят
У проклятого Карфагена.
Пусть тот, кто на кресте распят,
Не думает, что смерть мгновенна.
Но знай, бродячий иудей,
Что ты избавлен от верёвок!
Смерть скоротечней от гвоздей,
И мягок наш палач и ловок.
Поверь нам, в кроткой простоте
Отдавший платье голубое
И вот висящий на кресте
Меж соучастников разбоя!
Да, может быть, был строгим суд,
Но здесь побольше пониманья.
Вот скоро уксус принесут,
Сознанье скорбное дурманя.
И наскоро кольнут копьем…
И ты увял, и мы устали.
Уверятся в конце твоём
Все те, что заждались в печали.
…………………......................................
А на незримом корабле
Неизъяснимая тревога,
Экран, повёрнутый к Земле,
Готовность к воскрешенью Бога.
КАПУСТА
Пекинская, цветная, романьоли.
Брюссель, кольраби, что в России редок,
Все, все прекрасны в супе и в рассоле,
Все разные, и всё же – общий предок.
Простейшая из всех белокочанна,
Мила в чертоге и в селе родимом,
И понимаешь Диоклетиана,
Из-за неё расставшегося с Римом.
И заявил он, указав на блюдо:
«Что власть и слава и перед этим вкусом!
Я так устал! Идите прочь отсюда!
И сами разбирайтесь с Иисусом!»
ЦВЕТОК
Был жар проклятой Африки жесток.
Толклись у мыса, дальше плыть не смея,
Но вдруг решились и нашли цветок,
Опровергавший карту Птолемея.
Явились устья неизвестных рек,
Лачуг туземных пальмовые кровли.
Гремел тамтам и открывался век
Геройства и, увы, работорговли.
Кому судить далёкие века!
Забвенье всё темней и ледовитей.
А в детстве нам довольно и цветка,
Чтоб вызвать жажду странствий и открытий.
Я вижу: маки ветром разнесло
По травяным весенним изумрудам.
Вот лепесток, вот наше ремесло!
Оно – от изумленья перед чудом.
Начнутся годы, полные невзгод,
Блужданья за неделею неделя,
Чтоб на рассвете, если повезёт,
Блеснули берега Короманделя.
* * *
Когда на кухне режут мясо,
Невольно чудится Непал,
Тропа в Тибет, гора Кайласа
И джунгли, где твой след пропал.
Вдруг Будда выглянул из мрака,
И вновь на жертвенный обряд
Так жадно кошка и собака,
Твои сообщники, глядят.
* * *
М. Р-…ой
Киноактёр был вишнуитом
И, уделяя пять минут,
Молился демонам сердитым
У входа в славный Болливуд.
Домашней кланялся богине,
Кормил и нежно обмывал,
Потом окидывал павлиньей
Волной парчовых покрывал.
Богобоязненно-несмелый,
В романе с увлеченной им
Российской христианкой белой
Он столь же робким был таким.
С подносом сладостей под утро
Смиренно подползая к ней,
Он всё же знал, что «Камасутра»
Её евангелий сильней.
* * *
От гуннов Поднебесная страдала,
Спал шелкопряд, но шелк струился въяве
И Лао Цзы, постигший де и дао,
Пил белый чай на Западной заставе.
Скорбел и улыбался Махавира
И с муравьем беседовал, как с братом,
И родину оплакивали сиро
Плененные пророки над Евфратом.
Детей учили персы правдолюбью
И рушились во прах пред шахиншахом,
И Азия своей кишащей глубью
К себе влекла и обдавала страхом.
Молились моряки у кенотафа
И на лужайке у скалы Левкада,
С подругами блуждая, пела Сафо.
Европою была одна Эллада.
* * *
Попробуем забыть о Галилее
Ввиду необозримого простора.
Сейчас в ночи Эолия милее,
Так восстановим сферы Пифагора.
О чем поют, за что страдают ныне,
Какие шлют издалека известья
Кентавры, аргонавты, героини,
Богами превращенные в созвездья?
* * *
Я многих знал, и среди них бывали
Те, что достойней и умней меня.
Мгновенья счастья и часы печали
Я вспоминаю на закате дня.
Я жил в глуши и проходил по странам,
Бесчисленные книги открывал,
До облака был вскинут океаном,
Карабкался на горный перевал.
Я открывал миры за перевалом,
Нередко опыт стоил жизни всей,
Я становился тёртым и бывалым,
Терял подруг и обретал друзей.
Но, подходя к неведомому краю
Простых и заключительных утрат, -
«Я знаю то, что ничего не знаю», -
Всё повторяю за тобой, Сократ.
* * *
Половцы выли в поле,
И отзывался вой
Братьев по вольной воле
Из темноты ночной.
Всюду в походах волки
Сопровождали их…
Это преданий толки,
Летопись битв былых.
Здесь эпилог поэмы!
Предкам равны во всём,
Все мы свои тотемы
Через века несём.
Выжить ли втихомолку!
Битый и матерой,
Хочешь седому волку
Голос подать порой.
ДЕРЕВНЯ
В деревне опасались почтальона
В года войны, но долго и потом.
С крыльца глядели зло и притомлённо,
Крестясь, чтоб горе обходило дом.
Копилась рухлядь в подполе упрямо.
Немало нанесли с былых времён.
С бутылкою от рижского бальзама
Соседствовал разбитый граммофон.
В самой избе и стул имелся венский.
Но много было поводов для слёз
С тех пор, как люд окрестный деревенский
Топор и вилы в барский дом принёс.
ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Дни потрясений были близки,
Когда Есенин-санитар
С царевною из общей миски
Здесь щи хлебал… О, смех и брызги,
И юность, и Господний дар!
Лет через сорок, мальчик дикий,
Вбегал я в этот двор глухой,
И видел золотые лики
Под семечною шелухой.
То самоцветами мозаик
Было осыпана трава.
И с пуделем гулял прозаик,
Уже принявший сутрева.
ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ
Давно ли кровью Гершензона,
В бокале смешанной с вином,
Здесь причащались восхищённо,
Но вот раздор в кругу родном.
Кому из вас писать друг другу
Стремленье в голову пришло,
Как будто бы замкнуть фрамугу,
Чтобы не вытекло тепло?
Должно быть, разделившись ширмой,
И говорили по ночам…
Не эрудиции обширной -
Дивлюсь житейским мелочам.
Конечно, мне милей Иванов –
Высь олимпийская крута.
Но видишь, в ужасе отпрянув,
Что омертвела красота.
И друг, помимо агитпропа,
Внёс в разговор, приватный столь,
Желанье нового потопа,
Свою ликующую боль.
_ _ _
Так что же вынесешь из спора,
Когда на свет явился, чтоб
Хранить изысканность узора,
И рушится калейдоскоп!
* * *
Сей шляхтич и полонофил
Жил с православною иконкой
И элегантно ел и пил,
И кисть держал рукою тонкой.
И удалялся от Земли
В эдемский сон без пробужденья,
И всеми красками цвели
Запечатленные виденья.
Но, их судьбой не дорожа,
Лишь грезу в блеске быстротечном
Любил, пока она свежа, -
Искусство не должно быть вечным!
И нам увидеть не дано
То, что душа его спалила,
И разъедают полотно
Его дешевые белила.
ПАМЯТИ ПАЛЕОНТОЛОГА
От злобы дней, бурлившей рьяно,
Он в мыслях ускользал туда,
Где в тёмных водах океана
Живая зыблется вода.
В тот созданный по воле божьей,
Не знающий добра и зла
Мир первородный, иглокожий
Немая грусть его влекла.
А дома, на приморской вилле
Тянулись будничные сны.
Но женщины его любили,
Влеклись на отзвук глубины.
Тут самый длинный век недолог,
Но вечности бездонный плен
Пронёс в душе палеонтолог
Через эпохи перемен.
Презревший власть житейских правил
И не один открывший вид,
Труды учёные оставил
И дочерей-океанид.
И тяга к ним неизъяснима,
Неотвратима и сильна –
Таится в ликах серафима
Зовущей бездны глубина.
ХУДОЖНИК
Памяти Михаила Шварцмана
Всё спешил и не знал перерыва.
Дни и ночи… И видится мне:
В коммуналке была перспектива
И пейзаж – в затемнённом окне.
Через облики и оболочки,
Не жалея промчавшихся лет.
До какой-то обугленной точки
Он довёл всесжигающий свет.
Так он жил и сгорал на работе,
В неуклонном стремлении скор.
Так пылает пилот в самолёте,
Направляя его на линкор.
* * *
На их пирах молчанье прикрывало
Воспоминанья о лихой поре
Допросов и расстрельного подвала,
Ночного страха, стука на заре.
А ведь никто не миновал купели,
Сатрапы тоже были крещены.
Как пили там за каждого, как пели
О прошлом виноградарской страны!
Когда звучали песни о бывалом,
Многоголосье становилось вдруг
Речным теченьем, черноморским валом
И флагами разбойничьих фелук.
* * *
Конечно, поделом и муки
Прозрения и умирания,
Ее обрубленные руки –
Силезия и Померания
О, город Канта и Калинина,
Который вовремя зашибся!
Где жизнь в средневековье вклинена,
Став девушкой с веслом из гипса.
Но вот коса песка, дремавшая
Над прусским морем глухоманно
И на прогулке согревавшая
Босые ноги Манна.
* * *
М.Т.
Япония - стереометрия
Упавшего на берег шторма
И грусти зыбкое поветрие -
Трехстиший трепетная форма.
И строгий конус белоснежности,
Застывший над цветеньем розовым,
И смесь жестокости и нежности,
И отзвук рая с адским отзывом.
И страсть, и верность нерушимая
И припадающая низко,
И - с болью бережно хранимая
В широком рукаве записка.
СЮЖЕТ
И годы в судорожной схватке,
И вдруг измена,
И расставанье без оглядки,
Побег из плена,
И волны моря, и в остатке
Забвенья пена.
Но зов расслабленный и сладкий,
И притяжение загадки,
И платья вскинутые складки
Вокруг колена.
ПРИКОСНОВЕНИЕ
А в отрочестве было ведь не мало
Её улыбки в тусклые деньки.
Но как прикосновенье обжигало
Волос, колена, маленькой руки!
Теперь начальной рифмы появленье
Томит в ночи, всё снова и опять
Бросая в жар, как то прикосновенье…
Незримой музы золотая прядь.
* * *
Ничем не вразумить Катулла,
Вновь жаром на него подуло,
В гармонию вселился бред.
И в ямбы, несмотря на проседь,
Терзаясь и на склоне лет,
Любовь и боль упрямо вносит
Хмельной лирический поэт.
Да и эпический – не евнух,
Влюбляется среди войны…
Об этих опытах вседневных
На небе осведомлены.
* * *
Дух тех урочищ не исчез,
Он с гулким смехом
В ореховый вселился лес,
Стал горным эхом.
С предгорий, где зацвёл миндаль,
До здешней вьюги
Летит, одолевая даль,
Как весть о друге.
Из жизни выбежав былой,
Промчался рядом…
Или надумал стать скалой
Под водопадом?
* * *
Прозрачность капли водяной,
Существование сквозное
Судьбы очерченной, одной,
Вмиг исчезающей на зное.
Дано сверкнуть, как бирюза,
И незаметно испариться…
О мироздания слеза,
Всеобщей участи частица!
Свидетельство о публикации №123051907256