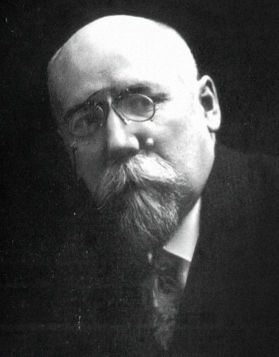Фёдор Сологуб Качает чёрт качели
Сологуб вошел в мою жизнь «Мелким бесом». Потому что именно так назывался его самый нашумевший роман, который оказался у нас дома в библиотеке. Причем, это было вовсе не дореволюционное издание, а наше – советское – Кемеровское. Отец где-то купил эту книжку, и она периодические попадалась мне на глаза, долгое время не производя на меня-подростка никакого привлекательного впечатления. Но вот однажды я все-таки открыл ее и – прочел. Как же заворожила меня история схождения с ума гимназического учителя Ардальона Борисовича Передонова на фоне тайной любви гимназиста Саши и уездной барышни Людмилы!.. С той поры я запомнил фамилию Сологуба и искал новых встреч с его сочинениями. Но том стихотворений Федора Кузьмича появился у нас лишь в середине 70-х ну, а дошли до меня эти стихи еще позже.
Пушкин писал: «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю…» Нет, к бою Сологуб не испытывал никакого влечения. А вот к «бездне мрачной» – это сколько угодно.
Вот одно из самых его знаменитых стихотворений – «Чёртовы качели»:
В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.
Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой!
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,
Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах!
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше… ах!
Если говорить, что человек – родом из детства, то детство Сологуба мрачно и сурово. Жестокая мать: сама – в прислугах у взбалмашной госпожи. «Порки ад и рай мечты» – всё, что мог сказать поэт о начальном периоде своей жизни. Потом десятилетие мытарств в «страшном мире» глухой русской провинции 80-х годов. Учительство. Всю эту передоновщину он видел воочию. Может, другой на его месте мог бы и встряхнуть с себя этот морок, оказвшись, наконец, в вожделенном Петербурге, вступив на литературное поприще, но не Сологуб. А тут еще и филосифия Шопенгаура с ее абсолютизацией жизненного опыта – каков бы он ни был, личных страданий. Вот и становится Сологуб в своей поэзии этаким подвальным Шопенгауром.
Я – бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.
Моей божественной природы
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму.
Уже с середины 1890-х у себя дома он собирает литературный кружок, который спустя какое-то время становится одним из центров литературной жизни Петербурга. Среди гостей Сологуба: Гиппиус, Мережковский, Минский, Блок, Вяч. Иванов, Городецкий, Чуковский… Из Москвы приезжали Андрей Белый и Брюсов.
Постоянный участник поэтических вечеров Георгий Чулков вспоминал: «Сологуб был важен, беседу вёл внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Он в совершенстве владел техникой спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою».
Но постепенно к стихам Сологуба у взыскательных читателей возникает двойственное отношение. С одной стороны пиетет и восхищение, как у Чуковского: «В самом стиле его писаний есть какое-то обаяние смерти. Эти застывшие, тихие, ровные строки, эта, как мы видели, беззвучность всех его слов – не здесь ли источник особенной сологубовской красоты, которую почуют все, кому дано чуять красоту?»
С другой – недоумение и отторжение, – как у Льва Шестова: «Он хочет переделать жизнь на свой лад – вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус к тихому, беззвучному, тусклому. Он боится того, что все любят, любит то, чего все боятся…» И далее: «А между тем, если вся проза Сологуба передоновщина, то вся его поэзия – неподвижное, хотя и страшно напряженное созерцание одной точки. ...Обыкновенный человек, читая Сологуба, доходит порой до бешенства. Одуряющие пары и затем загадочная неподвижность: как мог Аполлон благословить такое творчество? Почему Сологуб мучит и волнует сердца, как своенравный чародей? Сологуб – оракул. Его проза не реализм, а одуряющие пары, его поэзия, как ответы Пифии – вечная и мучительная загадка. В ней есть дивная музыка, смысла которой ни ему, ни его читателям разгадать не дано».
Например, в таких строках:
Я живу в темной пещере,
Я не вижу белых ночей,
В моей надежде, в моей вере,
Нет сиянья, нет лучей.
…В моей пещере тесно и сыро,
И нечем ее согреть.
Далекий от земного мира,
Я должен здесь умереть.
Или:
Я воскресенья не хочу,
И мне совсем не надо рая, –
Не опечалюсь, умирая,
И никуда я не взлечу.
Я погашу мои светила,
Я затворю уста мои,
И в несказанном бытии
Навек забуду всё, что было.
«Оракул», «пифии», «мучительная загадка»… На то Лев Шестов и философ, чтобы мерить всё возвышенными категориями. Но конечно же готичность Сологуба оказалось раздольем для изысков юмористов с сатириками. Даже писатели реалисты, заострив свои перья принялись пародировать автора «Мелкого беса», именуя его Смертяшкиным. И кто бы вы думали был в первых рядах – да сам Максим Горький, написавший в 1912 году цикл «Русские сказки», одна из которых, была посвящена Сологубу. Заглянем в нее.
«…И когда вышла книжка: «Некрологи желаний. Поэзы Евстигнея Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться: пошёл к знакомой модерн-девице Нимфодоре Заваляшкиной и сказал ей:
– О, безобразна, бесславна, не имущая вида!
Она долго ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастия:
– Я согласна идти к смерти рука об руку с тобою!
На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке, в старенькой церкви, тесно окружённой самодовольными могилами переполненного кладбища. Свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подруги невеста выбрала трёх истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.
А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, открыв дверь кареты, мрачно сказал:
– Вот катафалк!
В общем, всё как в известной свадьбе Ксении Собчак и Богомолова – уже в наши времена.
После появления сказки в печати Федор Сологуб, считая, что сказка направлена лично против него и его жены, написал Горькому письмо с протестом. В ответном письме Горький отверг предположение, будто сказка имеет в виду какие-либо опредёленные лица. Горький указывал, что образ Смертяшкина вобрал в себя черты, свойственные декадентам вообще, в том числе и Сологубу.
Сологуб (ясное дело) в долгу не остался и отклкнулся на повесть Горького «Детство» следующими словами: «…злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне. Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный». Впрочем, здесь легко заподозрить и творческую ревность: в самом деле, разве мало грязного и смрадного в романе «Мелкий бес»?.. Кажется, Сологубу не понравилось, что Горький «въехал» на его территорию.
Стоит еще разок вспомнить Пушкина, заметившего, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон… – то – …меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Во всяком случае, если не ничтожным, то уж неким чудовищным антиэстетическим "явлением" предстает Сологуб в воспоминаниях Елены Данько – литератора и художницы, общавшейся с Сологубом в последний период его жизни. Вот лишь одна из цитат оттуда: «На «вторниках» становилось все мрачнее. Федор Кузьмич говорил о современности, всё сгущая краски, всё циничнее, выдумывая и клевеща, хотя факты современности таковы, что они разят и без «присочинения». Его выдумки были неестественны, как история с комсомольцем, желавшим ткнуть его в лицо папиросой». А в конце своих воспоминаний она пишет совершенно необыкновенную фразу: «Только увидав его в гробу, такого спокойного и мирного, я как-то простила, что этот человек так долго отравлял своим зловонием мир, и встреча с ним – как ничто другое – показала мне всю гаденькую, грязную, низенькую человеческую природу». Но мне кажется, сама эта Елена Данько была весьма впечатлительной особой.
Но есть же и другие воспоминания, скажем Арсения Тарковского о его визите к Сологубу: «Мне очень хотелось еще раз увидеть Сологуба, поблагодарить его за стихи, сказать, что я помню его с детства. Когда я вошел к нему, он был грустен и одинок. Не заживала душевная рана после гибели любимой жены и друга Анастасии Николаевны Чеботаревской. За стеной назойливо играли гаммы. Я спросил Федора Кузьмича, не удручают ли они его. «Нет, – ответил тот, – мне не так одиноко». Поставил три прибора. Третий для той, ушедшей из жизни, – такой в доме был ритуал. Сологуб расспрашивал меня о Елисаветграде, о родителях, о любимых поэтах, долго не отпускал и лишь под конец неожиданно спросил: «А сами-то вы стихов не пишете?» Я признался в своем «грехе». Он попросил почитать что-нибудь и, выслушав, вынес приговор: «Это очень плохие стихи, молодой человек, но вы не теряйте надежды, пишите, быть может, что-нибудь у вас и получится». Когда я уходил, хозяин дома подал пальто. Я смутился, а он пошутил: «Молодой человек, я подаю вам пальто не из подхалимства, а потому, что я член добровольного общества взаимного подавания пальто». И уже почти вдогонку предложил мне свою книжку, но взять ее я не посмел».
А вот о том же самом у Елены Данько: «Сологуб говорил мне: «Люблю, когда приходит ко мне молодой поэт, руки в боки, глаза – в потолки – море по колено. А я его так опозорю, продержу у себя два часа, так он потом на четвереньках от меня уходит и не знает, что ему лучше – повеситься или утопиться? Пусть знает».
Горький был еще тем неправ в своей сказке о Смертяшкине, что задел жену Сологуба – Анастасию Чеботаревскую. Сологуб женился на ней в 45 и прожили они вместе 13 лет до ее гибели (Чеботаревская бросилась с моста в реку на почве психической болезни). Смерть жены стала подлинной трагедией для поэта: никакой иной женщины рядом с собой он не представлял. Вот несколько строк из цикла стихотворений, посвященных ушедшей супруге:
По цветам, в раю цветущим,
Влагу росную несущим,
Ты идешь, светла, легка,
Стебельков не пригибая,
Ясных рос не отряхая,
Мне близка и далека…
И еще один отрывок:
И что же ты, моя Россия?
И что же о тебе мечты?
Куда ушла Анастасия,
Туда обрушилась и ты.
Есть еще одни воспоминания о Сологубе некого В.В. Смиренского, который буквально ходил за Сологубом по пятам и записывал всё, что тот скажет. Когда их читаешь, невольно ловишь себя на мысли: «Так это же Хармс!»
1. С Фофановым произошел у меня забавный случай: вышел я вместе с ним из редакции «Наблюдателя» – здесь вот, на Пушкинской улице, и в подъезде мы оба остановились. Фофанов был не трезв. Поглядел он на меня пристально и говорит: «Знаешь, тебя очень бородавка портит, дай-ка я ее у тебя вырву». Ну, и вправду начал вырывать, – но бородавка сидит крепко, не вырывается, да и руки у Фофанова дрожат, никак ему захватить не удается как следует. Пробовал он, пробовал — и говорит: Нет, брат, не вырвать, ничего не поделаешь…
2. Когда я хочу сделать себе что-нибудь очень приятное, я беру одну из своих книг – и читаю… Огромное удовольствие!
В 1913 году Сологуб написал:
Каждый год я болен в декабре,
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить
И склоняюсь к смерти в декабре, –
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.
Сологуб мер 5 декабря 1927 года – от тяжелой болезни, одинокий, уже почти всеми забытый.
Спустя 10 лет Владислав Ходасевич писал: «Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место – приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но пониже Фета. Прозу его читать не будут – ее уже и сейчас не читают…» И вот тут мой любимый Ходасевич ошибся. Во-первых, он начал сравнивать Сологуба с поэтами 19 века, а надо было 20-го, ибо Сологуб был уже из этого века – века дисгармонии и нарождающегося хаоса (советский период лишь приостановил этот процесс). А что не будут читать – а кого сейчас читают... Так что – предсказывать будущее поэта – занятие неблагодарное. А вот самому поэту называть сроки своей смерти – опасно: сбудутся.
Свидетельство о публикации №123032108308