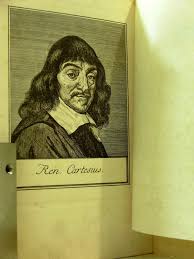Вечер и ночь, чтобы подумать... 5
Понятно, что когда Декарт начинает мыслить об этом, то в его времени и ситуации, такое противопоставление "или-или" кажется само собой разумеющимся: про что-то мы говорим, что это "или" сон, "или" реальность. Обращает на себя внимание и то, что знаки приоритетов тут меняются: у древних сон был ближе к сердцевине и истине, а в эпоху Нового времени, сон всё больше склоняют к отождествлению с иллюзией. Но как же тогда можно сравнивать друг с другом эти разные времена, если одинаковыми от них остаются лишь слова, а понимание, стоящее за этими словами катастрофически разнится? То, что обычно относят к доисторическому или мифологическому сознанию тяготеет ко сну и любым другим видам видоизменённой человеческой реальности, но эпоха рационализма это её полный антипод - требуется доказать, что наша реальность не сон ("дикарь" в этом месте нас бы не понял, обиделся). Но между мифологическим, как его называют сознанием и рациональным имеется ещё помимо христианства, и первое философское, то есть античное. Приключения сна и реальности происходят на всех этих ступенях - смещения, метаморфозы, и вот на руки нам выдан какой-то результат.
У Декарта критерием не-сна как не-иллюзии, является, как мы уже говорили, большая настойчивость и навязчивость телесной материи, и если понимать Декарта не словесно и буквально, а смысловым образом, то он имеет виду именно большее "присутствие", и именно - присутствие телесности как внеположной нам субстанции - в конечном счёте навязчивое присутствие чего-то другого, нежели только лишь наш дух ( в реальности, а не во сне). Декарт говорит, что всё, что мы видим в реальности, мы видим "яснее" - но что он вкладывает в это своё слово "яснее", ведь это не может быть просто прилагательным? Яснее - ощутимее, различимее? Однако бывают такие сны, в которых мы видим и переживаем наши объекты во всех подробностях. Не стоило бы здесь неожиданно перейти к другому критерию и сказать, что во сне не требуется наше "мыслю, следовательно существую"? Сон не требует от нас мышления. А если нам и снятся какие-то мысли по ходу сна, то они не способны самоудостовериться, обрести самих себя и именно своё, а не телесное, внешнее движение. Складывается ещё одна запутанная, противоречивая ситуация: как-будто бы именно потому, что в реальности в противоположности ко сну, внешней телесности, как её присутствия, в разы больше - наш дух присутствует так же в гораздо большей степени, интенсивности и напряжённости, а главное, наш дух присутствует в ней в своей самоданности, чего не происходит во сне. То есть выполняется правило: чем больше тела, тем больше духа.
Казалось бы по элементарной логике, раскрепощение, освобождение духа от телесного мира, должно вести его к расцвету собственных сил, и мы даже писали что в этом плане дух начинает лучше "проговариваться", но если посмотреть на всё, что здесь происходит в целом, то становится видно, что дух, в конечном итоге, и сам становится призрачным вслед за материей, они словно бы "попускают" друг друга - не заводят и нагнетают, как в реальности, не давая друг другу спуска, а "отпускают" друг друга на волю, которая кончается "рассеянием". Именно связка дух-тело держит и дух, и тело, сон же "развязывает" эту связку, и душа, и дух в свободном падении имеют возможность просматривать картинки и ощущать себя ровно настолько, насколько они не рассеиваются окончательно. Во сне и реальности мы словно связываемся и развязываемся, снова связываемся и снова развязываемся. Причём , если в реальности, мы как правило, связываемся жёстко, то внутри, в пределах даже одного сна, мы как бы пульсируем - мы пытаемся связаться с чем-то, но оно долго не длится и рассыпается, тогда мы хватаемся за следующее ( не осознанно, а сон хватается в нас за следующее), но оно так же ведёт нас недолго, оно не устойчиво, и снова падает, рассеивается. Эти процессы "схватывания" и "дления" во сне видны как на ладони, потому что они там чередуются предельно быстро, а в жизни, наяву, мы их видим хуже, хотя и наяву они тоже происходят, и мы длимся. живём и переживаем конкретные связи с миром, вовсе не абы какие, и менять эти связи на другие для нас всегда проблема. А сон меняет их легко, "как перчатки"
Так мы снова приходим к тому, что по существу мы имеем дело с чем-то одним и тем же, в крайнем случае с чем-то подобным и аналогичным: сон и явь каким-то странным образом дублируют друг друга, одновременно и сужают, и расширяют. и усекают, и дополняют. Явь сужает нас по-своему, выкидывая из чудесного мира снов. Сон сужает нас в плане данности одного мира другому и данности нашего мира самому себе. Остаётся признать, что Декарт был прав, когда пытался признать за критерии их различия только их степени и интенсивности. И что не сон и смерть - близнецы братья, или не только они близнецы братья, но и сон и явь - тоже близнецы братья. Признать, что сон одними корнями уходит в умирание, а другими в жизнь, и тем самым подвешивает нас между первым и вторым. Но несправедливо говорить про сон, что он только опыт смерти, нужно ещё и с самыми древними повторить, что он и опыт жизни.
В результате, можно наверное сделать вывод, что сон - это более примитивная форма организации нашего сознания, одна из предшествовавших ему в историческом формировании фаз, которая однако продолжает погружать нас в себя время от времени, а также действует в определённом ритме, вследствие необходимости для высшей формы восстанавливаться каждый раз заново из низшего бытия. В этом плане сон символизирует "всякий раз новое рождение" - необходимость рождаться снова и снова, или один из глубоких принципов самого бытия под названием "второе рождение". Благодаря сну мы открываем ту тайну, что мы - мерцательные существа - мы не можем длиться непрерывно - и в актах мышления, и в актах своих страстей, и в самых высших, и в самых низших формах жизни, мы постоянно проходим через смерть или ничто, чтобы вновь возродиться. Мы мерцаем в своих связках с миром. Вот почему Декарт считал, что каждое такое возрождение невозможно без участия Бога - оно не обеспечено тем, что происходит сейчас с железной закономерностью, но являет себя словно тысячи и миллионы раз, возникающим из ничто, что превышает всякие пределы нашей логики, не мыслящей ни возникновения из ничего, ни возникновения без предыдущей причины.
Свидетельство о публикации №122020500646