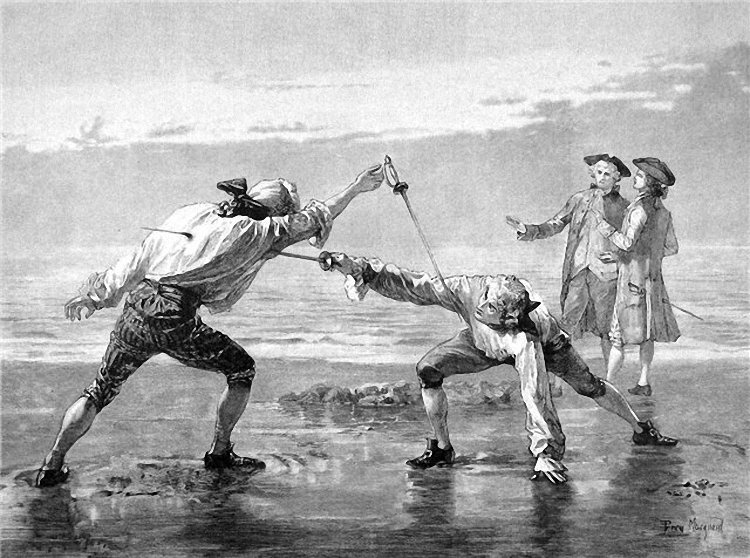Апология Декарта. Мысль седьмая
Положение человека по отношению к самому себе.
Мы представляем из себя собрание бесконечных регулятивных идей. И даже наше Я, как утверждал Декарт, есть только идея самого себя - такая же бесконечная регулятивная идея, а не что-то иное. Я - это не набор содержания, каким бы казалось, оно явственным ни было, Я - это скорее какой-то способ обращаться с миром и быть данным самому себе. Поэтому Я может очень много чего потерять (иногда говорят потерять всё), но при этом всё же не потеряться и не затереться в обстоятельствах, как и наоборот, Я может сохранить всё им приобретённое, может удержать всё своё содержимое, но при этом исказиться и уклониться от своего исконного способа быть - Я может не заметить, что Я больше нет, а вместо него действует что-то другое.
Ещё одна бесконечная регулятивная идея это Свобода и она обладает точно таким же характером, как и идея Я. Не возможность доступного содержимого расширяет мой план свободы, но то качество и подход, каковые могут проявится в полной мере и проявляются даже в одном единственном акте моего общения с миром. А для Декарта рядом с миром нужно сразу же ставить и Я - вторую его сторону. Свобода - не в набранности веса, а в оригинальности колорита, и она заявляет о себе почти неуловимым способом - способом всегда ускользания, если только не схватывания в этот же момент. Как я располагаюсь в координатах Мир - Я - Истина, настолько я и свободен. Так же обстоит дело и с идеей Бога или идеей "божественного", и с идеей "бесконечного". Какую бы основополагающую идею, из которой состоит человек мы ни брали, она окажется столь же неординарной в своём работающем механизме и столь же неуловимой.
Как известно, Кант считал, что есть только три таких идеи: Бог, бессмертие души и свобода. Но при внимательном рассмотрении можно вообще-то обнаружить, что это в принципе одна идея, а не три. Поскольку божественное и есть бессмертное, и, собственно говоря, в силу этого, и свободное. Здесь нет никакой ошибки, так как мышление как крайнее единение и должно быть одной формообразующей идеей, рассматриваемой с разных сторон. Так что безразлично говорим ли мы о Мире, или же размышляем о нашем Я, погружаемся ли в идею Бога, или же испытываем на опыте бессмертие души ("Я буду всегда") - мы находимся в одной и той же реальности, завоёванной именно мышлением (но не тем, которое рефлексирует и рационализирует, а тем, которое само бытийно, и следовательно тем, которое единит).
Эти, единящие всю нашу жизнь, формы, следовало бы назвать формами форм, если бы их так уже не назвали, и не во времена Декарта, а гораздо раньше, ещё при Аристотеле - не назвали бы движения (круговращения) всех этих форм - умом, а их самих - мыслями. Восходящий принцип любой нашей бесконечной регулятивной идеи обеспечивает наше вертикальное стояние в мире, наше приподнимание над обстоятельствами и над собой. Мы сами представляем из себя такой странный переход вверх, который всякий раз набрав высоту, разливается вниз с этой вершины.
Положение человека по отношению к самому себе - это превосхождение. Есть в нашей жизни обыкновенное восхождение, например, на гору, и оно даёт нам некий аналог нашего человеческого характера. Но мы должны помнить что "восходящее" солнце и солнце "превосходное", это всё -таки не одно и тоже. "Превосходить" не означает всего лишь восходить, находиться в таком вертикальном процессе, а означает перекатиться через некий край, некую границу. "Превосходить противника" - значит "заглянуть за его край".
"Превосходный" - это заглядывающий в иную сторону с высоких позиций. Превзойти самого себя - это и в самого себя заглянуть как в иную сторону.
Положение человека таково, что оно и есть само это "положение" (как глагол), само это самостное полагание (как глагол, а не как существительное), и сделать его глаголом, из намертво приросшего к нам существительного, - наша главная задача.
Мы все, в первую очередь, полагаем самих себя каким-то образом, а не просто полагаемся чем-то иным, внешним (вот вам и идея Свободы) - и если мы кем-то заранее уже положены (предположены), то где же тогда мы? Я всегда предполагаю самого себя, но я бываю крайне удивлён когда выкидываю, неожиданные для самого себя "штучки". Откуда же взялись эти "штучки"? Мои они или не мои? И если я сам сейчас предполагаю самого себя неверно, то что же ещё меня в таком случае спасёт? Я ищу своё положение в Космосе, но оно неизвестно никому, даже и великому и страшному Космосу, раз оно не известно мне самому.
Мои регулятивные идеи это не ответы, это вопросы. Я поставлен под вопрос - если я верно понимаю своё положение. Когда учащийся какого-нибудь высшего заведения обращается за решением сложной задачи к учителям и книгам, но вдруг обнаруживает, что решение этой задачи вообще в полном смысле этого слова ещё не существует, он приходит в некоторое замешательство. Оказывается он впервые сталкивается с тем, что и должно носить подлинное имя "задачи", тогда как он сам был приучен совсем к другому роду задач - тех самых, имеющих готовые ответы в конце учебника.
Человечеству, конечно, известны вопросы на которые у него нет ещё ответа, но наше преимущественное отношение к такого рода задачам, выглядит так: завтра решим, а не завтра, так послезавтра, но обязательно решим и получим ответ. Но что как есть такие "вещи", ответ на которые не может быть принципиально получен никогда, поскольку в противном случае, Бог бы нас уже предполагал и мы были бы не свободны?
А здесь человек обычно повышает градус и говорит - тайна. Но обозначив нечто словечком тайна, он, в связи с переключением режимов, перестаёт задавать также и вопрос - ведь это по его разумению бессмысленно задавать вопрос там, где не будет ответа. Но что как не тайна, а вечный вопрос, открытый вопрос - тут перед нами? Что как такой вопрос и есть подлинная "задача", сбивающая нас с толку, а не та "задача", что придумана и развёрнута из конца учебника? Совсем не так, как всегда, как обычно вопрошать - безответный вопрос знаменуется безвопросным ответом. Исключительно рациональные координаты тут плохо работают.
Положение человека по отношению к самому себе, оно - открытое зияние. И вследствие этого оно не может быть другим и посреди Космоса.
Свидетельство о публикации №121112701551