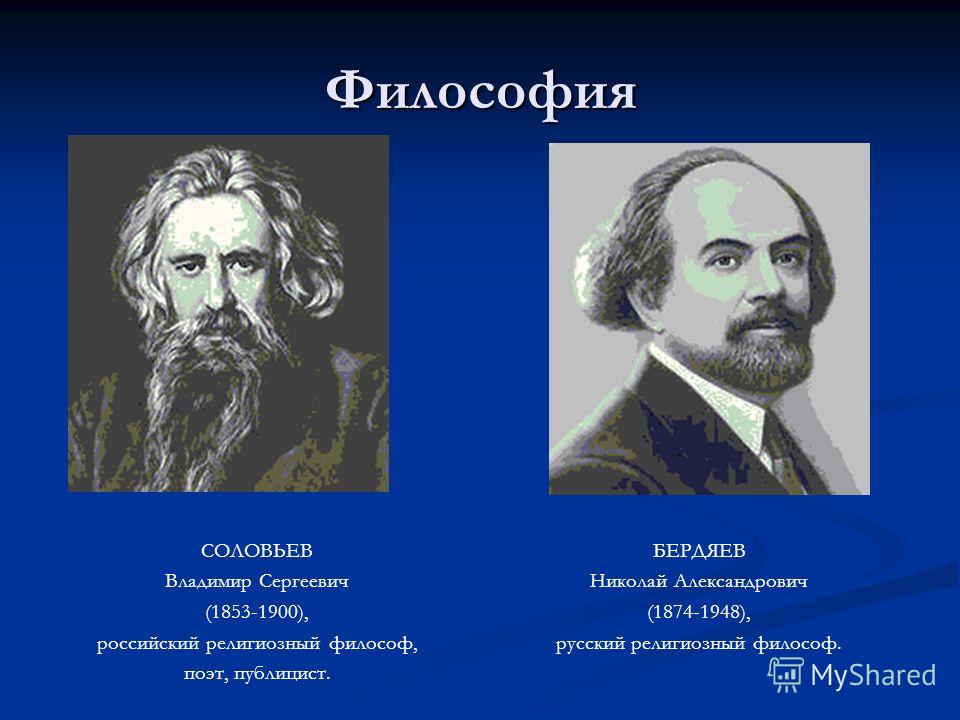Бердяев и Соловьев о слиянии РПЦ и католиков
Уникальность анализа Н.А. Бердяевым этого феномена заключается в том, что он исследует и сравнивает не только внешние экспрессивные формы этих конфессий, но и пытается проникнуть вглубь, в духовные истоки, из которого вышли православная и католическая формы духовности и культуры.
Пытаясь в своих работах ответить на вопрос, почему религиозные практики и догматика христианской церкви на Востоке и Западе так разнятся, Бердяев настаивал на том, что эти отличия не следует абсолютизировать и рассматривать как нечто вневременное и бесценное:
«Учебники догматического богословия и канонического права ничего не могут дать для разрешения проблемы Востока и Запада. И споры казенного православия и казенного католичества и на почве догматики и церковного управления мало
имеют цены. Не отсюда добывается свет».
Православие и католичество разделяют не только догматы о filioque, о чистилище, непорочном зачатии Девы Марии, непогрешимости энциклик папы римского, о причащении пресным или квасным хлебом. Различия православия и католицизма лежат на более глубоком и скрытом уровне.
Понять их можно, только духовно приобщившись к той и другой традиции. Бердяев, который много общался с католическими интеллектуалами и чья жена приняла католичество, полагал, что это ему удалось.
При этом он вступает в заочный спор с другим русским философом – Владимиром
Соловьевым.
В марте 1883 г. Вл. Соловьев писал И.С. Аксакову, пытаясь убедить последнего в верности своих устремлений на восстановление церковного единства:
«Не в моей власти исцелить разделенные церкви, но в моей власти и обязанности не растравлять их ран полемикой, а смягчать их словом справедливости и примирения…
Каковы плоды нашей тысячелетней полемики против католичества? Западу не помогла, Восток не оживили, а сами чужим недугом заразились… Вы смотрите только на папизм, а я смотрю, прежде всего, на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть вселенской церкви.
В этот Рим я верю, пред ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю его восстановления для единства и целостности всемирной
церкви, и будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима» [4, с. 199].
Догматические расхождения философа не смущали, поскольку, с его точки зрения, гораздо более важным является объединяющая обе церкви вера в Христа и «апостольское преемство».
Читаем в одном из писем Соловьева.
«Все это одинаково находится и у нас, и у католиков, следовательно, и мы, и они составляем вместе единую святую кафолическую и апостольскую Церковь, несмотря на наше историческое временное разделение, не соответствующее истине дела и тем более печальное» [4, с. 204].
В 1880-е гг. восстановление единства церкви становится уже главной жизненной задачей философа, которой он посвящает себя целиком. Это единство для него важно для восстановления действенной полноты христианства, осуществления и реализации
христианского учение в мире.
Если восточная церковь прежде всего занята охранением основ веры, то ее западная сестра вносит в историю христианства динамическое начало. Она активно разносит христианскую культуру по миру, охватывая ею весь земной шар.
Именно с этим связан пресловутый прозелитизм католической церкви. Если бы строгое единоначалие в лице римского папы и дисциплина не соблюдались, невозможно было бы и идейное и властное воздействие на остальное общество.
С практической точки же зрения, по мнению Соловьева, движение к объединению можно начать с обоюдного признания «единства обеих Церквей во Христе» и с констатации необходимости восстановления этого единства, с нового обсуждения разделяющих католиков и православных спорных вопросов, но не с прежними полемическими и обличительными намерениями – чтобы уличить противоположную сторону в отступлении от чистоты учения, – а чтобы понять ее.
При этом надо оценить справедливость аргументов сторон, отдать им должное, найти возможные точки соприкосновения. Ну «а прочая вся приложатся» [3, с. 306, 309].
Как нахождение этих общих примиряющих точек может происходить, Соловьев показал на примере евхаристии.
Чтобы этот обряд был действителен, необходимо, во-первых, чтобы он осуществлялся «рукоположенным» священником, «который в каждом отдельном церковном собрании представляет собою Христа»
[Там же, с. 265];
во-вторых, чтобы при этом произносились слова Христа; в-третьих, чтобы материей «по смыслу бескровной жертвы» [3, с. 265] служили бескровные вино и хлеб.
Все эти моменты общие и у православных, и у католиков.
Остальное – квасной ли это хлеб или пресный, сорт вина, время суток сопровождающие действие молитвы – является не главным. Оно не имеет, по мнению Вл. Соловьева, божественного, вселенского значения и определяется «частным преданием той или другой Церкви» [Там же, с. 266].
А вот если придавать принятым в Риме и Константинополе подробностям обряда основополагающее значение – найти взаимопонимания никогда не удастся.
«Любить и беречь свое, родное – дело естественное и справедливое. Нужно только при этом помнить две вещи: во-первых, что своего обычая нельзя навязывать другим, для которых он не свой, а во-вторых, что есть на свете нечто высшее своего и чужого и что настоящее место этому высшему – во вселенской церкви Божией» [Там же, с. 191].
Если же заострять свое внимание на том, что разъединяет, концентрируясь на исторических обидах, – о преодолении церковного раскола можно забыть. В основе объединительного процесса должны лежать добрая воля сторон, взаимная приязнь, воздержание от критики даже тогда, когда для нее действительно есть основания. Именно это обретение православными и католиками доброй воли он считал самым главным.
В этом направлении он нацеливал в эти годы свои поездки, встречи с католическим духовенством и публицистику.
В перспективе Вл. Соловьеву грезилась единая Вселенская Христианская Церковь, соединенная с мощью Российской империи.
В июне 1888 г. он писал А.Ф. Аксаковой: «Христианская Россия… подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царствующую власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа).
Русская империя, объединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благоденствие» [4, с. 254].
Всемирная церковь, однако, не должна стать механическим соединением православия и католицизма. Она, по мысли Соловьева, явится их «химическим соединением».
И подобно тому, как из соединения газов кислорода и водорода рождается вода – вещество, значительно отличающееся от них своими свойствами, – так из религиозного синтеза Востока и Запада должно появиться новое, наследующее тем не менее что-то от обеих братских церквей.
В начале 1896 г. Вл. Соловьев, по свидетельству его племянника, тайно причастился в католической часовне [4, с. 318].
Бердяев нашел такой подход к проблеме христианского единства достаточно упрощенным. Соловьев прав, что проблема Востока и Запада – и, соответственно, православия и католичества в ее религиозной ипостаси – действительно является центральной в российской истории.
Однако христианское единство не достигается простым объединением церквей. Заблуждением будет полагать, что тут возможно организационное решение. «Унии, формальные договора и соглашения, взаимные уступки и претензии возможны лишь в политике, лишь в отношении между государствами, а не церкви» [2].
В разделении церквей выражает себя человеческое культурное разнообразие, которое униями не преодолевается. Оно может быть преодолено лишь изменением взаимоотношений двух христианских миров в самой глубине религиозного опыта.
Последнее, однако, с трудом достижимо в обозримой исторической перспективе. В нем, в этой культурной дифференциации, выражают себя одновременно и ограниченность, и полнота чело века.
Католики и православные, несмотря на единство основных догматов, относятся к христианскому учению несколько по-разному. Сближение конфессий возможно лишь при условии осознания этих особенностей.
Объединение христиан может произойти не на уровне организационных структур, а в душе каждого православного и католика, когда он почувствует вселенское братство во Христе с собратом по вере.
Поймет, что нельзя требовать от другого такого же христианства, как у тебя. Когда это случится – объединение западной и восточной церквей даже не понадобится.
Бердяев обратил внимание, что и сам Вл. Соловьев в конце жизни встал на эту точку зрения в своей «Повести об антихристе».
В чем же проявляются особенности религиозного опыта?
В западной церкви Бог воспринимается как нечто, стоящее безумно, недостижимо высоко над человеком, и верующий тянется в эту божественную высь, устремляется к нему. Отсюда католическое подражание страстям Господним (вплоть до телесных стигматов), томление по Чаше Грааля.
Несмотря на догматическую богочеловечность, в католицизме Христос все равно остается не достижим, небесно отстранен. На этом основывается вся католическая мистика. Католические святые говорят о любви к Христу, а не о соединении с Ним.
Эта абсолютная божественная трансцендентность проявляется, например, в холодной, возвышенной архитектуре готических соборов.
Православные церкви уютнее и теплее.
Бог здесь намного ближе к верующему, чем у католиков. Общение с Ним входит
в жизнь прихожанина православного храма как ее неотъемлемая часть.
И если стремление приблизиться к Богу составляло религиозное обоснование крестовых походов, достижения Святой Земли, овладения Храмом Гроба Господня, то православному все это не так нужно. Бог сам приходит к нему на родной земле – он каждый день раскрывается ему, открывается в его душе.
В отличие от западной, для восточной мистики «характерна идея… обожения человеческой природы изнутри, путем принятия в себя Христа» [2].
Католик обращается к Богу, православный живет с Ним, упоминает Его в пословицах и поговорках. Для него Бог – то, без чего жить нельзя. Нельзя жить без правды божьей. Это отношение к Богу, о котором пишет Бердяев, сохранялось в России даже в атеистический период.
У Иосифа Бродского есть, например, такие строки:
В деревне Бог живет не по углам,
Как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
И честно делит двери пополам.
Хотя Вл. Соловьев прав в том, что у восточного христианства нет исторической динамики, у него «есть динамика внутреннего богообщения» [2].
В XIX в. наиболее ярко она проявилась у Серафима Саровского, которого Бердяев выделяет особо, а в русской литературе – у Достоевского, подробно запечатлевшего мучительные борения русской души.
Русский человек порой так сосредоточивается на своей внутренней религиозной жизни, что ни на что другое у него не остается сил. Практическое жизнеутверждение и культурное строительство, в отличие от западного христианина, его мало интересуют.
И эту внешнюю пассивность в российской истории ему не раз ста вили в вину, заставляя насильно следовать западным образцам.
Отсюда проистекает и прохладное отношение православных к догматической стороне дела.
«Православие есть прежде всего ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения» [1 с. 169].
Еретик, «богоотступник», – не столько тот, кто исповедует какую-то ложную религиозную доктрину и не столько тот, кто вольнодумно высказывается, а тот, кто нечестиво живет.
Православные святые прежде всего представляют образцы праведной жизни.
«Православие есть наименее нормативная форма христианства (в смысле нормативно-рациональной логики и морального юридизма)…» [Там же].
Оно не знает схоластики, интеллектуального схематизма, ухищрений абстрактной мысли – так характерных для западного христианства. Православный христианин никогда не стал бы таким теологом, как католик Фома Аквинский, или та ким философом, как протестанты Гегель и Кант.
Отвлеченная мысль русскому человеку чужда. Католические интеллектуалы считают это «малокультурностью», но православный человек искренне недоумевает: для чего нужны не связанные с жизнью, абстрактные умственные построения?
Отвлеченное парение мысли удивляло Бердяева при общении с французскими
католиками. Религиозные доктрины в России никогда не абсолютизировались. Поэтому парадоксальным образом православный мыслит более свободно, чем западный христианин.
Он размышляет о Боге даже чрезвычайно вольно, не боясь предаваться самой крамольной мысли. Православный менее догматически «зажат», и в нем больше духовной свободы, чем в католике или протестанте.
Важно, впрочем, понимать, что эта свобода отличается от протестантского индивидуализма. Православный человек, мысля достаточно вольно, тем не менее осознает себя живой частью человеческой общности – церковного коллектива, или собора. Этот
собор может не иметь юридических признаков. Он – та человеческая общность, с которой православный человек себя внутреннее связывает.
При этом, пишет Бердяев, в православии присутствуют и другие тенденции, и промолчать о них было бы ошибкой. Церковные консерваторы не особенно жалуют свободу, хотя «соборность не имеет никакого смысла, если она не заключает в себе свободы духа и личной совести. Без свободы соборность есть внешний авторитарный коллективизм» [1, с. 159].
Известная пассивность православия порой оборачивается конформизмом по отношению к государству и его политике. А ссылкой на традицию оправдываются такие вещи, которые оправданию не подлежат [Там же, с. 153].
Западное богословие, начиная с Блаженного Августина, более антропологично и христоцентрично. Восточное – более онтологично и тринитарно.
«Православная литургия… – указывает Бердяев, – начинается со слов: “Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа”. Все идет сверху, от Святой Божественной Троичности, от высоты Сущего, а не человека и его души» [Там же, с. 173].
Интересно, да?
Литургии, их совершение для православных намного важнее проповедей, дидактики норм поведения или религиозных доктрин.
С точки зрения Божественного Космоса, в котором православный человек живет, все это достаточно мелко.
Эти моменты очень тонкие, но они чрезвычайно значимы. От сюда рождается православная консервативность и верность преданию. Преданность богослужебной букве, так непонравившаяся Вл. Соловьеву, который в этом смысле был все-таки западный человек.
Добавление в Никео-Цареградский Символ веры католиками слов о том, что «Дух исходит не от Отца [только], но и Сына», действительно воспринимается православным священником как отступление от основ христианства.
В определенном смысле оно искажает установленный порядок Божественного Бытия. Данный богословский спор не так легко уладить, как представляется Вл. Соловьеву.
Западная христианская мысль отличается большим богатством и разнообразием, восточная – верностью традиции.
Православие не может так легко производить изменения изначальных канонов, как это делают католики.
В перечисленных различиях выражают себя культурные различия западного и восточного христианина.
И Неверно будет сказать:
«Правда исключительно здесь» или «Правда исключительно там».
Это два пути в рамках одного христианства. Они не отрицают, но восполняют и дополняют друг друга. При этом каждая церковь выполняет особую историческую миссию. Мы не можем просто стереть то, что нас разделяет, но, по словам Н. Бердяева, «понять различие этих опытов и победить вражду на различных путях наших мы можем и должны» [2].
Литература
1. Бердяев Н.А. Душа России: сб. ст. М.: Центрполиграф, 2016. 253 с.
2. Бердяев Н.А. Проблемы Востока и Запада в религиозном сознании
Вл. Соловьева. URL: http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0121107
(дата обращения: 20.04.2020).
3. Соловьев Вл. Византизм и славянство. Великий спор. М.: ЭКСМО Пресс, 2001. 733 с.
4. Соловьев С.М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М.:
Республика, 1997. 431 с.
(Статья опубликована совместно с А. М. Чернышом в сборнике "Конфессиональная политика в России в Новое и Новейшее время" :
материалы Международной научной заочной конференции, г. Москва, 27 марта 2020 г. / под ред. С. В. Леонова, Г. В. Талиной. – Москва : МПГУ, 2021. – 292 с.)
Свидетельство о публикации №121052106944