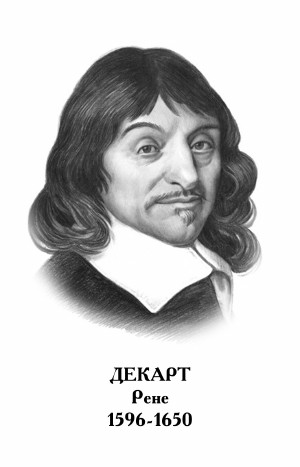Апология Декарта 6
Поэтому если вам скажут, что Декарту так и не удалось обосновать существованием субъекта некое существование объективного мира вне его, то сразу же понимайте под этим тех современных нам "сокамерников", которые как раз этим бесплодным занятием и занимаются - обосновывают левое правым, считая, что у правого есть приоритет, и что они, занимаясь подобным, восходят при этом к Декарту, однако Декарт таким делом не занимался. Декарт, конечно же, основательно расщепил наш мир надвое, но правые и левые стороны этого мира, он выводил из их единства. У Декарта можно найти переходы сторон субъект-объектного мира друг в друга после его расщепления, однако каждый из таких переходов обязательно проходит через звено под названием Бог, прежде чем попадает на другую свою сторону.
К сожалению, того же самого нельзя сказать о Лейбнице. Мир, который предстаёт перед Лейбницем уже не озабачивается своим единством. Это великий мир существующего - существующего разума и существующей вещи. Это "лучший из миров", поскольку вопрос бытия в нём как-то так вообще не ставится))). Если для Лейбница и возможно предположение многих других иных, отличных от нашего миров, то все эти миры - это миры различных существований, а не миры различного Бытия. Скажем представляем мы все эти сосуществующие миры вместе в виде огромной разнокомнатной пирамиды, как во сне Лейбница, и по этим комнатам ходит один и тот же персонаж, допустим наш русский Вася. Так вот в одной комнате Вася развёлся с женой, в другой комнате он спит с ней, в третьей комнате он вообще не женился, а в четвёртой комнате его жена его бросила - но сколько бы мы ни плодили таких комнат вместе с Лейбницем, примечательно одно - Вася почему-то во всех параллельных мирах остаётся Васей. Как-будто бы он меняет только одежды своего существования, но никогда не меняется сам в каком-то ином бытии.
Но так оно и есть. "Событие", Лейбниц определяет как отношение к существующему. Таким образом бытие сохраняет здесь свой статус в виде виртуального отношения к чему-то уже наличному. Поэтому, по правде говоря, все эти другие возможные миры - скучны. Как скучно выбирать ленивому человеку пойти ему на кухню или же завалиться на диван. Бытие здесь всего лишь обслуживает ленивого Васю "во все стороны". Бытие как орудие, польза и какое-то выхолощенное, сведённое к формальному выбору основание. С одной стороны существующий мир, а с другой - отношения, отношения отношений и отношения отношений этих отношений, и т.д., т.е. полностью формализованный мир.
Интересно, что можно думать о "когито" при такой позиции , заранее упустившей бытие, и в правую и в левую сторону? Правильно, можно думать лишь вот что - что высшее на что способно когито (мышление) - это полная виртуализация и формализация знания - например, создание единого искусственного языка для людей, или завершённой и конечной логики со сводом незыблемых правил, через которую проверялась бы истинность любого человеческого суждения - в общем всё то, чем Лейбниц и занимался с самым страстным воодушевлением, предвосхитив тем самым на столетия наше страшное время, в котором то, что ещё только намечалось в философии, стало единственно возможным вариантом нашего существования. Каковы бы ни были заслуги Лейбница, но он в понимании "когито" отделён пропастью и от Декарта, и от Бл. Августина. И утешиться нам нечем, поскольку наше познание шло дальше по ветке Лейбница, оставив вопрос о возвращении к изначальному "когито" подвешенным - где, когда, как? Да и можем ли мы вернуться, после того как столь далеко забрели?
Если теперь следующей станцией нашего путешествия мы выберем Гуссерля, то мы увидим уже совершившийся чудовищный переворот. Отныне в лице Гуссерля под мышлением или "когито" понимают просто-напросто сознание. И это воистину чудовищный переворот! Однако, прежде чем мы разберём в чём заключается его чудовищность, скажем почему наше путешествие дало такой огромный скачок. Почему следующий после Лейбница не Спиноза, не Кант, в конце концов, не Гегель? Конечно, не потому, что мы следуем исключительно за привязанным понятием "когито", якобы созданным Декартом и разрабатываемом другими, далеко не всеми философами, но скорее потому что для целей нашего путешествия, пропущенные нами точки не имеют смысла. Можно, конечно, через апперцепцию Лейбница перейти к апперцепции Канта, но что даст это нашей теме или нашему читателю? Лишь отклонит его внимание в другую сторону. Кант по своему формализовывал знания, как Гегель их логизировал, и любопытно было бы это посмотреть, когда бы мы не догадались, что в этом смысле они - всё тот же Лейбниц, только в более модернизированном варианте. Они - тот же Лейбниц не как имена, а как конкретная та же самая тема, которую мы рассматриваем.
Поэтому новой точкой нашей темы является Гуссерль, которому примерещилось, что сознание и мышление это одно и тоже, и следом за которым любой нормальный здоровый современный человек считает точно также один к одному.
Что же такое сознание, которое примерещилось Гуссерлю как выход из положения, но которое через сознание сознания он так постичь и не смог?
Удивительным образом и философы, и психологи всегда уклоняются от данного вопроса. Оказывается, что психологам проще работать с сознанием, чем понимать что это такое, а философам проще проще путать все эти вершки и корешки, чем достигнуть той ясности, о которой просил нас всех Декарт.
Ну что же, на свой страх и риск я дам определение сознания, иначе мы никуда не сдвинемся с мёртвой точки.
Сознание - это психическая достоверность знания в форме представления.
В этом определении следует выделить три части. Первую - что это только некоторая психическая деятельность. Вторую - что со-знание это то, что происходит в душе обязательно вместе с фактом её знания. Третью - что знание находится здесь исключительно в форме представления.
Итак, сознание это представление всего другого через моё самопредставление. Или это - часть души, знающей саму себя. Или это - такая психическая деятельность души, которая знает себя через самопредставление (где упоминание о самопредставлении достаточно, чтобы имелось ввиду и представление другого).
Получив на руки такое определение, мы с ужасом должны понять почему сознание это не "когито".
Во-первых, потому что в мышлении задействованы все части души, как говорилось уже по поводу Декарта - чувства, воображение и воля - это тоже мышление, и наоборот, высшие акты интеллектуальной деятельности предполагают задействованность в них чувств, воображения и воли ( в противном случае у нас будет не мысль, а картинный шаблон). Таким образом, мышление это как минимум, вся душа целиком, но боюсь, что мышлению мало даже и всей души, ему требуется ещё и тело, то есть то единство того и другого, о котором говорил Декарт. Мышление больше похоже на единство души и тела, чем на одну, хотя и всю душу, а уж тем более, чем на часть души.
Несмотря на то, что философы позволяли себе считать, в частности Платон, что разум относится лишь к высшей разумной части души, я утверждаю, что человеческое тело также "мыслит" и не в меньшей степени чем то, чему мы приписываем мысли сегодня - то есть чем голова, поскольку у мышления вообще нет степеней. И если само мышление всегда не знали где поместить, и помещали либо в высшей части души (Платон), либо в центре души, в сердце (Бёме), либо в голове - мы, то наверное же это не случайно, что мышление не знает себе места и поэтому Спиноза может сказать, что никогда не возникнет развитых мыслей у неразвитого тела. Вот почему высказывание - мыслит весь человек, а не его голова - верно.
Но сознание является как раз исключительно психической деятельностью, и как раз некоторой, доведённой до совершенства - в этом плане можно было бы сказать, что сознание это форма, которую запечатлевает мышление человека конкретно в его душе.
Свидетельство о публикации №121050107564