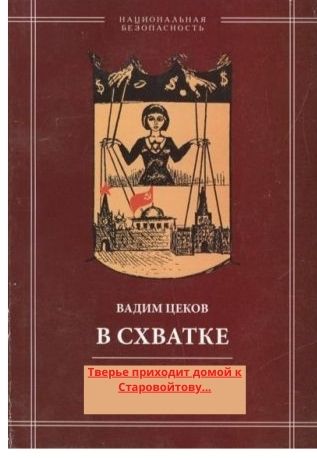Тверье приходит домой к Старовойтову...
— Да, – подтверждает Старовойтов.
— И что? – продолжает Тверье. – Расположил его к себе?
— Не знаю… — говорит Старовойтов. – Но я был с Корневым предельно откровенен. Рассказал ему о главных вехах своих жизненных злоключений с женами. Не преминул даже упомянуть и об убиении мною новорожденного…
— Насчет новорожденного – это ты напрасно! – восклицает Тверье. – Это опрометчиво с твоей стороны, Глеб! При всей непременной откровенности в разговорах с Корневым тебе надо быть с ним и крайне осторожным. Любой факт твоей прошлой жизни Корнев может повернуть в самое неожиданное для нас русло.
— Я очень верю Корневу, Дюдя! – произносит Старовойтов. – И буду с ним откровенным до конца, каких бы моих жизненных злоключений это не касалось.
— Мой долг тебя предупредить! – вставляет Тверье. – И поторопись, чтобы ты побыстрее приступил к беспардонному, иезуитскому вытягиванию из Корнева нужной нам информации о его фильмах и всех прочих корневских планах.
— Я хочу поделиться с тобой, Дюдя, сомнениями, которые меня охватили во время последней моей встречи с Корневым, – говорит Старовойтов. – Я был потрясен тем, с какой сдержанностью, предупредительностью, участием и тактом Корнев – этот проницательнейший человек выслушал меня – жалкого лазутчика, ничтожнейшего человечка, истерично исповедующегося. И сидя напротив Корнева, сбивчиво рассказывая ему о своих жизненных прохиднейских злоключениях, я неожиданно для себя почувствовал, что в душе моей происходит перелом, переворот, катастрофа, мне было о чем подумать.… В чем же был истинный смысл моей презренной жизни? И жил ли я вообще? И в чем должна быть эта жизнь?.. С той встречи с Корневым я перестал себя понимать. Я нахожусь в смятении. Корнев сбивает меня с толку. Все правила, служившие мне опорой на протяжении всей жизни, рушатся перед лицом этого человека. Великодушие Корнева по отношению ко мне подавляет меня. Корнев – вот тяжкий груз, давящий на мой мозг. Мой ум, столь ясный в своей мещанско-обывательской слепоте и прагматичности, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился…
— Не знаю о каком «кристалле» ты говоришь, Глебушко, но в твоей головке что-то действительно основательно замутилось, – с высокомерным сарказмом жестко прерывает Старовойтова Тверье. – Напоминаю тебе, Глеб: Корнев наш враг! Идеологический и генетический враг! И сообразно с этим ты будешь относиться к нему и действовать!
Корнев и Старовойтов входят в редакционный холл и садятся в креслах.
— Что ж, продолжим разговор о вашем романе, – произносит Корнев, приветливо улыбаясь. – И как же это вам удалось дважды самостоятельно без адвокатской помощи вывести себя из следственного изолятора?
— Первый раз, Валерий Иванович, это случилось так, – говорит Старовойтов. – В армию я попал девятнадцатилетним мальчонкой. И сразу был направлен служить в Запорожье. А там из-за моего каллиграфического подчерка меня сразу же определили писарчуком в финчасть. Начальнику финчасти подполковнику Штаркману и его заместителю майору Гузману я тоже как-то сразу пришелся по душе. Во всяком случае, во мне их ничто не насторожило, я сразу пленил их своей мнимой простоватостью и плавно вписался в их образ жизни. А образ их жизни сводился к постоянному масштабному расхищению государственных финансовых средств по подложным документам, безудержному пьянству и изощреннейшему разврату. И это происходило при всем притом, что страна переживала тяжелейшую пору послевоенного лихолетья и трудовой народ, на пределе сил восстанавливая разрушенное гитлеровцами хозяйство, едва сводил концы с концами. А у них, у Штаркмана и Гузмана, постоянно на столах и паюсная икра, и свежайший балык с сочной ветчиной и марочный коньяк с морем шампанского, и прочие по тому времени деликатесы… Не говоря уж о том, что деньги в ту пору Штаркман и Гузман гребли лопатой!.. В мои же прямые обязанности входило скрупулезно переписывать многочисленные фиктивные хоздогорова с мнимыми подрядчиками, акты о якобы выполненных работах для военного ведомства и составлять бесконечные ведомости на получение зарплаты никому неведомыми подставными лицами. И еще от меня требовалось регулярно ездить в областное отделение Госбанка и мешками под спецохраной доставлять оттуда деньги в родную финчасть… Скажу прямо, Валерий Иванович, жизнь такая армейская в ту пору мне очень понравилась. Никакой строевой, сам себе хозяин, в карманах завелись «живые» деньги и с барского стола так много перепадало, что я, тогда совсем еще юнец, завел себе сразу трех любовниц… И не знаю, как долго бы это все продолжалось, но тут вдруг собирают в Харьковском военном округе на совещание по обмену опытом и повышению квалификации таких вот писарчуков-финансистов как я и я там такое услышал от авторитетных ревизоров, что у меня волосы дыбом встали. Оказывается, что за ту каждодневную мою писанину, связанную с оформлением фиктивных финансовых документов, я могу враз получить по совокупности, как минимум, пятнадцать лет строгого режима. А по максимуму, «вышку»… Короче, поездка в Харьков настолько меня просветила и потрясла, что едва вернувшись в Запорожье, я умолил своих прямых начальников Штаркмана и Гузмана отпустить меня на учебу в военное училище… И вот сижу я в аудитории Кировоградского зенитно-артиллерийского училища во втором ряду смотрю за тем, как преподаватель баллистики майор Петров рисует мелом на доске траекторию полета снаряда, как вдруг открывается дверь, на пороге возникает дежурный офицер с красной повязкой и громко возвещает: «Товарищ майор, курсанта Старовойтова требует к себе начальник училища!» Майор Петров смотрит на меня и произносит: «Курсант Старовойтов, выполняйте приказ!» «Слушаюсь!» — говорю я. А майор Петров подходит к дежурному офицеру и вполголоса спрашивает его: «Что там случилось?» «Прибыл из Запорожья сержант с двумя автоматчиками и офицером военной прокуратуры на арест Старовойтова, — отвечает дежурный офицер. – Какое-то там за ним крупное уголовное дело вскрылось…» Захожу я в кабинет начальника училища в сопровождении дежурного офицера, а там уже кроме генерала и начальник контрразведки и замполит… Короче, доставили меня вот так под охраной автоматчиков в плацкартном вагоне пассажирского поезда в Запорожье и сразу потащили на допрос к следователю. Тот разложил передо мной изъятые следствием массу фиктивных документов, оформленных и подписанных моей рукой. Деваться было некуда. Я, естественно, чистосердечно признался во всем и подписал все листы протокола допроса. А когда, поздно вечером меня в воронке под усиленной охраной доставили в камеру-одиночку следственного изолятора и я, наконец, остался один в четырех стенах, то тут же мешком свалился на нары лицом в тюремное одеяло. Нервы мои сдали и я впал в безутешную истерику. Я отчаянно рыдал, как никогда в своей короткой жизни! Сколько это продолжалось – я не помню. Лишь грубые толчки тюремного охранника вернули меня к действительности. Он рывком усадил меня на нары и грубо спросил: «Чего скулишь?» Я, глотая слезы, рассказал. «И это все? — с издевкой хохотнул охранник. – Да ты совсем наивняк! Завтра на допросе откажись от своих сегодняшних показаний. И все! Не ты первый!» «Но я же подписал протокол допроса!» — пролепетал я. «Ну и что? – с кривой ухмылкой парировал охранник. – Скажи, что подписал под давлением…» На другой день на допросе я в точности исполнил рекомендации тюремного охранника и эффект был потрясающий. Следователь взбеленился, но был вынужден вывести меня из числа обвиняемых по этому расстрельному уголовному делу. А, покидая следственный изолятор, я столкнулся на улице с рыдающей расфуфыренной женой подполковника Штаркмана. Я тут же поспешил ее утешить, уверив, что до конца дней ее без внимания и заботы не оставлю. А то, что я выведен из уголовного дела, так это даже хорошо для ее мужа и остальных обвиняемых: им теперь точно военный трибунал скостит срок... Больше я ее никогда не видел. А через день, прибыв в артучилище для дальнейшего прохождения обучения, я не услышал при перекличке на занятиях майора Петрова свою фамилию. Я встал и сказал, что при перекличке не была упомянута моя фамилия. Увидев меня майор поперхнулся и произнес: «Тебе, Старовойтов, все как с гуся вода!» Так я вывел себя, Валерий Иванович, первый раз из следственного изолятора! А что касается тюремного охранника, так он по сей день мой лучший друг. Фамилия его – Тверье.
Корнев встает и говорит:
— А о втором случае, когда вы сами себя вывели из следственного изолятора, да еще вопреки адвокату, вы расскажете при следующей нашей встрече.
Три дня спустя. Корнев и Старовойтов входят в редакционный холл и садятся в кресла.
— Итак, продолжим наш разговор о вашем романе, - приветливо улыбается Корнев. – Так как вам удалось во второй раз самостоятельно себя вывезти из следственного изолятора, да еще вопреки адвокату?
— Это случилось, Валерий Иванович, при таких обстоятельствах… — говорит Старовойтов. – Я тогда как раз в очередной раз сменил жену и у меня нежданно-негаданно завелась крупная по тем временам сумма… — взгляд Старовойтова неожиданно останавливается на его поблескивающих импортных коричневых туфлях и он на какое-то мгновение умолкает. – Извиняюсь… Но вся моя жизнь на поверку оказалась сплошной червоточиной, с какой стороны ее не копни… Вот я посмотрел на свои импортные коричневые штиблеты и тут же вспомнил, что именно в этот период моей жизни, когда я вновь женился, появились и они у меня, эти штиблеты. Но как вспомню, при каких позорных обстоятельствах они, эти штиблеты, мне достались, – стыд сейчас одолевает меня. Я сгораю от позора! Я ненавижу себя в такие минуты!.. А история со штиблетами была такая. Как только я обвенчался с новой своей суженой, вскоре, эдак через полторы недели умирает ее родной дядя. И вот стоим мы с новой моей женой в приемной морга на траурной церемонии прощания с ее дядей, а взгляд мой чисто машинально останавливается на его новехоньких коричневых импортных модельных туфлях. И что удивительно: явно моего размера! Я толкнул в бок супругу: «Света, можно?» «Что?» — вначале не поняла она. Я кивнул на туфли покойного. «Ах, вон ты о чем!» — сообразила, наконец, жена. «Ну, не пропадать же им? – вполне резонно произнес я. – Мигом смотаюсь и куплю дяде для замены тапочки… » «Ладно… — согласилась Светлана. – Только мигом!..» И вот, Валерий Иванович, к своему стыду и позору я сижу перед вами в тез самых туфлях, которые в свое время снял с мертвеца!
— Так как все же вам удалось во второй раз самостоятельно вывести себя из следственного изолятора, да еще вопреки адвокату? – перерывает Старовойтова Корнев.
— Как я уже сказал, Валерий Иванович, с появлением очередной жены завелись у меня и крупные деньжата, – говорит Старовойтов. – Я решил их сразу же вложить в жилплощадь. Отправился в райисполком и тут же понял, что без взятки инспектору отдела по учету и распределению жилплощади кооперативной квартиры мне не видать, как минимум, пять лет. Уточняю размер суммы, достаточный для инспектора и аккуратно передаю. К Новому году – я в новой квартире. А не прошло и полгода, я по повестке сижу перед следователем на Петровке. Оказывается, тот мой инспектор поставил на поток получение взяток и потерял бдительность. И теперь среди многих других я прохожу по уголовному делу как взяткодатель… И вот я в Бутырке, жду суда. А линию поведения определил для себя окончательно: никому никакой взятки я не давал. Картавый же адвокат каждый день мне талдычит: если, мол, подтвердишь дачу взятки, то я смогу в суде доказать, что тебя принудили ее дать и тебе скостят срок. Ну, нет, я не мальчонка какая-то! У меня появился свой план, как повести себя в суде и как на свободу выйти. Реализовать мой план можно было через специально отобранного мною свидетеля, имеющего большой политический вес. Знакомство с ним я должен был бы неопровержимо суду доказать. А он, не помня меня и, естественно, боясь быть причастным к уголовщине и потерять свое политическое лицо, непременно станет отрицать очевидные вещи и на глазах у всех окончательно с моей помощью запутается в своих показаниях. А коль такой авторитетный свидетель потеряет доверие судьи, то я такое доверие лишь заполучу. Тут же у меня в памяти всплыл возможный кандидат на роль такого свидетеля. Это был заведующий отделом Московского горкома партии, которому я как-то раз занес какие-то бумаги по поручению нашего парткома. Но пока он их читал, я внимательно, по привычке, изучал обстановку его кабинета. И даже сейчас я помню ее во всех мельчайших деталях, что давало мне возможность убедить суд, что я с этим зав.отделом неоднократно контактировал. Он, этот зав.отделом горкома партии, естественно, меня не помнил, так как смотрел на бумаги, а не на меня. В суде же я должен был убедительно доказать, что приходил к нему с устной жалобой именно на этого инспектора-взяточника из райисполкома. И вот судебное заседание. Предоставляется слово и мне. Я говорю: «Граждане судьи! Как же можно меня обвинять в даче взятки этому инспектору жилотдела, если я неоднократно ходил в горком партии с жалобами на действия этого самого инспектора-взяточника, который волокитил мой вопрос по жилью?» И тут же я попросил суд пригласить в качестве свидетеля этого зав.отделом горкома партии. Суд удовлетворил мою просьбу и в зале заседания появился мой коронный свидетель. Но поначалу его попросили подождать вызова в коридоре. А от меня судья потребовала подробнейшего описания кабинета и его меблировки. И я скрупулезно и методично описал, что в том кабинете было, какие и где стояли столы и шкафы, какого цвета и сколько было телефонов, куда выходили окна и даже упомянул забеленное пятно на потолке в углу. А после меня пригласили в зал заседания мою палочку-выручалочку, то бишь зав.отделом горкома. Он, естественно, повел себя так, как я и предвидел: стал утверждать, что видит меня в первый раз, что я никогда в его кабинете не был и что с жалобами я к нему не обращался… Тогда судья попросила горкомовца подробно рассказать об обстановке в его служебном кабинете. Тот охотно поведал, повторяя слово в слово мои показания. Тут я не выдержал и без разрешения судьи выкрикнул: «А было ли на потолке в углу забеленное пятно?» И он машинально ответил: «Да!» И через два часа я был уже дома. А судья, как мне потом стало известно, направила в горком партии представление о неискреннем поведении зав.отделом в судебном заседании. Вот так, Валерий Иванович, я вывел себя самостоятельно из следственного изолятора, вопреки даже усилиям адвоката. А первый раз я женился так…
— Извините, — говорит Корнев. – Но об этом вы мне расскажете в следующий раз.
В холл заглядывает курчавый мужчина из Подмосковья. Он кивает Корневу и говорит:
— Я подожду!
Тверье со Старовойтовым прохаживаются у станции метро «Кропоткинская».
— А не говорил тебе Корнев, какое количество своих фильмов он намерен снимать? – продолжает разговор Тверье.
— До фильмов его у нас разговор еще не доходил, – говорит Старовойтов. – А вот твоего курчавого родственничка из Подмосковья Исачка в редакции видел.
— Ты видел снова у Корнева Исаака? – уточняет Тверье.
— Да, – подтверждает Старовойтов. – К концу нашей встречи с Корневым он заглянул в редакционный холл.
— Это Исаак продолжает копать по моим анонимкам! – восклицает Тверье. – И вовлек в это дело, наверное, Корнева.
— Не исключено, – говорит Старовойтов.
— Надька се в больнице? – меняя тему разговора, спрашивает Тверье.
— А где ей быть? – на вопрос вопросом отвечает Старовойтов. – Пластом лежит без движения как и прежде.
— С Надькой надо тебе кончать! – восклицает Тверье. – Ты не должен большем отвлекаться на нее. Весь интерес твой сейчас должен быть сосредоточен на Корневе! А для Надьки я прихватил препаратик.
— Что за препаратик? – настораживается Старовойтов.
— Тот, что ранее обещал тебе, Глеб, — поясняет Тверье, вкладывая в руку Старовойтова небольшую бумажную упаковку. – Там все расписано… Во время очередного посещения Надьки в тот супик, который ей там, в больнице, дают, аккуратно всыпешь содержимое этой коробочки и на этом с ней все закончится… Через три дня, в результате ее острой сердечной недостаточности, ты станешь безутешным вдовцом.
Корнев в редакционном кабинете Матвеева.
— А что с романом твоего земляка-многоженца Старовойтова? – спрашивает Матвеев.
— Пока идут прослушивания его монологов… — отвечает Корнев. – И думаю, что они затянутся.
Неделю спустя Корнев и Старовойтов входят в редакционный холл и садятся в кресла.
—Продолжим наш разговор о вашем романе… — приветливо улыбается Корнев. — И как вы женились впервые?
— Это случилось, Валерий Иванович, почти сразу после окончания Кировоградского зенитно-артиллерийского училища, - говорит Старовойтов. – Присвоили мне звание лейтенанта и отправили в распоряжение Харьковского военного округа. В кадрах узнаю, что мне может быть предложена служба лишь на Камчатке. Ну, нет! Камчатка это не для меня! Сопки меня мало интересуют. Быстренько ориентируюсь в складывающей обстановке и окончательно проясняю: отбрыкаться от Камчатки мне не удастся и служить там придется, как минимум, с десяток лет. А ускоренно гарантированно выбраться оттуда можно будет на одном лишь основании: здоровью жены противопоказан камчатский климат. Тут же узнаю и какими неизлечимыми недугами должна обладать моя будущая предполагаемая жена, чтобы я мог вырваться с Камчатки наверняка и в кратчайший срок. Прошу в кадрах округа дать мне на раздумье пару дней и лечу в первую попавшуюся поликлинику отбирать кандидатуру в жены. В регистратуре узнаю, кто из врачей и в каком кабинете принимает больных с нужным мне диагнозом. Подхожу к названному в регистратуре кабинету. Очередь на прием к врачу приличная, но навскидку подходящей особы не вижу. Ну, не брать же мне в жены первое попавшееся больное уродище! Стал терпеливо в уголке за фикусом ждать: вдруг появится еще моя избранница. Все тщетно! Прием у врача заканчивается, а я пока что без жены. А время близится к вечеру. Лечу в другую поликлинику. И там, в очередь к врачу —ничего подходящего до конца приема. Господи, думаю, за что ты меня караешь, помоги! На следующий день иду в поликлинику, четко сознавая, что без невесты мне нельзя возвращаться. Терпеливо жду невдалеке от очереди у заветного кабинета свою судьбу. К концу приема все же появляется нечто вполне приемлемое. Но очень уж замороченная!.. Запоминаю ее фамилию, которую произнесла медсестра, и жду внизу, у регистратуры, ее выхода. Деликатно знакомлюсь с нею уже на улице и договариваюсь о встрече ближе к вечеру. А сам возвращаюсь в поликлинику, по пути прихватив коробку дорогих конфет, и прямо в регистратуру. Через каких-то пять минут я имел уже достовернейшую информацию: у моей избранницы серьезнейшее хроническое неизлечимое заболевание с как раз тем диагнозом, что мне нужен… Ну, а дальше уже было дело примитивной техники. Беру назначение на Камчатку, регистрируем брак, и я срочно вылетаю к месту службы. А перед отъездом инструктирую молодую супругу, что она должна писать в высшие инстанции, чтобы меня быстрее вернуть к себе с Камчатки. Прибываю я на Камчатку, разговариваю с тамошним майором, моим непосредственным начальником, который со дня на день должен был отбыть к новому месту службы в Севастополь, а он мне с ухмылкой заявляет: «Вот отзвонишь как я здесь двадцать лет и тоже, может быть, получишь приличное назначение в Европу!» Но так случилось, что при сталинской четкости приказ из Москвы об откомандировании меня в тот же Севастополь для дальнейшего прохождения службы пришел уже почти через месяц. И вот иду я в Севастополе по Нахимовскому бульвару, а навстречу мне – мой камчатский майор. Удивился он моему неожиданному появлению в Севастополе, посмотрел на меня пристально и сказал: «Ну, ты и уникум, Старовойтов!» А когда неделю спустя в Севастополь заявилась моя жена для совместного проживания, то я ей четко объяснил, что только в Севастополе я окончательно осознал: мой удел в этом мире – наука и поэтому я принял окончательное решение получить высшее образование. Ей же я порекомендовал пока возвращаться в Харьков и во имя нашей любви безотлагательно лечиться. При расставании мы оба разрыдались.
Корнев смотрит на часы, встает и протягивает руку Старовойтову:
— До следующей встречи!
Через два дня Корнев и Старовойтов входят в редакционный холл и садятся в кресла.
— Если позволите, Валерий Иванович, то я бы сегодня поведал бы вам о том, как устраивал себя на работу после окончания вуза, — произносит Старовойтов.
— Пожалуйста, — говорит Корнев.
— Заканчивал я Харьковский институт механизации сельского хозяйства, - продолжает Старовойтов. – До дипломирования оставалось несколько месяцев и я, считая жену отработанным материалом, за ненадобностью, решил избавиться от очередной своей законной спутницы жизни. Но не тут-то было! Развести-то нас с нею в загсе – развели. Но бывшая моя жена остервенела, решила меня погубить и сделала единственный для нее верный ход: исключить меня из КПСС. Накопала несколько компрометирующих меня фактов, а их, надо сказать, было хоть отбавляй, и, обливаясь крокодиловыми слезами, отправилась с бумагами в партком института. Ее заявлению тут же был дан ход. И вскоре я был исключен из КПСС и факультетским партбюро, и институтским парткомом, и райкомом партии… Оставалось пройти горкомовское чистилище. И тут я сказал себе: стоп! Так просто порушить свою карьеру не могу позволить! На бюро горкома партии, где окончательно должно было быть утверждено решение о моем исключении из КПСС, я поклялся никогда больше в будущем не допускать никаких подобных прегрешений и искренне заверил членов бюро горкома партии, что искуплю свою вину добросовестным трудом на благо нашей Родины после окончания института в любом отдаленном сельхозрайоне, куда меня пошлют по распределению. Члены бюро расчувствовались, поверили мне, и исключение из партии заменили строгим выговором с записью в учетную карточку. Но это уже было не страшно! Теперь лишь оставалось сделать так, чтобы я после окончания вуза остался в Харькове, а не поехал бы куда-либо в глухомань. И тут опять меня вызволил Давид Тверье, который к этому времени уже жил в Харькове, окончил институт, целевую аспирантуру и работал ученым секретарем в НИИ сельхозмаше. «Напрямую попасть тебе на работу в наш институт, конечно, не удастся, — сказал Давид. – Но я тебе кое в чем помогу. Для начала надо, чтобы ты выполнил диплом по актуальнейшей тематике нашего института». И Давид сразу же приступил к выполнению этой, в общем-то, довольно не простой задачи. Для начала он уговорил директора своего института, что для того будет очень престижно вести руководство дипломным проектированием в нашем вузе. А потом Тверье появился в нашем вузе, как полномочный представитель директора НИИ сельхозмаша, и вручил нашему ректору список актуальнейших дипломных тем, которые согласен вести лично сам директор НИИ. Я же за два дня до появления Тверье в нашем вузе написал на имя ректора заявление с просьбой закрепить за мной инициативную тему дипломного проекта, совпадающую один в один с одной из трех, значащихся в списке директора НИИ сельхозмаша. Просьба моя в вузе с радостью была удовлетворена. Тверье мне дал готовые чертежи. Диплом я блестяще защитил. А перед защитой мы с Дюдей на глазах у директора разыграли инсценировку. Тверье за бутылку подогнал к парадному входу института трактор «Белорусь», попросил тракториста научить меня ездить вперед-назад и в момент, когда директор института появился из дверей, я лихо пролетел на тракторе мимо него, улыбаясь и раскланиваясь перед своим руководителем диплома. А на другой день директор института сказал Давиду, что такая научная поросль как раз позарез нужна советской науке, потому как не только владеет теорией, но и практикой. После этого эпизода мне оставалась лишь элементарная задача отмазаться от вузовского назначения в выбранную мною сельхозглубинку. Посетив тамошнее сельхозуправление, я умолил послать меня для укрепления кадрового состава в самый убогий совхоз, заранее зная, что там председатель не просыхает. В середине следующего дня я уже возвращался в Харьков свободный как птица, с открепительным талоном в партбилете. А через неделю я уже ходил на работу в НИИ сельхозмаш.
В холл заглядывает курчавый мужчина из Подмосковья и напрямую обращается к Корневу:
— Я раздобыл новые документы!
Корнев встает и говорит Старовойтову:
— Следующий раз продолжим!
Корнев и курчавый мужчина из Подмосковья идут по редакционному коридору.
— Если вы мне позволите, Валерий Иванович, я после посещения прокуратуры вернулся бы к вам еще в редакцию, — говорит курчавый мужчина.
— Пожалуйста, — произносит Корнев.
Тверье и Старовойтов идут по Александровскому саду.
— А моего подмосковного Исаака ты случайно снова не видел в редакции газеты? – спрашивает Тверье.
— Да, видел я, видел твоего Исаачка!.. – бросает Старовойтов.
— Ох, не нравишься ты мне, Глеб! – говорит Тверье. – Не нравишься!..
— Почему?.. – отстраненно произносит Старовойтов.
— Твои контакты с Корневым тебя совершенно изменили, — продолжает Тверье. — До неузнаваемости!.. Ты стал каким-то не тем. Ты перестал быть собой. Что у тебя в голове? Никак не пойму! Ведь результата-то нет! Ты не вытянул из Корнева ни одной полезной нам информации. Не пробился даже к нему домой… А значит, не расположил его к себе настолько насколько нам это нужно. А я так на тебя надеялся! Твои же откровения-монологи могут быть использованы Корневым против нас. А в твою миссию входило расположить к себе Корнева и попытаться вывернуть его душу. Напомню тебе еще раз, Глебушко!.. Всемирное еврейство еще не сказало своего последнего слова. Только теперь наступил настоящий момент для борьбы за осуществление нашей ветхозаветной идеи!
Корнев входит в редакционный кабинет Матвеева.
— И что там получается по расследованию авторства анонимных посланий-угроз, разосланных якобы русскими националистами целому еврейскому родственному клану? – спрашивает Матвеев.
— Да получается так, Женя, что автором этой русофобской разветвленной провокации может оказаться один из членов этого же еврейского клана, - говорит Корнев.
— Вон даже как! – удивляется Матвеев. – Интересно!.. А курчавый из Подмосковья помогает установить истину?
— Думаю, что он уже может и сам не рад, что начал эту раскрутку, горя желанием возложить ответственность за эти анонимки на якобы существующих фашиствующих русских националистов, - говорит Корнев.
— Пикантно получается! – восклицает Матвеев. – Надеялись курчавые шустряки вытащить русскую репку и раззвонить о расцвете русского фашизма на всю галактику, а на поверку извлекли смрадную сионистскую портянку со звездой Давида!
Тверье встречается с Фаиной Зиновьевной у станции метро «Динамо» и они идут по аллее прилегающего парка.
— Я вот по какому поводу попросил у вас, Фаина Зиновьевна, встречи со мной, — говорит Тверье. – Полностью мною управляемый Старовойтов, конечно, шаг за шагом устремлен к информационному нутру Корнева. Но у меня есть более радикальное предложение по этому распоясавшемуся журналистскому монстру. По первому же вашему сигналу я готов лично прикончить Корнева! Гарантирую, что это мною будет проделано аккуратно, профессионально и без какой-либо ненужной засветки наших людей. Корнев – для меня не только заклятый враг нашего движения, но и мой личный враг!
— Благодарю вас за готовность выполнить эту миссию, — сдержанно произносит Фаина Зиновьевна. – И прошу без моего приказа ничего подобного не предпринимать.
В прихожей квартиры Старовойтова раздается звонок. Старовойтов открывает дверь. На пороге – пьяный Тверье.
— Проходи! – говорит Старовойтов.
— Благодарю, Глебушко! – произносит Тверье и проходит в гостинную, взирая по сторонам. – Вот теперь мне у тебя нравится!.. Никакой Надьки! Никаких ее сучьих косых взглядов на меня!.. И посидеть можно спокойненько, и поговорить по душам… Доставай бутылку и побольше закуски! Я страшно голоден!
Старовойтов накрывает стол и открывает бутылку водки.
— Так в чем же жизни смысл, любезный мой приятель? – с ухмылкой игриво продолжает Тверье, садясь за стол. – Об этом я скажу ни грана не тая!.. А теперь садись!..
Старовойтов присаживается к столу. Тверье наполняет водкой рюмки, берет свою рюмку и провозглашает:
— За нас.
Они пьют и закусывают.
— Выше нос, дружище! – пристально посматривая на Старовойтова и снова наполняя рюмки, продолжает Тверье. – Я тебя понимаю, Глеб! Я тебя очень понимаю… Никто так тебя не понимает, как я!.. Всю жизнь ты привык шагать по прямой с единственными бессменными, достойными внимания твоего ориентирами: нажива, деньги, выгода. И вдруг впритык сталкиваешься с Корневым, с человеком, исповедующим совсем другие приоритеты… Ты неожиданно увидел перед собою два пути, одинаково прямых, но их два. Это ужасает тебя, так как всю жизнь ты следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути противоположны. Каждая из этих прямых линий исключает другую. Которая же из двух правильна?.. Я понимаю, положение твое стало невыразимо трудным. До чего же ты дошел, Глеб? Ты, конечно, стараешься понять и не узнаешь самого себя.
— Ну, почему же? – спокойно парирует Старовойтов.
— Выпьем! – восклицает Тверье и в одно мгновение опорожняет очередную рюмку.
Тщательно пережевав пищу, Тверье продолжает:
— Так вот, Глеб, мой тебе совет. Отбрось весь бреди смотри на себя исключительно как на члена избранного народа. И только так! Вера праотцев является нашим единственным патриотизмом. Наше дело велико и священно, и успех обеспечен! Сеть, раскидываемая народом израилевым поверх земного шара, будет расширяться с каждым днем, и величественные пророчества наших священных книг обратятся, наконец, к исполнению! Станем же пользоваться всеми этими обстоятельствами. Могущество наше огромно! Научимся применять его к делу. Чего нам страшиться? Уж недалек тот день, когда все богатства земные перейдут в собственность детей Израиля!.. Отчего, я тебя спрошу, Глеб, человек властвует над скотом, который физически гораздо сильнее его? И отвечу: только потому, что животные не обладают духовными силами, потому что он – человек, а они – животные. Так же будет и с нашим племенем по отношению к племенам христианским, лишенным истинного религиозного и национального чувства… Стада не в силах сопротивляться сторожевым псам, обученным пасти их! Отсутствие национального чувства – самое лучшее, что можно пожелать России. В этом случае, она лишается внутренней силы, оружия, сплоченности, вождей, денежных ресурсов и приковывается к неправедной судебной системе. Понятно, что мы не в праве требовать к себе полного доверия аборигенов… Но пока мы есть, Глеб, они будут осуществлять наше правосудие! И только наше!
— Мы не начали еще ощущать всей глубины нашей вины, — прерывает Старовойтов.
—Это ж какой «вины»? – настораживается Тверье.
— Мы – незванные гости здесь, в этой стране, Давид! – продолжает Старовойтов. – Мы – разрушители. Мы берем их природный мир, их идеалы, их назначение и разрушаем это. Кто знает, какой великой и славной могла бы быть их судьба, если бы мы оставили их одних!
— Выбрось из головы всю эту гниль! – выкрикивает Тверье. – Что, корневщина прет из тебя?.. Мы – вне вины! Мы – вне суда какого-то быдла! Мы сами судим и казним! Сионисты — это те, кто готов пожертвовать любым человеком, кем угодно, любым народом для большего блага Израиля. Мы бросаем вызов миру и готовы совершить любое преступление – только бы исполнить заветы предков. Мы хотим увидеть осуществление своей мечты, какие бы последствия ни произошли от этого! Наша сила создает нам абсолютное право на это!.. Основополагающее христианское высказывание: «Прощайте врагов ваших». Наш же эквивалент этому высказыванию: «Никогда не забывай! Никогда не прощай!». Есть только одна сила, с которой следует считаться: сила политического давления. Мы самый могущественный народ на земле, потому что обладаем этой силой и умеем ее применять. Едва ли на всей земле найдется такое место, где бы не правили мы! Рассеянные повсюду, образуем мы народ чужой той земле, где находим прибежище. Мы – особенный народ, куда необходимо входит каждый из нас, где бы ни жил, какой бы пост ни занимал, во что бы внешне ни веровал. Сионист удовлетворяется дехристианизацией, он иудаизирует, он разрушает православную веру, он провоцирует не только безразличие, но навязывает свои представления о мире, морали и жизни тем, чью веру разрушает. И все это ты, Глеб, в совокупности будешь выполнять беспрекословно!
На следующий день Корнев и Старовойтов сидят в креслах редакционного холла.
— А был в моей порочной жизни, Валерий Иванович, и такой казус!.. – продолжает разговор Старовойтов. – Но это уже случилось в Ленинграде… Стоя я со своей новой женой Любой в Дворце бракосочетаний, звучит марш Мендельсона, в руках у меня казенный бокал с шампанским, а я думаю: «Как же, голубушка, я буду от тебя избавляться?» Пришли к ней домой. «Располагайся в моем гнездышке как тебе удобно! – говорит Люба. – Кстати, мои родители от тебя без ума!» «Я рад», — говорю. «Не забудь завтра оставить паспорт на прописку», — напоминает она. «Хорошо», — говорю. «Отец сказал, — продолжает Люба, — что когда мы переедем в новую квартиру, то у тебя будет отдельный кабинет. А пока побудь здесь, я пойду на кухню помочь маме. Конечно же, надо было заказать стол в ресторане! НО ты же просил, чтобы было поскромнее, по-семейному…» «Много будет гостей?» — спрашиваю. «Нет, —отвечает Люба. – Лишь наши близкие родственники». Она взяла с книжной полки альбом фотографий и подала мне, сказав: «Вот здесь фотографии моего детства. Кое-кто из них сегодня будет у нас на ужине». «С удовольствием посмотрю», — произнес я, беря альбом. И она ушла. А я сажусь в кресло и, не торопясь, рассматриваю фотографии в альбоме. Вдруг мое внимание задерживается на большом конверте, выпавшем из альбома. Беру конверт в руки и заглядываю вовнутрь.Там цветные фотографии. И что я вижу? Моя новая супруга в костюме Евы! Извлекаю из конверта снимок, внимательно всматриваюсь в него и размышляю: «Интересно, какому же типу демонстрировались эти прелести, да еще и позволено было запечатлеть их на фотобумаге? И как мне можно все это использовать?» Иду к двери, открываю ее и громко зову Любу. «Что, милый?» — спрашивает она, войдя в комнату. Я показываю ей фотографию и разъяренно вопрошаю: «Что это?» Люба берет снимок в руки и без тени смущения восклицает: «Ах, это?! Ха-ха-ха!.. Это дядя меня фотографировал, когда я из ванны выходила. Он меня с детства знает. А в тот раз в гости приезжал… Выхожу я из ванны, а он меня неожиданно: щелк! Ну, а месяц спустя прислал вот этот снимок. Все никак не доходили руки порвать его!» Люба рвет фотографию на куски, бросает их в корзину для бумаг и говорит: «Бегу! Иначе у меня там все сгорит!» Целует меня в щеку быстро уходит. А я подхожу к корзине и выгребаю обрывки фотографии… Получилось, конечно, неплохо!.. «Но этого же мало! – подумал я. – Невольно убеждаешься: нет проблемы встречи, есть проблема расставания!»
В холл входит Матвеев и обращается к Корневу:
— Главный поставил твой фельетон прямо в номер. Надо бы вычитать его в полосе…
Корнев, вставая, протягивает руку Старовойтову:
— Продолжим при следующей встрече!
Поздним вечером в прихожей квартиры Старовойтова раздается звонок. Старовойтов открывает дверь. На пороге – пьяный Тверье.
— Снова не ждал? – ухмыляется Тверье. – И напрасно! Меня теперь тянет сюда больше, чем в свой родной дом…
— Заходи, — произносит Старовойтов.
— Благодарствую! – говорит Тверье и проходит в гостиную. – И не удивляйся, что я опять под градусом!.. Глубокие философские размышления, которыми я всецело поглощен ныне, Глебушко, побуждают меня потреблять алкоголь регулярно и в неограниченных количествах. А потому доставай бутылку!
Старовойтов накрывает стол и открывает бутылку водки.
Тверье, сев за стол и разливая водку в рюмки, продолжает:
— Ты, Глеб, в прошлый раз своими рассуждениями меня немало удивил и даже ошеломил.
— Чем же я тебя ошеломил, Дюдя? – присаживаясь к столу, спрашивает Старовойтов.
— Потом, потом поговорим… — бросает Тверье. – Выпьем!
Они пьют и закусывают.
— Так все же чем я ошеломил тебя тогда? – спрашивает Старовойтов.
— Ты призвал нас начинать ощущать всю глубину нашей вины перед тутошними аборигенами и поспешить оставить их одних, - отвечает Тверье. – А почему это так вдруг нам начинать ощущать какую-то свою вину перед ними, а заодно и покидать эту страну?
— Мы – незваные гости здесь, Давид! – вставляет Старовойтов.
— Ну и что! – парирует Тверье. – Мы везде незваные гости! И здесь мы не вчера появились!.. Расползаясь с древних времен по всему миру и бесцеремонно наживаясь на доверчивости, открытости и наивности коренных народов, мы, естественно, и сюда проникли. Наши предшественники торговцы, ростовщики и менялы, Глеб, пробрались к народам и племенам нынешней южной России в незапамятные времена. А задолго до основания Русского Государства они до того уже усилились в царстве хазарском, что успели обратить в свою веру кагана хазарского и вельмож. В результате получилось, что вскоре могущественное царство хазар как-то незаметно, без серьезных потрясений, распалось и исчезло. И своим падением царство хазарское было обязано исключительно нашим людям. В это же время являются евреи со своей религиозной пропагандой и в Киеве, где тогда уже существовала особая «жидовская улица».
Тверье наполняет рюмки водкой. Берет свою рюмку и, пристально глядя в лицо Старовойтова, провозглашает:
— За тебя!
Они пьют и закусывают.
— Вот ты упрекаешь нас, своих соплеменников, что мы, мол, разрушители в этой стране, — продолжает Тверье. – Что мы, дескать, берем их природный мир, их идеалы, их назначение и разрушаем их. Что мы привнесли раздоры, смятение и разочарование в их жизнь… Все правильно!.. А что тебя в этих наших действиях удивляет? Так мы всегда вели и ведем себя с коренными народами во всех местах своего поселения, включая и эту страну. Потому как всегда у нас цель едина: искусно внедриться в гущу аборигенов, подчинить их своему владычеству и, окончательно закабалив, выжать их них же последние соки!.. Конечно, Глеб, нашим людям на новых местах далеко не всегда все гладко обходилось! Нередко бывало и такое, что, хорошенько раскусив наши повадки и цели, представителей избранного народа и избивали, и убивали, и даже скопом всех до одного выселяли на какое-то время за пределы страны. Вот, к примеру, нашим людям не удалось обратить в свою веру великого князя Владимира Святого. Но самое поселение евреев в Киеве, смелость, с какое они обратились к великому князю, предлагая ему принять иудейский закон, а равно и то влияние, какое они имели впоследствии в древнем Киеве, может служить лучшим доказательством тому, что русские славяне приняли наших людей дружелюбно, без всякого против них предубеждения. И если впоследствии коренной народ вооружился против наших людей и стал их гнать из киевской Руси, то очевидно причиною тому были не хозяева, а зарвавшиеся гости, сумевшие вскоре сделаться невыносимой тяготой для хозяев. В течение XI и XII веков произошло в Киеве несколько жидовских погромов, не считая пожара жидовского квартала в 1124 году. Проходили эти погромы вследствие экономического гнета увлекшихся добычей наших людей, державшихся особняком, как бы во враждебном коренному населению лагере, из которого они выходили в мир только для торговли и ростовщичества. Вот так-то, Глебушко, гласит история пребывания и борьбы наших предшественников за реализацию нашей целей в этой стране!
Тверье разливает водку в рюмки, поднимает свою рюмку и провозглашает:
— Выпьем за наших достойных, мужественных предков, неотступно в течение многих веков стремившихся покорить эту страну!
Они пьют и закусывают.
— Конечно, при корыстолюбивом Великом князе Святополке-Михаиле евреи свободно жили в Киеве, — произносит Тверье, ловко подхватывая вилкой сардину. – Но по смерти его киевляне расправились с ними по-своему. А приемник Святополка, Владимир Мономах, побуждаемый общей ненавистью к нашим людям за совращение ими христиан в иудейство, выслал их всех из пределов своего государства. Но наши люди снова вскоре появились в Киеве. А во время татарского ига наши соплеменники явились в роли сборщиков дани, которую они собирали с присущей им жестокостью. По своим торговым и ростовщическим делам евреи из Киева и Польши, где поселились они еще в конце XI века, достигают в XIV веке и Великого Новгорода, в котором дают начало известной «ереси жидовствующих». А она приняла такие размеры, что в 1490 году был созван православный церковный собор для обсуждения способов борьбы с этой ересью. И были предприняты крутые меры для прекращения дальнейшего распространения разлагающей Русь ереси. Однако это нарастающее движение наших соплеменников и тогда остановили, но не искоренили, как видим и мы сейчас с тобой, Глеб… После этого царем Иваном Грозным евреям было запрещено въезжать в Россию. Но вскоре настало смутное время, и евреи вновь появились на Руси и даже еще более способствовали раздорам в этой стране. И так далее и тому подобное по сей день!.. Историю своего племени надо знать, Глеб!.. А посему выпьем за наше великое, неувядающее, вечное, победоносное движение!
Тверье наполняет водкой рюмки, и они пьют, закусывают.
— Мы с тобой, Глеб, должны гордиться, что являемся солдатами этого мощнейшего в мире политического и идеологического движения! – тщательно пережевав пищу, говорит Тверье. – А солдаты сиона должны неукоснительно выполнять приказы своего руководства. За всякре уклонение от выполнения приказа любой отступник из нашего движения непременно должен поплатиться своей жизнью! Мы должны руководствоваться всегда и во всем ветхозаветной мудростью и фундаментальным принципом иудаизма: сначала выполни завет, потом спроси – зачем? Только при такой железной, беспощадной и безоговорочной дисциплине и беспредельной верности, незыблемым заветам наших праотцев мы – сионисты непобедимы. В этом наше главное отличие от окружающего нас в этой стране примитивного быдла, которое с необъяснимой легкостью проявило малодушие и не стало привлекать к ответственности своих бывших советских верховодов-правителей, свершивших величайшее в истории человечества предательство — осознанно добровольную без единого выстрела сдачу Советского Союза нам, его исконному врагу – просионистским силам!.. И вот в этой ситуации, Глеб, когда до окончательной победы в этой стране остается всего ничего, ты дрогнул… И что самое страшное, ты уже мысленно предал наше движение, сомневаясь в необходимости и целесообразности наших действий. И все потому, что ты с легкостью поддался влиянию писаний Корнева, которые являются концентрированной сущностью русскости и Руси, и сокрушительным ударом по сионизму. Что, кстати, иллюстрируется твоим нынешним идейным предательством. Русь же для нас всегда была и есть вечным врагом! А долг каждого еврея всегда и везде всемерно содействовать нашему движению. Даже на Колыме! И мне искренне жаль своей любви к тебе, своего рода доверия к тебе и всего того, что я тебе сделал!
Тверье смотрит на часы и восклицает:
— О, уже час ночи!
— Да, уже поздно… — отстранено произносит Старовойтов.
— Я, пожалуй, у тебя заночую… — говорит Тверье. – Только ты меня не укладывай в комнате Надьки, а то вдруг она мне мертвой приснится! Ха-ха-ха! А может, какая-то там и зараза завалялась!..
Корнев и Старовойтов входят в холл редакции газеты и садятся в кресла.
— И о чем же сегодня вы поведаете? – произносит Корнев. – О, да вы чем-то взволнованы!
— Я всегда волнуюсь, Валерий Иванович, перед встречей с вами, - говорит Старовойтов. – А сегодня в особенности.
— Почему? – спрашивает Корнев.
— Я был с вами не до конца искренен, - продолжает Старовойтов.
— В чем же? – уточняет Корнев.
— При нашей первой встрече я увидел на вашем столе замызганный конверт с адресом, исполненным моей рукой, - говорит Старовойтов. – И тут же появился курчавый Исачек, как называет своего подмосковного родственника мой старинный приятель Тверье. Я сразу почувствовал себя неуютно. Я впервые в жизни не знал, что теперь делать. Выдать Тверье, моего давнишнего спасителя и приятеля, я не мог. Не сказать вам о Тверье, сделать вид, что никакого касательства я не имею к этому злополучному конверту – тоже было для меня неприемлемо. В первом случае я становился предателем своего давнишнего приятеля, которому был обязан своей судьбой и даже жизнью. Во втором – Тверье, наживаясь, попирал закон ногами и становился символом провокаторов, а я лишь потакал провокатору-русофобу. В обоих случаях, как мне казалось, обесчещенным оказывался я. Что бы ни решил, исход один – моральный и даже физический конец. В моей беспутной, корыстной жизни мне не раз встречались отвесные кручи, откуда не спастись, откуда жизнь летит в глубокую, бездонную пропасть. И вот я снова стоял на краю такой пропасти. Особенно угнетала меня необходимость размышлять на сию тему. Жестокая, непрерывная борьба противоречивых чувств принуждала меня к этому. Мыслить было для меня необыкновенно мучительно… Думать о событиях истекшего дня, в особенности после встреч с вами, Валерий Иванович, было для меня нестерпимой пыткой. Однако после стольких потрясений, было необходимо заглянуть в свою душу, в свою совесть и отдать себе отчет о себе самом. Я трепетал перед тем, что сделал и тем, как это все завершится. Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия проступку, я содрогался с головы до ног. На что решиться?.. Мои раздумья становились все более мрачными. Осмысление мелкого проступка, по моим прежним меркам, приводило меня к осознанию непростительной тяжелой вины... А признаться сразу в своей неосознанной причастности к этим провокационным анонимкам у меня не хватило мужества… А дело было так. Я пришел к Тверье с бутылкой посоветоваться в очередной раз как мне развязаться со своей супругой. Тверье же заставил меня подписывать кучу почтовых конвертов, согласно адресам и фамилиям по списку. А сам в это время готовил закуску. Когда же я удивился, что он поддерживает отношения с таким количеством родственников, то Тверье ухмыльнулся и предложил ознакомиться с содержанием любого из конвертов. Я заглянул и ужаснулся: в конверты были вложены провокационные анонимки от имени русских националистов. Тут Тверье мне цинично пояснил, что на каждом письме он делает гешефт. Перепуганные родственники бросаются к нему с мольбой помочь побыстрее выехать за границу, а он с них получает вполне приличные суммы. Я смалодушничал, тем более, что это Тверье употреблял своих родственников, и, говоря откровенно, забыл об этом. Но расплата за соучастие для меня неотвратима! Сразу от вас я еду в прокуратуру и оформляю явку с повинной. Я это сейчас окончательно решил!
— Достойное гражданина решение! – говорит Корнев.
Корнев и курчавый мужчина из Подмосковья идут по редакционному коридору.
— Там еще вот что произошло… — продолжает разговор курчавый. – Не дождавшись реакции на свою анонимку из Одессы, Тверье позвонил туда и спросил: чего, мол, молчите? И мои мудрые родственники-одесситы поняли, откуда ноги у этой анонимки.
— Любопытно, — произносит Корнев, улыбаясь.
Корнев и Матвеев выходят из здания редакционной газеты и идут к троллейбусной остановке.
— Надеюсь, хоть на этот раз, рассказывая тебе о своей причастности к провокационным анонимкам, твой земляк Старовойтов был до конца искренен? – спрашивает Матвеев, улыбаясь.
— Безусловно! – отвечает Корнев.
— И когда можно ожидать на полосе газеты материал об этих антирусских проделках воинствующего русофоба Тверье? – спрашивает Матвеев.
— На следующей неделе, Женя, — говорит Корнев. – Я кое-что еще должен перепроверить по этой мерзкой провокации, — говорит Корнев.
Тверье в гостиной квартиры Старовойтова за накрытым столом. Он залпом выпивает содержимое рюмки и впяливается глазами в лицо Старовойтова.
— Вот смотрю я на тебя, Глеб, и скажу откровенно в этот судьбоносный для тебя час… — произносит Тверье, не отрывая взгляда от лица Старовойтова. – А ведь я засомневался, очень даже засомневался в тебе, когда ты вот по пьянке ляпнул!
— Что я ляпнул? – спрашивает Старовойтов.
— Ну,когда ты сказал мне, что нам, избранному народу, надо начинать ощущать всю глубину нашей вины перед тутошними аборигенами и поспешить оставить их одних… — продолжает Тверье. – Я тогда и наговорил тебе кучу всего того, чего мне следовало наговорить в таком случае. Но потом подумал, переломил себя и решительно сказал себе: нет, Давид Тверье никогда в людях не ошибается и ошибиться в Глебе Старовойтове не мог! Старовойтов никогда не сможет предать нашу дружбу и наше движение. Ведь не даром же я поверил Старовойтову и так приблизил его к себе, вытаскивая из безнадежных криминальных ситуаций. Старовойтов, с уверенностью сказал я себе, будет верно служить мне и нашему движению до конца дней своих!.. И вот, Глеб, для тебя наступил час важнейшего испытания… Я заранее горжусь тобой, Глеб! Тебе предстоит выполнить священную миссию…
— Какую? — настораживается Старовойтов.
— Ты должен незамедлительно создать подходящие условия и отправить на небеса Корнева, своего нынешнего консультанта по твоему будущему мировому бестселлеру. И сделаешь это при помощи вот этого флакончика, — Тверье извлекает их бокового кармана пиджака коричневый флакончик и ставит на стол.
Старовойтов угрюмо молчит.
— Ты знаешь, Глеб, эта нынешняя ситуация с Корневым напоминает мне технологию убийства в послевоенные годы известнейшего публициста и писателя Ярослава Галана, — с сатанинской ухмылкой продолжает Тверье. – К тому тоже ходили консультироваться по литературному мастерству два университетских студента из наших. А потом по команде пришли к нему домой и топориком прикончили. И не стало Галана!
— Я этого не сделаю! – твердо произносит Старовойтов.
— Как это не сделаешь? – недоумевает Тверье.
— Я не стану ритуальным убийцей Корнева! – жестко отвечает Старовойтов.
— Ты осознаешь, что говоришь? – восклицает Тверье. – Располагая такой вот суперинформацией и отказываясь выполнить наш приказ, ты автоматически подписываешь смертный приговор себе, так как представляешь угрозу разоблачения нашего движения. Да и вообще ты слишком много знаешь! Естественно, после этого тобой займутся наши «кошерные чистильщики», которые медленно выцедят из тебя кровь по капле. И мы видимся в последний раз. А в отношении Корнева задание будет выполнено. Такой запасной вариант у нас предусмотрен. И его выполню с радостью я вот этой «Береттой»! – восклицает Тверье, вытаскивая из-под пиджака пистолет.
Старовойтов молчит.
— Но у тебя еще есть шанс согласиться и сохранить себе жизнь! – говорит Тверье, разливая коньяк в фужеры.
— Я уже все сказал! – уверенно произносит Старовойтов.
— Тогда я должен доложить! – бросает Тверье, подходит к телефону и набирает номер.
Старовойтов - неподвижен.
— Я! – говорит Тверье в трубку. – Первый вариант отпадает. Выполняем операцию по второму варианту. – Тверье берет аппарат с длинным шнуром, уходит в прихожую и оттуда доносится его приглушенный голос: — Старовойтов на месте. Я звоню от него. Действуйте!
Старовойтов быстро открывает коричневый флакончик и плещет в фужер Тверье.
Через секунду Тверье возвращается в гостиную и, плотоядно потирая руки, кричит:
— Ну, что, Глеб Старовойтов, по последней в этом мире?
Тверье подходит к столу, берет свой фужер, начинает жадно пить и медленно оседает на пол, роняя фужер.
Старовойтов смотрит на Тверье, слышит в прихожей резкий, длинный звонок, выплескивает остаток жидкости из коричневого флакончика в фужер и спокойно пьет.
Милашевич в гостиничном номере-люксе Фаины Зиновьевны.
— Вот такая, Фаина Зиновьевна, оперативная информация о смерти Тверье и Старовойтова, — произносит Милашевич.
— Случившееся – это знаковое событие для нашего движения, — говорит Фаина Зиновьевна. – Человек нашего племени, всю жизнь посвятивший неустанному, остервенелому приобретательству и жированию на доверчивых аборигенах, и взлелеянный ветераном нашего движения Тверье, под воздействием нескольких доверительных бесед с Корневым неожиданно прозрел, переродился и, естественно, стал нами неуправляем. А это значит, что наша технология покорения России и наш интеллектуально-идеологический базис при реальном столкновении с русскостью терпит крах и надо что-то радикальное в этом направлении срочно предпринимать.
Матвеев выходит из здания редакции газеты. Навстречу ему идет Корнев.
— И что там выяснилось в прокуратуре! – спрашивает Матвеев.
— В частной квартире Старовойтова обнаружены отравленными Тверье и Старовойтов, — говорит Корнев. – Почему это случилось – пока ответа нет.
В.И.Цеков
Свидетельство о публикации №121020504906