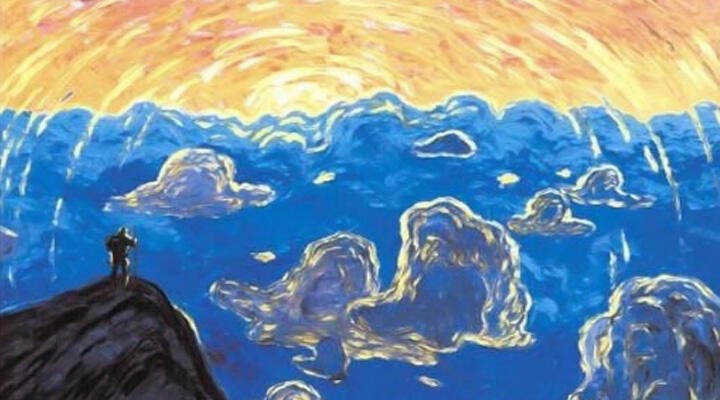93. Тетради - отклики
С. Вейль. Тетради.
Нам "повезло" и нас миновала проказа, и мы вовсю пользуемся телом для того, чтобы закрываться от света. И как хорошо получается! Это наше новое искусство.
А смертные грехи мы положили в могилу бога в тот час, когда он умер - это не наше.
"Так может быть лишь начиная с определенной точки. Кажется, образ Пещеры это нам и показывает. Сначала это движение, которое причиняет боль. Когда добираются до устья, там свет. Он не только ослепляет, он причиняет боль. <Сами> глаза бунтуют против него".
С. Вейль. Тетради.
Напоминаю, что в пещере живут либо боги, либо узники. Ты живёшь в пещере? Тогда сам ответь кто ты? Бог или узник?
Ну а может быть ты не живёшь в пещере и у тебя всё окей и проблем нет? Тогда можешь не отвечать кто ты - за тебя ответят другие, ведь так всегда и происходит, не правда ли???
"Всякое преступление есть перенесение зла с того, кто <его> совершает, на того, кто его претерпевает. В беззаконной любовной связи так же, как в убийстве. Когда имеется равное количество зла в одном и другом, преступление сводится к насилию или плотскому осквернению.
Аппарат уголовного судопроизводства за века контакта со злодеями настолько загрязнен злом, которое не компенсируется каким-либо очистительным началом, что приговор очень часто переносит зло карательного аппарата на приговоренного — даже в случаях, когда он виновен и наказание не является чрезмерным. Одним только ожесточенным преступникам карательный аппарат не может причинить зла. Неповинным же он приносит ужасающее зло.
Когда происходит перенос зла, производитель этого зла не избавляется от него, а лишь увеличивает у себя его количество. Феномен умножения. То же самое при переносе зла, осуществляемом не над людьми, а над предметами.
.
Итак, куда девать зло?
Нужно \вывести\ перенести нечистую часть нас самих в часть чистую — если мы вообще ее имеем, величиной хоть с точку, — преобразуя ее (нечистую часть) в чистое страдание. То преступление, которое мы носим в себе, надо совершить над собой самим".
С. Вейль. Тетради.
Как пресечь зло, распространяющееся по цепочке? - Симона рискнула и поставила такой вопрос. Но ответ её был не только таков, чтобы обратить зло на самого себя и не распространять дальше. Был и другой ответ, написанный ею в другом месте тетрадей - прекратить карать за преступления. Итак, было два ответа. И только вместе они и являются верными. Двигаясь от одной точки, мы не получим "нарастающее равновесие", наоборот, наша задача, двигаясь одновременно из двух точек, то есть двигаясь изначально уравновешено, пытаться слить их в одну точку, которая теперь уже станет и всем объёмом.
Если мы сделаем ставку только на внутреннюю борьбу человека, а всеми внешними материальными силами станем на него давить, распространяя на него зло сверх всякой меры, то мы не получим желаемого, мы получим либо погибель человека, либо его надлом. Нельзя просить его обращать зло на себя, когда вокруг итак всё зло обращено на него самого и ему, чтобы хоть как-то уравновесить эту тяготу, приходится как раз не думать о себе, а защищаться так, как он может.
Опять же, если мы просто перестанем наказывать за преступления и смягчим все наши приговоры, но не создадим для человека "условий понимания" того, что его преступление вовсе не невинная шутка, то мы как общество, как некое единство рассыпимся.
Нам нужно начинать одновременно с двух концов, и начинать так, чтобы каждая из этих двух точек устремлялась к другой, видя её как реально достижимую перед своими глазами. Преступник больше не карается так жестоко не потому что у общества нет больше здоровых сил защищать самого себя, а потому что он самим процессом наказания подводится к "осознанию". То, что всё это не фантастика доказывают уже сегодня тюрьмы в Норвегии, где преступники живут лучше, чем обыкновенные дети в Зимбабве. Мы уже сегодня достигаем каких-то таких точек, с которых видно как это возможно.
Труднее, конечно, разглядеть внутреннюю борьбу со злом. Как она происходит нам рассказывает литература и философия. Вернее, обе они подсказывают нам что-то про это, подсказывают как могут.
Но то, что культура и всё лучшее в человеке призваны как раз к этой задаче - нет сомнений. Культура это крепость человека, созданная им в борьбе против зла. Значит, внутренняя борьба со злом является первичным фактом Культуры - её архэ. Не картина, не стихотворение, не текст, а человек, сам человек прежде всего воссоздаётся культурой в лучшем своём образе. В её кузнице сотворяется - "я другой", перескочивший через барьер зла.
Именно в этом плане боялся культуры Ницше, усматривая в ней ослабление диких инстинктов человека. "Этак мы вообще забудем что такое зло" - говорил Ницше, глядя на современных людей. Чего же он боялся? - Счастливого состояния человечества? Да. Он боялся "только добрых людей" и здесь, вместе с Ницше мы впервые подходим к по-настоящему трудному вопросу. Возможно ли не выродившееся состояние человечества, если оно больше не будет знать зла?
Ницше видел, что процесс "одобрения" человека, становление его "добрым животным" протекает выхолощенным образом - люди в буквальном смысле слова превращаются в кастратов, которые не грешат совершенно понятно почему. А как надо? Или - как возможно по другому? Ницше всё время задавал себе этот вопрос. И он пытался нарисовать образ сверхчеловека, включившего в свою мощь все природные "злые" инстинкты как преобразованные божественные. То есть Ницше хотел показать, что в двуполярности "животное-человеческое" у нас нет выхода и исхода, с чисто человеческим мы окажемся только кастратами и что поскольку "Бог умер", то мы сами должны стать богами - не объявить себя таковыми, а стать. Заратустра - это процесс становления человека - Богом (сверхчеловеком). Это страшная метаморфоза трудного перерождения - страшная и светлая одновременно.
Но может ли всё человечество идти путём Заратустры?
Свидетельство о публикации №120121908561