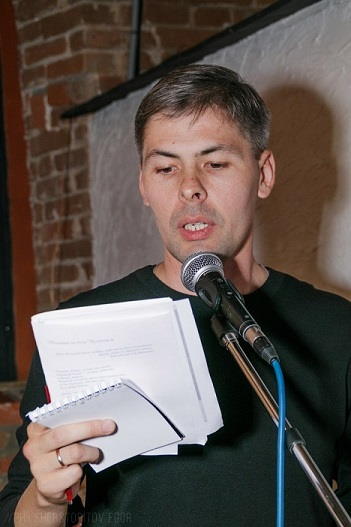Мистический город Павла Блюме
Поэтический сборник «Город»
Эта книга лирики Павла Блюме называется «Город». Но все там не так просто и совсем не так, как можно предположить неискушенному читателю. В его «Городе» будет много, очень много тайн и загадок, и мифов.
Мифотворчество для поэта дело почти привычное, для филолога – тем более, но всегда ли мы пользуемся обширным этим материалом? Павел пользуется в полной мере и мифами античными, и мифами литературными, а прекрасно ориентируясь в них, он и сам становится творцом мифов новых, неведомых пока миру, но порой они рождаются у нас на глазах, и это одна из важных черт литературного творчества и поэзии в частности.
Совсем недавно мы были на свидании с Пушкиным. Я говорю о его книге «Дуэль», и там центральным персонажем был Пушкин, мы встречаемся с гением до дуэли, во время и после дуэли.
Случайность ли это? Скорее закономерность, ведь так как знает и любит и чувствует его Павел, сегодня вряд ли кто-то способен почувствовать и написать, а это очень важно в современной поэзии, более склонной к мифам серебряного, а не золотого века. И для этого есть несколько причин – эта поэзия была открыта и стала называться «возвращенной в пору моей юности, она ближе нам по времени, а это тоже важно для восприятия. Золотой век остался на приличном расстоянии. Да, Пушкин - наше все, но так ли хорошо мы его знаем?
Помню, как обрушился на нас в ЦДЛ Н. Эйдельман - великий Пушкинист в юбилейный год, когда литераторы обсуждали Десятую главу «Евгения Онегина», дописанную поэтом и историком Андреем Черновым.
С высокой трибуны дома литераторов Мэтр кричал о том, что мы не знаем и не хотим знать настоящего Пушкина, хотя имя его у всех на устах, но это самообман и праздное любопытство, недостойное великого поэта. А ведь там собрались историки, филологи и поэты, и слова его прозвучали горьким упреком.
Думаю, о Павле он так вряд ли смог бы сказать, если бы прочитал его «Дуэль», и может быть он стал бы оправданием для нас для всех тогда, как знать?
Но в «Городе» перед нами совсем другая панорама – это мифическое полотно от древних греков к европейским мифам и знаковым произведениям Скандинавских поэтов, что меня поразило еще больше, не ожидала их встретить тут. И это пестрая, яркая, неповторимая картина города древнего и современного, в котором порой угадывается Париж, Лондон, Венеция или Омск.
У него возникают совершенно разные города, но как много в них общего как раз в мифическом плане. Ведь это и особый уклад жизни, и состояния души горожанина, и противостояния природе, куда городской житель выбирается не так часто, как нам всем хотелось бы, а потому он отгорожен от нее порой глухой стеной, и теряется связь с природой..
Уже в «Дуэли» книге Павел четко выстраивал последовательность стихотворений, складывая пазлы лирических текстов так, что рождалась неповторимая картина, поэт творит, выверяя алгеброй гармонию.
На этот раз мы с вами проходим путь от героев Эллады до скитальцев 20 века, любуясь в финале книги голубем мира Пикассо.
Каждый образ, возникающий в тексте, - это определенный знак, отдельный кусочек вселенского мифа, бытующего то ли в современном, то ли в древнем граде, где случайно, (а в мире не бывает ничего случайного), оказался лирический герой.
Кстати, это тот случай, когда, как и у Блока, понятие Лирического героя оправдывает себя. Герой стихотворений - это не совсем автор, а часто и совсем не автор. Даже в лирических стихотворениях, где появляются он и она, любимая девушка вдруг меняет очертание и становится то Сольвейг, то самой богиней Афродитой или Беатриче, как это было прежде, ведущей поэта по небесам рая, ведь любовь «движет солнце и светила». Миф о Прекрасной Даме живет в сознании и душе поэта, и он очень органично вписывается в контекст повествования. А ведь именно сегодня, 28 ноября ровно 140 лет назад появился ее творец Александр Блок…
Но давайте заглянем в книгу, как она строится и развивается. Все начинается с греческой мифологии, любимая всеми нами, она начинается у Павла с истории аргонавтов
Всё начинается с Арго,
А завершается – Колхидой* .
Гермесов жезл, судьбой увитый,
что перепутье двух дорог.
И если центральным мифом у греков всегда остается Троянская война, то Павел начинает поэтические мифотворчество с Аргонавтов. Это книга путешествий через весь мир на окраину- в Колхиду, чтобы раздобыть волшебный предмет и испытать себя. Это анти героическое путешествие, потому что боги, чародеи и женщины помогают герою, который сам мало что может, и наверняка погиб бы он, если бы не Медея, не Цирцея и не Афродита, призванные ему помочь пройти все испытания.
В то время, когда и Ахилл, и Агамемнон сражаются за самую прекрасную из жен при помощи меча в первую очередь, Язон странствует по свету, чтобы исполнить волю царя и добыть себе царство.
Я не случайно подчеркиваю эту особенность мифотворчества поэта – вся книга «Город» станет таким вот путешествием современно Язона по городам и странам. Странствия сопряжены с потерями и обретениями на пути к своему золотому руну – магическому предмету, дающему право на власть и любовь. Таким вот руном в данном случае станет, конечно, поэтическое слово, все то прекрасное, что удалось добыть в этом путешествии герою.
Если говорить о теме путешествий по свету, то вспоминаются главные герои литературы золотого века, так любимой Павлом. Они либо возвращаются из путешествия, как Чацкий, либо отправляются туда, после разочарования в любви, как Онегин, либо подобно Чичикову остаются в этом состоянии на протяжении всего повествования, переезжая из одного града в другой. Это состояние души – «стремление к перемене мест». И необходимо оно для того, чтобы на мир посмотреть и себя показать, как мы знаем еще из сказок…
Для автора итогом такого путешествия становится цикл стихотворений - плод трудов его, и сотворение новой мифической реальности как итог.
Миф- то древнее творение, известное каждому из нас до знакомства с текстами поэта. Мы знаем хотя бы основные мифы, вписанные в филологический контекст. И что же интересного и нового появляется у каждого автора, к ним обращающегося? Конечно, угол зрения на общеизвестное, тот эпизод, который он выбирает для себя, как точку опоры, это трактовка, только ему присущая. Так чужое становится своим, если удалось сделать открытие, и не становится, если этого по какой-то причине не случилось.
Все о чем я сказала выше, у Павла умещается в 16 строчек третьего стихотворения в сборнике, его по праву можно назвать программным
О лирике, о самом важном,
мне написать теперь дано, когда в
вечернее окно глядит ко мне
стоглазый стражник.
Гермесом быть ли мне заблудшим,
когда на улице темно?
Водой разбавлено вино,
что будущее – днём минувшим.
Опять пишу о самом грустном
среди людей, среди богов,
когда и месяц в цвет рогов всё
светит, обнажая чувства.
О лирике, о ней и только,
когда портрет твой на столе.
И память-слепень жалит больно
среди скитаний по Земле.
Кроме того, что оно и на самом деле нам многое поясняет, приоткрывает тайну поэтики, здесь есть две важные детали: образ поэта – вестника богов (Гермес). Он все-таки в значительной мере отличается от традиционного пророка Пушкина и Лермонтова, и вторая – явный отсыл к серебряному веку
Когда портрет твой на столе
- это конечно. Блоковское « когда твое лицо в простой оправе передо мной стояло на столе».
Так и соединяется это громадное пространство от античности до века 19. Что случилось с Прекрасной Дамой Блока, мы все с вами знаем, то, что случится с лирической героиней Павла, нам только предстоит узнать. И смею предположить, что там все будет немного иначе, ведь он не переписывает историю первого поэта эпохи, он пишет свою собственную историю жизни и любви.
А между тем, лирический герой вместе со своей возлюбленной переносится во Францию и теперь она похожа на самую очаровательную француженку с полотен Ренуара
Когда на тёмном небосклоне –
лишь луч зари,
ты улыбалась мне спросонья,
как Самари*.
Мне повезло больше многих, я помню прекрасное стихотворение Игоря Царева, обращенное к этой героине, да и картины Ренуара очень люблю.
Но найдите отличие там и здесь:
Судьба выводит вензеля,
Но что вам сказочный сезам,
Когда в друзьях Эмиль Золя,
Тулуз-Лотрек и Поль Сезанн,
И ваш непризнанный талант
Затмил над Сеной фонари.
Сидит у краешка стола
Красотка Жанна Самари.
Она весьма удивлена:
Вы не подняли головы,
Вам безразличен вкус вина,
Но интересен цвет травы...
У Игоря Вадимовича, как часто у него бывает – это взгляд со стороны на художника и его модель – это психологический портрет живописца. Творец всегда очень отличается от простого смертного. У Павла это очень личное, обращение к прекрасной даме. И судьба творца – художника для него не так занимательно, зато натурщица великолепна, ею он и любуется.
А путешествие между тем продолжается, вокзалы и поезда переносят его в таинственную Норвегию в мир Ибсена, где царят Пер Гюнт и его Сольвейг. Мы знаем, что вторую жизнь яркую, необычную поэме, ставшей литературным мифом, дал гениальный композитор Григ. А воскрешает снова , возвращает в поэтический наш мир Павел..
Любовь, любовь, тебе ли невозможно
преобразить Пер Гюнта и Сольвейг?
Когда на город, ритмом пятисложным,
нисходят одиночество и снег.
Незаметно и изящно мифическая героиня превращается в Нору из «Кукольного дома», соединяя миф с реальностью. Но в дальнейшем эта чудесная сказка с ее троллями и путешествием в путешествии все-таки побеждает заснеженную реальность…
Пер Гюнт ушёл, и время
преобразилось вдруг
под северные песни
среди домов и вьюг.
По воле поэта в Норвегии мы задерживаемся надолго, но в этом есть что-то прекрасное и удивительное, когда еще представится такой случай?
Примерно в середине сборника мы возвращаемся в реальность, узнаваемую для каждого омича, это наш с вами город, только здесь есть такой забавный, немного странный памятник другому герою, жизнь и судьба его давно стала литературным мифом.
У ТЮЗа вечно скачет Дон-Кихот,
разменивая время на пространство.
Жизнь – это смесь трагедии и фарса,
где сердце человека, что архонт!
И возникает в памяти памятник - примета нашего времени и нашего города, но опять же в тексте это и так и нет, потому что тут же появляются и древние драматурги, и Харон с Ахиллом. Наверное, не в одном современном тексте настоящее и далекое прошлое так не сходится на символическом перекрестке времен, как в этом сонете. И мы вместе с ЛГ отправляется в то самое бесконечное странствие по временам.
Откуда эта тяга к путешествиям у современного поэта? Скорее всего, она возникла из второй части «Фауста», где герой проходит все города и страны, возвращаясь к началу творения, и сам пытается построить свой мир. Смею предположить, что Гете – один из главных литературных ориентиров для Павла, хотя явно этого нигде не указано, но чувствуется в более широком контексте его стихотворений.
Лирический цикл, а смею отнести все стихотворения именно к циклу, как говорил Александр Блока, строится по принципу звездного небо, где каждое стихотворение – отдельная звезда. Но если мы хотим увидеть всю картину. то одного стихотворения мало, они все дополняют эту картину, появляются новые смыслы и рисунке и на общем полотне и в каждом из стихотворений. Именно так над своими сборниками работает и Павел, это очень интересно и увлекательно.
Путешествие героя заканчивается в любимом городе Бродского в Венеции, и в этом тоже есть своя прелесть и очарование. Наверное, все дороги приводят в Рим любого смертного, но не поэта, с поэтом все и всегда не так.
И в среду всё обычно, только в мире
тебя не стало, будто бы этрусков.
Сегодня я в Венеции впервые и
гондольер поёт уже по-русски.
И плачет мост Риальто между строчек...
На этом всё. Бессмертие. И точка.
На этот раз путешествие наше заканчивается, но мы все прекрасно понимаем, что оно продолжится, а вот каким будет, пока никакой пророк не сможет нам предсказать, до тех пор, пока не появится новая книга. А зная, как Павел умеет выстраивать свои сборники, можно предположить, что это будет нечто новое и это совсем другая история.
Путешествие в золотой век, путешествие по временам и странам и творение мифа нового времени уже было.
Могу признаться честно, не думала, что творения Павла глубоки и интересны настолько. И это открытие для меня лично невероятно приятное, особенно в таком тяжелом для всех нас, часто фатальном 2020 году, когда сиюминутное явно затмевает вечное, он остается поэтом не только в реальности, но и в вечности, размышляя и о прошлом и о грядущем.
Мэтры наши часто утверждают, что филологическое образование скорее вредит, чем помогает стихосложению. Но лично мне кажется, что все как раз наоборот, и Павел это доказывает на протяжении длительного периода, новая его книга, только что появившаяся, называется «На белом облаке», и туда надо обязательно заглянуть в ближайшее время.
У нас с вами есть прекрасный поэт, одна книга могла быть случайно хороша, две – это уже закономерность, очень приятная закономерность.
И мы отправляемся в новое путешествие…
Я– голубь мира Пабло Пикассо,
несущий в клюве веточку оливы. В Гернику
я за несколько часов примчусь на
крыльях. Сяду там счастливый
на деревце, сожжённое войной,
у дома, где жила когда-то мама,
У дома, где я встретился с женой –
голубкой белой на оконной раме,
которой и в помине нет сейчас,
как впрочем дома, города, планеты...
Я– голубь мира, я – его каркас,
лишь перьями и плотию одетый.
Зачем мне крылья, сердце и душа,
когда сожгли родную голубятню?
Я – голубь мира, жизнь карандаша,
бумаги откровенье и проклятье.
Я – голубь мира Пабло Пикассо,
Христос меня назвал «простою птицей».
Художник написал моё лицо,
похожее на все земные лица.
Свидетельство о публикации №120112805314