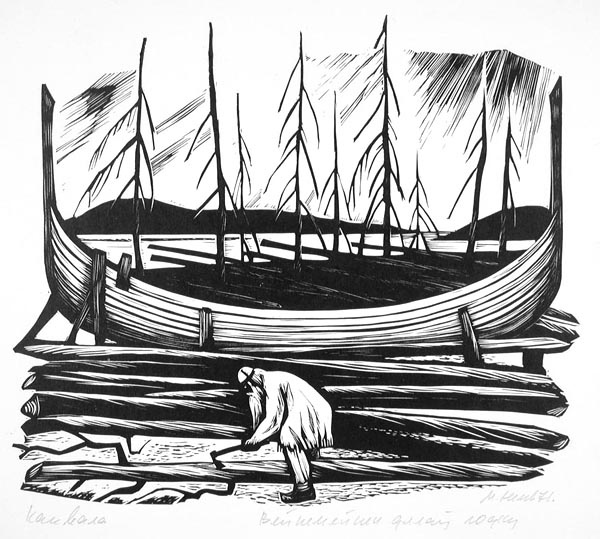Вяйнемёйнен должен умереть
Не достал я их на свете…»
(Калевала, руна XVI)
Именно этой любовью,
Именно этой страною –
Как стамескою строю,
Выдалбливаю каноэ.
Языком этим белым,
Как зимнею лапой,
Заклинанье всколело
Над осиной горбатой.
Этот край, эта лодка,
Выводимая звуком –
Невидимая плётка –
В вымерзающий купол.
Разверзающей струи,
Оглашающей воду
Из осины и туи
Вырубаю колоду
Кипарисом и пихтой
Выстилается днище
Луч на лезвии вспыхнул
Моего топорища –
Неба свиток разомкнут
Ослепительно-синий –
Не садись в эту лодку! –
Говорит мне осина
Не вымётывай невод,
Не вышаривай бреднем,
Не проймёт пока темя
Три слова последних
Не прольёт пока в думы
Эта троица звуков,
Не раскроется Юмо,
Не уймёт тебя Укко!
Не наладится лодка,
Не раззявится невод,
Не надсадится плётка
О холодное небо!
Что бы ты ни прочёл
Заклинанием дивным –
Кипарисовый чёлн
Стал твоей домовиной
Застывай по краям,
Останавливай пенье –
Опускайся к камням,
Увлекайся в подземье
Обмеревшей водой
Без стремнин и коленец –
Побелевшей зимой
Обернись, рунопевец!
Отвечаю я ей:
Ты, иудина плаха,
Что просить у камней
Мертвецу среди праха?
Что искать среди льда
и застывшего пенья?
Чем же дышат тогда
Кораблей устремленья?
Под горячей женой
Этот челн оживает,
Не погибший – живой
Заклинанья слагает!
Под судьбой и страной,
Среди царства земного –
Обращуся волной,
Отыщу я три слова.
Говорила в ответ,
Трепетала листами:
Не отыщутся, нет
И твоими не станут!
Укрепленье судам,
Направленье следам,
Устремление водам –
Не приметой, а вне –
Не на этой земле –
За её небосводом.
Потому – обмереть,
Одному умереть,
Чтоб настроилось ухо.
Отворилися гробы,
Обратилося чтобы
Песнопение слухом.
Говорила дрожа,
Над могилой шурша,
Шелестела печально.
Из осины и туи,
Оживляющей струи,
Чёлн выстругивал Вяйно.
(20-23.10.2020)
* * *
Комментарии и обсуждения:
Вяйнемёйнен (Вяйно) – "вековечный прорицатель", заклинатель, рунопевец, первый человек, первый поэт и шаман, хитроумный богатырь, главный герой карело-финского эпического сказания, составленного из разрозненных народных эпических песен (рун) в XIX в. финским филологом Элиасом Лённротом.
Вяйно был рождён от девы воздуха, богини Ильматар 30-летним мужчиной и в сказаниях действует в облике белобородого, но могущественного словами старца.
В карело-финской мифологии и магической традиции все важные дела (создание мира, вещей, отношения между людьми, сражения) творятся пением заклинаний. Поэтому фигура поэта, знающего и поющего "вещей происхожденье" очень важна.
(Микро)поэма «Вяйнемёйнен должен умереть» - переосмысленные 16-я и 17-я руны (песни/главы) «Калевалы». Элиас Лённрот, в свою очередь, уже переосмыслил в своей "Калевале" народные руны о странствиях и изготовлении лодки Вяйнемёйненом.
(Микро)поэма не идёт строго по канве содержания этих рун, не пересказывает их: автор взял главное и развил, аналитически и метафорически добавил, создав фактически новое по содержанию произведение.
История Вяйно в (микро)поэме - это рассказ о том, как поэт не может завершить своё дело, поскольку имеющихся словаря и поэтики всегда недостаёт для этого. Поэма «Вяйнемёйнен должен умереть» – размышление об этих рунах, первом и современных поэтах. Под "вещим песнопевцем Вяйнемёйненом" имеется в виду поэты вообще.
В своём составе она использует старые поэтические жанры – заклинание, заговор, предсказание, ритуальный диалог и перебранку. Сама "Калевала" насыщена ими, то есть не состоит просто из отдельных эпических песен. И в этом смысле «Вяйнемёйнен должен умереть» – также преобразованный мимезис "Калевалы", хотя поэтические размеры выбраны другие, не калевальские.
Помимо Вяйно в (микро)поэме действуют или упоминаются некоторые другие персонажи мифологической вселенной финских народов – говорящие деревья и божественные персонификации говорящего неба – Укко и Юмо (Юмала).
Пояснения по фольклорно-мифологическому содержанию:
16-я и 17-я руны «Калевалы» повествуют о постройке лодки (с помощью слов) и поиске последних трёх недостающих слов. Именно эти три последних слова должны скрепить и запустить лодку, однако нужных слов не оказывается нигде в мире. Слова для лодки Вяйно ищет на земле и под землёй: сначала он их пытается найти у себя, потом – в окружающем мире (прежде всего в мире природы – ищет их в зобу летнего оленя, в лопатках лебедей, в горле у ласточек и пр. – то есть во всём, что издаёт живые звуки).
Затем он пытается найти их у мёртвых, проникая в Калму – на остров умерших Маналу. Жившие раньше и могучие духи Калмы могут знать много таких слов, которые уже утрачены. Однако у мёртвых Вяйно ничего не находит, и ему с трудом, используя шаманские умения, удаётся унести оттуда ноги.
Недостающие слова (вместо трёх оказывается множество) он находит, проходя, как Иона, поглощение (метафорическая трансформирующая смерть, в христианской средневековой мистике - "тёмная ночь души") архаичной первостихией.
В 17-ой руне в роли этого архаичного пра-человеческого коллективного бесссознательного выступает древний заснувший, почти умерший гигант, который оказывается более древним заклинателем и певцом первого знания, чем сам Вяйнемёйнен.
Меня спросили: «Почему Вяйно ищет именно три слова?»
– Как специалист по мифологии я думаю, что это такой вариант мотива о минимальной, но важной недостаче, из-за которой – онтологическая, экзистенциальная, вечная неполнота всякого дела человека. В том числе – несовершенство, незавершенность любой речи, в том числе, конечно, поэтической.
Мотив минимальной, но важной, магической недостачи в фольклоре может выражаться через мифологию чисел.
Здесь может часто фигурировать единица: для целостности, для завершения не хватает всего лишь одной маленькой частички, и всё дело, почти доведённое до конца, разваливается. Или под конец происходит один просчёт, один недочёт, одна ошибка. Человеку приходится вновь приступать к своему вечному труду с самого начала (варианты мотива о сизифовом труде).
Образ не единицы, а тройки усиливает семантику ситуации: не просто недостаёт малости, но эта малость сама по себе – очень важная целостность, а не просто какие попало слова. Такими вожделенными, но не обретаемыми тремя, почти магическими словами в разных ситуациях / традициях могут быть разные сочетания слов, например: "Я тебя люблю", "Пребудет сила (с)тобой", "(Во имя) Отец, Сын, Святой Дух" и пр.
То минимальное магическое, что в человеческом разумении предстаёт как тройка, в результате оказывается необозримым множеством, из которого Вяйно что-то себе и заимствует. После этого ему удаётся построить лодку – этот магический артефакт (символ устремлённости, движения смысла, понимания), который необходим Вяйно и его соратникам для дальнейших свершений.
Мне заметили: «Карелы же поздно приняли христианство, может быть ожидание трёх слов и есть предчувствие триединого бога».
– Числовая символика (эти единицы, тройки, дюжины, шестёрки, семирицы), символика лодки, сети и мн. др. – не только в христианстве, но существует параллельно во многих мифологиях. Христианство, естественно, для выражения своей вести использует старые, хорошо известные всем мифологические языки, но добавляет новые их толкования, понимания, переосмысляет, расставляет новые акценты и пр.
Если бы оно не пользовалось старыми мифологическими мотивами, прежними, широко известными образами, символами, его бы никто не воспринял.
Да и ситуация, когда бы кем-то был создан совершенно новый мифологический язык, трудно представима.
На этом факте широкого распространения в разных мифологиях примерно одних и тех же "кирпичиков" (образов, символов, мифологических и фольклорных мотивов, но в вариациях) основана целая наука – структурно-типологическое исследование фольклора и мифологий – то, чем занимаются последователи С.Ю.Неклюдова в РГГУ, например. Разными средствами, например, как у Ю.Е. Берёзкина, картографирование и выявление миграций людей и мотивов. Или – указатели мифологических, сказочных мотивов – международные (ATU, например) или по отдельным национальным мифо-ритуальным системам.
Свидетельство о публикации №120102703853