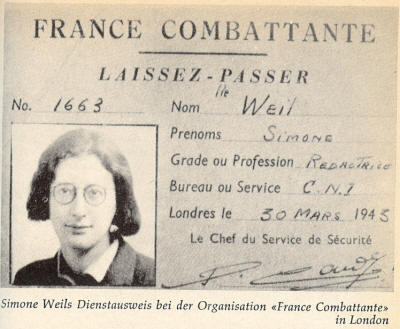17. Тетради - отклики
С. Вейль. Тетради.
Созрели - значит не могу не писать, не говорить. Не могу молчать. До этого или без этого - не созрели.
Пытаться выразить свою мысль потому что "надо" или по просьбе - почти всегда насилие. И даже если после этого нас узнают (талантливый педагог, умный человек, друг) - всё равно не происходит нашего самостоятельного освобождения. Всё, чего мы можем таким путём достичь это убедиться, что мы немы, а наши мысли не зрелы. Невесёлое приобретение. Между тем, у нас всё-таки есть "наши мысли", которые мы бы хотели сказать, но есть и предубеждения, что они не к месту и не о том и не так. Надо отказаться от попыток быть умным, попадать в струю и выглядеть более-менее и перешагнув через это - пытаться говорить именно свои мысли. В противном случае, мы останемся навсегда замурованными между недоставшими словами и мыслями.
В общем, верный ориентир лишь один - на внутренний позыв, толчок мысли, на интенцию что-то сказать и тогда надо говорить, прыгать и не бояться, потому что полностью молчать нельзя - мысли "стопчутся" на одном месте - в конечном счёте не умеющий говорить или в крайнем случае писать не умеет и мыслить. А молчание, которое принимают и признают за ум - это другое молчание, это молчание человека уже способного хорошо говорить и мыслить, не спутайте то молчание и это.
"Две ордалии для мыслей — выражение и сомнение, т. е. полное молчание всей души в течение короткого промежутка времени. Вторая — намного выше первой".
С. Вейль. Тетради.
Внутренние весы, обратно развитое чувство "ценности", глубины. Не бывает без внешней развитости самовыражения.
Мысль остаётся не воплощённой здесь и сейчас, но продолжает жить внутренней формой - это совершенная мысль, производящая своё действие вовнутрь, а не наружу - то, что изменяет наше бытие.
Но мысль, не прошедшая стадию самовыражения не способна саму себя уловить и пережить таким образом.
То же самое, приблизительно, происходит и с чужими цитатами - если они принимаются и узнаются, они падают камнем на дно ( с той лишь разницей, что собственные мысли падают глубже и надёжнее), если же не узнаются как "зрелые" по бытию, то вызывают возражения или вопросы, то есть тягу ко внешней их доработке.
"Я так остро чувствую зависимость большого от малого (например, какая-нибудь оплошность при перевозке может испортить совершенно гениальную картину) — и, однако, пренебрегаю тем малым, от чего может зависеть большое. Преступление с моей стороны. Нет, я чувствую эту зависимость далеко не так остро, как нужно".
С. Вейль. Тетради.
К этой самой малой, решающей детали гении ещё только восходят путём тяжких трудоёмких поисков - вот нарисовал Леонардо да Винчи Джоконду и из всей его картины вдруг "выпарилась", "осталась" одна загадочная её улыбка, а из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, скажем, осталось "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты" - и видимо, и значит это и были малые едва уловимые бесконечные детали чего-то большого - улавливаемого и так обыкновенным зрением и на ощупь. Это были те черты, которые мгновенно и целиком охватили целое. Но их невозможно найти "до" построения большего и большого, Симона зря себя упрекает - и жизненные случайности проступают как главные мгновения исключительно через целое.
Конечно, когда их нет - всё сыпется. Но наша задача не найти малое, чтобы подпереть надёжно им большое - тут наши поиски никогда не увенчаются успехом; наша задача - так выстроить всё это большое, чтобы в нём само собой вдруг мигнуло и выстрелило то малое, что мгновенно его сцементирует.
Мне кажется, что малое это чудесная тонкая нить замыкания круга, оно не находится отдельно от большого, а видится таковым лишь когда "отсутствует" - когда нам не достаёт "чуть-чуть" чего-то и нам кажется, что это "чего-то" это малое, мелочь и её можно было бы найти или доставить и приставить к большому, кажется, что мы могли бы о нём позаботиться, если бы знали... Но на самом деле этой мелочи нет, потому что это круг не смыкается, потому что сам большой круг был неправильно изогнут и положен. И у гения хватает сил столько раз положить круг, сколько нужно для того, чтобы произошло чудо и маленькая смычка пробила как молния пустоту. У нас же этих сил не хватает и вот мы, уставшие от падений и не смыканий, начинаем раздражаться и корить себя упущенными якобы "мелочами".
Поэтому желание видеть "малое" вполне закономерно и оправданно, но при одном условии - когда большой круг положен настолько верно, что позволяет нам это сделать.
"«Гита». Те, кто достигли конца зла, свободны от заблуждения противоположностей. Буквально верно. И даже еще не достигнув предела, а когда духовным зрением видят, что этот конец существует".
С. Вейль. Тетради.
В соответствии с подходами Симоны Вейль, зло - конечно и его можно исчерпать. Причём зло конечно настолько, что довольно таки быстро исчерпывает себя как в ту, так и в другую сторону. Бесконечно зло лишь в соответствии со своим смешением с добром. Пока зло смешано, оно длится и длится, но как только появляется сила, способная "очищать" зло от добра - дело принимает быстрый оборот. Так Макбет у Шекспира быстро прошёл весь путь зла и упёрся в его пределы. Гораздо больше задерживается на белом свете тот тиран, который "зацепился" за какие-то островки добра, но если этого нет, то человек крайне быстро ничтожится - как ничтожатся маньяки и серийные убийцы.
Но всё это путь зла во всё большем отрыве от добра в одну сторону - сторону деградации человеческой сущности. Симона же имеет ввиду другой, противонаправленный путь изживания зла - где зло также отделяется и отрывается от добра, чтобы последнее не заслоняло его собой и в таком чистом виде - изживается. Как только конечность зла оказывается исчерпанной, обнаруживается, что благо, как таковое стоит выше и зла, и добра и не подвержено бесконечным противоречиям этих обоих. Более того, именно Благо всякий раз определяет и задаёт им меру.
Основная идея - различить и отделить зло от добра и тогда даже благодаря одному вниманию и пониманию того какое зло в тебе существует - ты уже исчерпываешь и избавляешься от него.
Свидетельство о публикации №120100508597