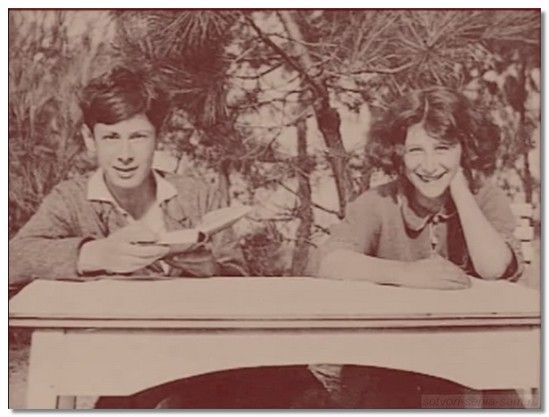8. Тетради - отклики
Следует любить то, что безусловно достойно любви, — но не то, что достойно в одном отношении, а в другом недостойно. (Платон.)
Ничто из существующего не является безусловно достойным любви.
Значит, нужно любить то, что не существует.
Но этот не существующий объект любви нельзя считать лишенным реальности, вымыслом. Ибо наши вымыслы не могут быть более достойны любви, чем мы сами, которые не вымышлены".
С. Вейль. Тетради.
Мы не выбираем людей как вещи, и даже не выбираем их как котят (который нашему глазу приглянулся), мы влюбляемся слепо, потому что мы не владеем собственной силой "есть" и собственной силой "нет". Однако мы можем приближаться к этому источнику, и всё более приближаясь к нему, мы понимаем, что любовь не делит людей на "плохих" и "хороших", а делит их на тех, которые для нас "есть", даже когда они далеко или умерли и на тех, которых для нас "нет", даже когда они присутствуют якобы рядом.
Любовь - крайне избирательна. Но возникает вопрос: как избирает она, а не мы?
Как избираем мы - скучно и известно. А как избирает она? И вот нам становится понятно, что она не избирает по "достоинствам", что достоинства мы сами приписываем или придумываем или же обнаруживаем реально, не в том суть, а в том, что любовь смотрит не на них. Она настолько смотрит не на них, что она впервые делает их возможными, то есть до любви и без любви никаких достоинств нет и быть не может. Любовь - возможность всех достоинств.
Но что же тогда любовь любит, ещё раз спрашиваем - как она избирает?
Она избирает так, что находит не-существующее и делает его существующим.
Не потому люблю, что я - добрый человек, а потому я добр, что я люблю. Любовь - сила "существования - не существования" для всего.
И она обладает настолько мощной реальной силой, что любить уже существующее это не для неё, это слишком слабо, и всякая любовь принуждаемая любить уже существующее - ослабленная любовь. Настоящей любви нужно не-существующее, чтобы превратить его в то, что "есть" и сделать его настоящим "есть", и... не меньше!!!
Любовь - это сила порождающая и не только детей...
Но и нас самих... и того, что больше нас самих...
А если запереть её в клетку и привязать к достоинствам - любви становится скучно, её энергии вянут и окрашиваясь в блеклые тона, подменяются тихо и незаметно более слабосильными чувствами.
В настоящей любви я сама порождаюсь, поэтому когда я туда втягиваю моё "я", которое хочет избирать, я неминуемо любовь предаю. А любовь стремится всеми силами моё это прошлое "я" уничтожить - для нового порождения. Поэтому, любовь - всегда убийца, а я - всегда предатель. И из этого круга выйти мы не можем.
Эрос разит на уровне становления. Он безмерно нищ - у него ничего ещё нет, и безмерно богат - у него всё уже будет.
Любовь - это такое чувство, которое позволяет видеть то, чего ещё нет как то, что уже есть.
"Вера, дар прочтения.
Дар прочтения — сверхъестественен, без этого дара не бывает справедливости.
Понимание высшей реальности, заключенной в том отсутствии объекта, которое и является объектом нашей любви, и прочитывание этой реальности как во всей совокупности объектов, так и в каждом из них по отдельности. Условие послушания, заключающего в себе справедливость.
Вера имеет отношение к прочтению, а милосердная любовь — к силе тяжести".
С. Вейль. Тетради.
Дар прочтения относится к дарам любви, а произвольные прочтения к дарам веры.
Каждый, кто читает - верит; кто читает как Бог - любит.
Зачем мне думать о вере, если есть во мне любовь?
Я была награждена даром прочтения с рождения, но он был несколько отдалён от меня самой и заставлен определёнными вещами - не знаю так ли у всех людей, но саму себя, глядя на себя маленькую, я бы могла обозначить именно так. Всю жизнь я пробивалась к нему (стучите и откроется), и наконец пробилась к его чистоте. Это был поток свободного вхождения и исхождения, дорога по которой идёшь не отклоняясь и не спотыкаясь. Быть может, это когда остаётся между тем, к чему ты прикасаешься или что прикасается к тебе - лишь лёгкая, совершенно прозрачная тень завесы? И ты смотришь в любой момент не агрессивно и видишь всё, что вообще видеть позволено. В общем не отклоняешь и не искажаешь собой никакое видение.
Кажется Декарт добившись такого свободного доступа заявил, что мышление не должно занимать в жизни человека более 3-4 часов. Это так. Но только при условии свободного доступа. Если же его нет, то чтобы пробиться к чему-нибудь приходится думать днями и ночами, пока после тяжёлой изнурительной борьбы (с самим собой?) спустя долгое время не придёт спасительный ответ - и всегда как-будто ниоткуда. Последнее поведение характерно для гениев. Потому что гении решают проблемные задачи человеческого мира.
"Через боль время и пространство входят в тело. Все, что предлагал Сатана, <искушая Христа, > было воображаемым. Богатство, могущество — воображаемы. Воображаемые доспехи <души>. Нагота — есть истина о том, как душа связана с телом. Смертная душа подчинена необходимости. Считать смертную часть души освобожденной от необходимости — ошибка".
С. Вейль. Тетради.
У всех объектов во внешнем мире есть свои пределы - это их отграничения в пространстве или их закономерности (то есть их отграничения во времени)? Как посмотреть. Скорей всего и то, и другое. Объективные отграничения любит изучать наука. Разные науки изучают разные пределы внешнего мира.
Но как нам говорить в таком же смысле о самих себе? Существуют ли границы или "пограничные состояния" у души? Ведь все те границы, которые задаёт душе объективный мир - не совсем её границы, она вынуждена их принять, но сама возможность их принятия говорит о том, что душа - нечто большее. Отсюда и её бунт и её победы.
Гераклит говорил, что у самой души пределов нет - "столь глубок её Логос". Но Симона Вейль считала, что есть своеобразный предел и у смертной души, это пустота. То есть смертная душа не покоряется ничему из внешнего объективного мира, но она своеобразно "заточена" в нашем теле через предел "пустоты". Нашу душу внутри нас окружает и обвивает пустота. Такой сюжет достоин фантастических фильмов. Потому что никто ещё не заточал главного героя в тюрьму, стены которой сделаны из "ничего".
Итак, наши души - свободны от всего во внешнем мире и вольны переходить от одного к другому по собственному желанию и произволу, но как только эти души доходят до самих себя, они доходят до пределов пустоты и останавливаются. Их движение и скорость как бы замедляются, а затем они обратно отбрасываются во внешний мир. Происходит такая игра в тюремщика и надзирателя - где душа надзирает саму себя в своих границах и сворачивает саму себя лишь вовнутрь, будучи не в силах вынести вид собственной пустоты.
Как правило, обычная душа наталкиваясь на пустоту, тут же компенсирует её воображением. Воображение, собственно и есть наряд пустоты - платье, которым прикрывается нагота души.
Какая же душа свободна? - Божественная. Не смертная. Это значит, прошедшая сквозь смерть -пустоту. Пройти через границы собственной тюрьмы - значит умереть и родиться душой вовне.
В тела при рождении помещаются лишь свёрнутые в сами себя души. Задача этих душ - второе рождение. Но редко кто из них выполняет своё подлинное предназначение.
"Понизить себя означает возвысить себя относительно <направления> моральной силы тяжести. Моральная сила тяжести заставляет нас падать вверх".
С. Вейль. Тетради.
Это интересное выражение Симоны "падать вверх" означает, что наше падение как людей возможно не только с высоты духовной вниз на землю, но и обратно - с реальности земной нижней на так называемые высокие моральные принципы. В последнем случае, принимая моральное за более надлежащее, чем реальное - мы также падаем, и в гораздо большей степени обманываясь, нежели в первом случае.
Земля и небо соответствуют друг другу, и не только небо - высота; высотой является и земля - для неба - смотря откуда посмотреть, смотря откуда двигаться. Поэтому невозможно с небес упасть на землю - хотя так и говорят - с небес падают не на землю, а в обыденщину. И опять же, именно обыденщину воспитывают моральными принципами. А земля и небо смотрят на это и плачут по своим "небо" - "земле" - жителям. Человек застревает на середине пути; ведь тот, кто не покорил вершину горы, которую он хотел покорить - тот возвращается не на землю, радостно распахивающую ему объятия, а в свою собственную досаду и бессилие.
Свидетельство о публикации №120092307666