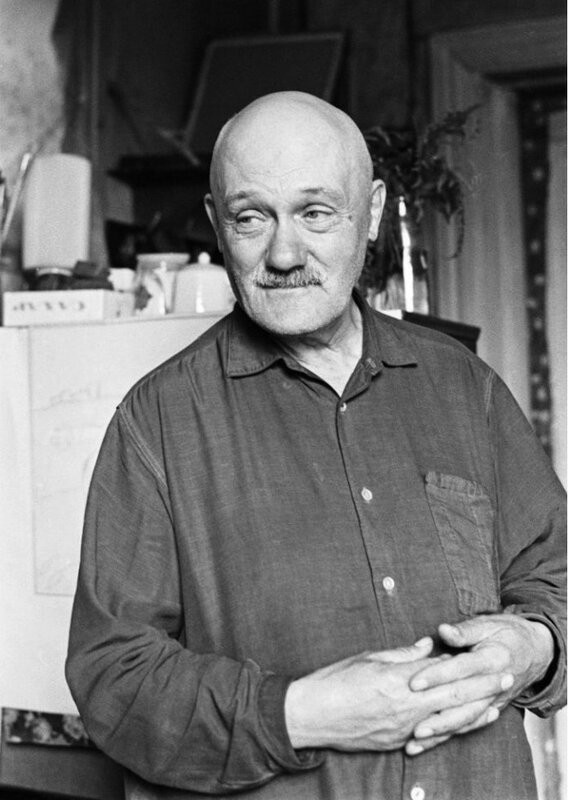Имя на поэтической поверке. Евгений Кропивницкий
Раннее поэтическое творчество отмечено влиянием символизма, но к середине 1930-х годов, Евгений Кропивницкий выработал собственную оригинальную поэтику, сочетавшую классическое стихосложение с гротеском и примитивом.
Называя себя поэтом окраины, отразил в стихах жизнь городских низов, повседневный быт и сознание обитателей пригородных барачных посёлков.
Его своеобразный поэтический почерк, наглядно виден в стихотворении:
«Селёдка»
Засолили жирную селёдку –
Это разумеет всяк, кто пьян.
Хорошо, что выдумали водку…
Господи, нелеп сей балаган!
Если бред всё, если жизнь вся тайна,
Если смерть подстерегает нас;
Если мы до глупости случайны –
Кроме водки, что ещё у нас?
А любовь! О, как она всевластна! –
Этот трепет похоти слепой,
Эта жуть, что так волшебно – ясно
Для рабов мятущихся толпой.
А поэту! – Некуда деваться:
Он орган всей плоти мировой.
Так ему ль в пивной не напиваться,
И ужель он пьяницам не свой?
В те поры, когда изнемогаешь
От любви – постылой маяты –
Господи, ты пьянку оправдаешь,
Господи, и страсть оценишь ты.
Колбаса да жирная селёдка
Государству каждому барыш.
Вот лафа, что выдумали водку!
Пьяницы, кажите трезвым шиш!
1950 год.
Надо сказать, что у Евгения Леонидовича Кропивницкого, талантливо складывались стихотворения, с использованием своего гротескового примитивизма:
«Приезд стервы»
Приехавши, старая стерва,
Жильцов взбудоражила нервы:
Тому на того насказала,
Тому на того указала,
Того на того, натравила,
Того за того обвинила.
Жильцы от сего – возбудились.
Жильцы по сему – матерились.
Жильцов расходилися нервы
От этой убийственной стервы.
1950 год.
Евгений Кропивницкий родился 23 июля 1893 года в Москве. Отец был служащим на железной дороге, мать пианисткой и детским поэтом.
Евгений с детства писал, стихи и сочинял музыку и, конечно, рисовал. К культурной традиции Евгений Кропивницкий имеет прямое отношение.
Его отец, Леонид Кропивницкий происходил из украинской земской интеллигенции. Детство отца прошло в Бессарабии, в юности он работал учителем в земской школе на Украине.
Его близкий родственник, украинский драматург и артист Марк Лукич Кропивницкий, считается основоположником национального украинского театра, он же позировал Илье Репину для картины: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Сам же Леонид Кропивницкий занимался литературой, переписывался с видными литераторами своего времени.
С рождением сына Евгения семья перебирается в Москву, отец поступает на службу на Курскую железную дорогу, и летом семья живёт на даче, в Царицино, вплоть до 1919 года.
В Царицино в то время располагались дачи литераторов, в том числе и Антона Чехова, там бывал Константин Бальмонт, с которым Леонид Кропивницкий переписывался.
Евгений Кропивницкий в 1911 году окончил Императорское Строгановское художественное училище, со званием «учёный-рисовальщик». Его учителями были известные художники Валентин Серов и Константин Коровин.
В 1912-1920 годах жил в Москве, работал преподавателем рисования в школах, в театрах оформителем и гримёром, учился в народном университете факультете Шанявского на факультете истории.
В 1910-х годах занимался композиторским творчеством, написанные им оперные сцены «Кирибеевич» были положительно оценены Александром Глазуновым. Позже, из-за бытовых условий, не позволявших держать дома фортепиано, в бараках было тесно, занятия музыкой прекратил.
На войну Евгений Кропивницкий не попал по состоянию здоровья.
В связи с Гражданской войной, работы не стало, и жизнь была настолько трудной, что однажды художник упал в голодный обморок прямо на улице и попал под машину.
После этого на всю жизнь осталась небольшая хромота. В 1920-1923 годах жил и работал в городах Севера, Урала и Сибири (Вологда, Тюмень), где руководил художественными мастерскими.
Его увлекала тема древнерусской мифологии – изображения «леших», «домовых», «водяных», фантастические сюжеты.
В 1923-1934 года, после возвращение в Москву, вместе с женой Ольгой Потаповой, с которой познакомился в Вологде, жил на станции Лианозово,в бараке, под Москвой. С 1934 года в бараке на станции Долгопрудная, а последние 4-ре года жизни в Москве.
Работал руководителем изостудии в Лесной школе им. В.В.Воровского, преподавал в домах пионеров.
Преподавание оставляло много времени для творческой работы, и он с увлечением писал картины в духе экспрессивного кубизма, а в 1930-е годы перешёл к пейзажной живописи.
Писал в разных манерах красочных и звучащих, ярких, прозрачных, спокойных, трепетных и живых. Писал темперой, гуашью, акварельной пастелью, чёрной тушью, фломастером, сангиной, в технике коллажа, гравюры, монотипии.
Использовал кисти, мастихин, палочки, перья. Направления и темы – от полулубочной древнерусской мифологии, до новой эстетики некрасивости и достоверности.
В 1939 году Евгений Кропивницкий вступил в Московский Союз Художников (МОСХ), но при жизни не сделал, ни одной персональной выставки.
В 1962-ом году, МОСХ предложил устроить Евгению Леонидовичу творческий вечер с выставкой работ. Как члену официального Союза художников, ему полагалась персональная выставка, её и подготовили в 1962 году.
Была проведена подготовка, оформлен и напечатан каталог его произведений и пригласительных билетов.
К несчастью, Никиту Хрущёва повели в те дни на выставку МОСХа в Манеж, посвящённую 30-ти летию образования Союза художников, и там глава супердержавы впервые увидел живопись и скульптуры, не похожи на лучезарный социализм.
Руководитель СССР, будучи не подготовленным к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их творчество, использовав нецензурные выражения.
Никита Хрущёв, с негодованием обрушился на Э. Белютина, на Эрнста Неизвестного, Р.Фалька и других художников и скульпторов, устроил большой скандал.
Этот эпизод является одним из самых ярких в биографии Хрущёва, наряду со стучанием ботинком по столу во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 12 октября 1960 года и другими неординарными проявлениями этой самобытной личности.
Не обошлось и без народных легенд и анекдотов.
Так, в соответствии с одной из легенд, разгром выставки в Манеже начался после того, как проходивший по выставке Хрущёв на мраморной колонне увидел своё отражение.
Но подумал, что это очередное творение художников-формалистов. Он зло выкрикнул:
«А это что за жопа с ручками?!»
Приглядевшись, понял, что это – его лицо, и сразу же ушёл. В соответствии с легендой, именно этот инцидент и повлёк столь жёсткую критику Генсека Никиты Сергеевича Хрущёва.
Генсек Хрущёв, кричал, употребляя такие слова, как «дерьмо», «говно», «мазня». «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует!..
Что это такое? Вы что – мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?»
После знаменитых высказываний генсека, выставка Евгения Кропивницкого не только не состоялась, но его самого исключили из Союза художников «за формализм», хотя его произведений на выставке в Манеже не было.
Миролюбивость Евгения Леонидовича, сам он её называл «снисходительностью», не спасла его от нападений власти.
Евгения Кропивницкого исключили из Союза художников, за формализм, в 1963 году, приписав ещё создание «Лионозовской группы».
Со второй половины 1950-х годов, на самом деле, Евгений Кропивницкий был вдохновителем и идеологом этого творческого содружества.
Вокруг Евгения Кропивницкого сложилась группа поэтов и художников, одни из которых были его прямыми учениками – поэты Игорь Холин и Генрих Сапгир, художник Оскар Рабин – зять, муж его дочери Валентины,дети – Лев и Валентина, и другие испытали влияние его творческих и жизненных принципов.
В конце 1960-х годов с Евгением Кропивницким подружился и писатель Эдуард Лимонов.
Популярность группы привлекла КГБ, установившего наблюдение за Евгением Кропивницким и инициировавшего его исключение из МОСХ в 1963 году.
Именно сотрудники КГБ впервые назвали группу «Лионозовской.
В подмосковном тогда Лионозове, у жившего там зятя ученика Евгения Кропивницкого, Оскара Рабина, по выходным проходили публичные показы картин и чтение стихов, в однокомнатной квартире барака, из 18 кв /м.
Евгений Леонидович водил друзей по окраине посёлка с этюдником и книгой какого-нибудь поэта, и это было настоящей идиллией среди общей серости.
Сюда приезжали Немухин, Свешников, Плавинский, Эренбург, Рихтер,Василий Аксёнов, Борис Слуцкий, Эдуард Лимонов, Евгений Рейн и другие художники, поэты, писатели и музыканты.
Евгений Кропивницкий и «лионозовцы» сделали большой вклад в развитие живописи, минималистской поэзии, всего дальнейшего существования изобразительного искусства и литературы в России.
Название «Лионозовской группы» устоялось, и было позже признано самими участниками группы.
В официальной печати стихи Евгения Кропивницкого не публиковались, за исключением нескольких детских стихотворений, но с 1950-х годов стали распространяться в «самиздате».
Позже стихи печатались за рубежом, первая книга «Печально улыбнуться…» вышла в 1977 году, в Париже, за два года, до ухода автора из жизни.
Евгений Кропивницкий был представителем искусства спокойного сопротивления, молчаливого неприятия, благородной не принадлежности официальной культуре.
Как выжить, не принимая советской власти и не вступая с ней в заведомо гибельный конфликт?
Очень просто: описывать советский быт, как он есть. Евгений Кропивницкий стал певцом «оголённой» действительности. Люди жили в бараках, дрались, пьянствовали и гибли.
В его стихах мир безучастен к жизни человека, каждое явление словно происходит в безвоздушном пространстве.
Как человек, живущий в советской эпохе, он часто описывал быт, и жизнь советских людей с определённой долей самоиронии. Жил в бараке, в посёлке, о жизни в нём и писал:
***
Бесшабашно праздные
Бродят парни разные,
Речи их несвязные,
Шутки несуразные,
Действия опасные.
Ходят спотыкаются,
Пьянству обучаются,
Выпив – улыбаются
Или задираются.
Матерно ругаются,
Яростно сражаются,
Морды разбиваются,
После – слёзно каются,
В результате маются,
В общем наслаждаются.
1952 год.
Семейная жизнь Евгения Кропивницкого. Жена – Ольга Ананьевна Потапова, художник, сын Лев, художник, поэт, искусствовед, дочь – Валентина, художник, жена художника Оскара Рабина. Внук – художник Александр Рабин.
Как видим, Евгений Леонидович был основателем династии художников, включавшей кроме него и его жены Ольги Потаповой, сына Льва, дочь Валентину и её мужа Оскара Рабина.
В 1934 году семья Кропивницких, из 4-х человек, переезжает на станцию Долгопрудную, со станции Лианозово, где жили тоже в бараке, и селится в комнате в 9кв/м, в бараке без кухни и удобств.
В 1975 году, жены Ольги Потаповой не стало, а в 1973-ем, барак, в котором жил Евгений Кропивницкий рушат, и он вынужден писать заявление властям, которое читается как крик души – пожилого, достойного человека общества:
Заявление.
Долгопрудный исполком
начальнику жилищного отдела
от гр. Кропивницкого Евгения Леонидовича 1893 г.р.
прож. ст. Долгопрудная, б. Райцентр корпус 4, кВ. 17.
В связи со сносом дома №4 по б. Райцентру и переселением проживающих в нём в дома г. Долгопрудного, прошу вас о следующем:
В настоящее время я проживаю в изолированной комнате без удобств, но не соприкасаясь с соседями по квартире.
Так как я, проработав, более сорока лет педагогом, сейчас имею испорченные нервы, не могу переносить шум, принудительное общение с соседями и не в состоянии жить в общей квартире, - прошу при переселении дать мне отдельную однокомнатную квартиру.
Для меня невозможно и тяжело постоянно испытывать большое психологическое напряжение, связанное с проживанием в общей квартире, которое может привести к моей гибели.
Прошу мне не отказать.
21 апреля 1975 года.
Скончался одарённый советский поэт, художник, композитор и педагог, Евгений Леонидович Кропивницкий 19 января 1979 года, прожив 85-ть лет.
Наград и премий не имел.
Сегодня Евгений Кропивницкий почти забыт. Старое поколение, может быть, его помнит, новое не знает. Его творчество не изучают в школах или лишь вскользь могут упомянуть в литературном институте. Евгений Кропивницкий был учителем по призванию и художником, поэтом по рождению.
Искусство для Евгения Кропивницкого было – не инструментом переустройства мира, а принципом самосовершенствования, «святым занятием», как замечает он в своей автобиографии.
По отношению же к будущему у Евгения Кропивницкого сформировалась устойчивая ирония. В 1918 году он прощается с миром своей юности, веком Серебряного века поэзии:
«Печально улыбнуться:
Прощайте господа!
Заснуть и не проснуться
Уж больше никогда.
И кануть в вечность мира,
И больше уж не быть.
А звёздная квартира
Была и будет жить.
Из поэтического наследия Евгения Кропивницкого.
«Дура на качелях»
На качелях качается дура:
То глядит изподлобия хмуро,
То беспечно и вольно хохочет,
Будто на небо выпрыгнуть хочет.
А верёвка вздымается мерно,
Но трещит. – Получается скверно.
Увидавши весёлую дуру
Закудахтали радостно куры:
Задом дрыгнула в небо кобыла
И пустилась бежать, что есть силы.
Шедший мимо мужик рассмеялся,
Что подол, развиваясь, задрался.
А на дуре надетый платочек
Весь алеет от розовых точек.
А у дуры такая улыбка
Словно всё и случайно, и зыбко…
Так качается глупая дура
И смеётся, и хмурится хмуро.
И хохочет, хохочет, хохочет
Будто на небо выпрыгнуть хочет.
1950 год.
«Фабрика»
Вот фабрика. На ней
Выделывают мыло.
А в сини прошлых дней
Н а этом месте было
Болото. Лягушня
Весной здесь страстно пела,
Звучащая мушня
Металась оголтело;
По дебрям пёр медведь
Мохнатый… Это было –
Всё это было ведь
До этого, до мыла.
1945 год.
«Незабудки»
Незабудки на болоте
Расцвели по новой моде:
Оголились до пупа.
А одна, не будь глупа.
Хоть была и некрасива,
Задрала подол спесиво.
Ею был побит рекорд –
И на ней женился чёрт.
«Дом»
Дом. Он серого цвета
Этажей – ровно два.
Если тёплое лето –
Окрест дома трава.
Но зимою холодной
В нём и сырость и хлад.
Для зимы он негодный
Ибо крив и покат.
В нём живут и зимою –
Голытьба в нём одна.
В щели веет пургою,
В дырки зимка видна.
И зима лишь начнётся –
Начинается мор:
Тот да тот вдруг загнётся,
Хотя жил до сих пор.
Плохо нищему люду:
Холода люду зло:
Ёрзай, зябни, покуда
Не настанет тепло.
А тепло, как настанет,
То другой разговор:
Сразу весело станет
И окончится мор.
1952 год.
«Молодость»
Опять на огороде
Мы встретились с тобой.
Выходит, это вроде
Назначено судьбой.
Ты в кофточке лиловой,
Коса твоя туга.
А я такой здоровый.
Крепка как сталь рука.
Да и сама природа
За нас: цветы, трава.
И в блеске небосвода
Звенят любви слова.
1945 год.
«Средство от туберкулёза»
Лают псы и заливаются
В подворотнях по дворам.
И соседи тоже лаются.
Хари выставив из рам.
Над бараками, над длинными
Нежно светится луна.
Переулками пустынными
Баба крадется одна.
Смрадом тянет от помойницы.
Что чернеет под луной,
А в барачной тесной горнице
Кровью кашляет больной.
Входит баба: - Вот, поджарила
Скушай миленький, мясца.
Уж, я жарила и парила
Для здоровья молодца!
- Мать, собаку есть не нравится,
Но беда – туберкулёз.
Неужели не поправиться –
И подохну я, как пёс?
Съел собаку и поправился –
И прошёл туберкулёз,
Вкус собаки мне понравился,
Гав-гав-гав, я стал как пёс!
Но соседи не пугаются:
- Лаять можем мы не так!
Гав-гав-гав, так разве лаются?
Мать твою! – вот это так!
1947 год.
***
Всё бренно, всё не вечно
И дан всему предел.
Но мы живём беспечно
Среди обычных дел.
Мы ссоримся и спорим.
Мужей меняем, жён:
Выдумываем, строим
И лезем на рожон.
Мы страстно ценим вещи:
Комод, бюро, матрац.
Пластинку, чашку, клещи..
Вдруг смерть по шее – бац!
***
Прячьтесь в тёплые берлоги.
Кто куда, кто куда!
Ветры вьюжны, люди строги,
Ой, беда, ой, беда!
Всюду ветры, всюду злоба,
Не до сна, не до сна!
Всюду призрак смерти, гроба –
И война, и война!
Всё же прячьтесь от напасти
Кто куда, кто куда!
Лишь в берлоге тихой счастье…
Ой, беда, ой, беда! –
Доберутся и в берлогу.
Где ж уют, где ж уют?! –
Треснут в шею, сломят ногу
И убьют, и убьют!
1944 год.
«Секстины»
Молча, чтоб не нажить беды,
Таись и бережно скрывайся:
Не рыпайся туды - сюды,
Не ерепенься и не лайся,
Верши по малости труды
И помаленьку майся, майся.
Уж раз родился – стало- майся;
Какой ещё искать беды? –
Известно, жизнь: труды, труды,
Трудись и бережно скрывайся.
Не поддавайся, но не лайся,
Гляди туды, смотри сюды.
Хотя глядишь туды – сюды,
Да проку что? – сказали: майся,
Всё ерунда, - так вот, не лайся,
Прожить бы только без беды,
А чуть беда – скорей скрывайся.
Но памятуй: нужны труды.
Труды они и есть труды:
Пошёл туды, пришёл сюды.
Вот, от работы не скрывайся.
Кормиться хочешь – стало, майся,
Поменьше было бы беды,
Потише было бы - не лайся.
Есть – лают зло, а ты не лайся
И знай себе свои труды:
Труды – туды, труды сюды:
Прожить возможно ль без беды?
А посему трудись и майся…
И помаленечку скрывайся.
Всё сгинет – ну и ты скрывайся
И на судьбу свою не лайся:
Ты маялся? Так вот, не майся,
Заканчивай свои труды,
В могилу меть – туды, туды,
Туда, где больше нет беды.
1948 год.
«Чьей породы?»
Человек произошёл от обезьяны.
Старинное изречение.
Я человек, я правнук человека…
Генрих Сапгир.
Люди, сколько вы прожили
Тысяч лет?
Лет миллион назад вы были
Или нет?
Кто вас знает – может были,
Может нет…
Существуют разны были
Разных лет. –
Говорят, вы древле были.
В дрёме лет,
Волосаты, жутко выли…
Или нет?
Говорят, что вы когда-то
На обед
Приготавливали брата…
Или нет?
Был ли хвост у вас в те годы,
Где ответ?
Обезьяней вы породы?
Или нет?
1950 год.
«Ода Пушкину»
Поэт всеобъемлющий – и нет,
Нет поэта равного.
Слава, слава славному –
Из поэтов главному!
Слава многоликому
Пушкину великому!
Свидетельство о публикации №120090602858
Было очень интересно! Ничего немзнали о Евгении Кропивницком.
Я подумала, не в его ли честь город Кировоград переименовали в Кропивницкий.
Оказалось, что это в честь его родственника Леонида Кропивницкого.
А Евгений прожил долгую и трудную жизнь, был художником и поэтом!
Будем знать и помнить!
С теплом души, Рита
Рита Аксельруд 12.09.2020 11:13 • Заявить о нарушении
Иосэф Меерович 03.10.2020 12:18 Заявить о нарушении