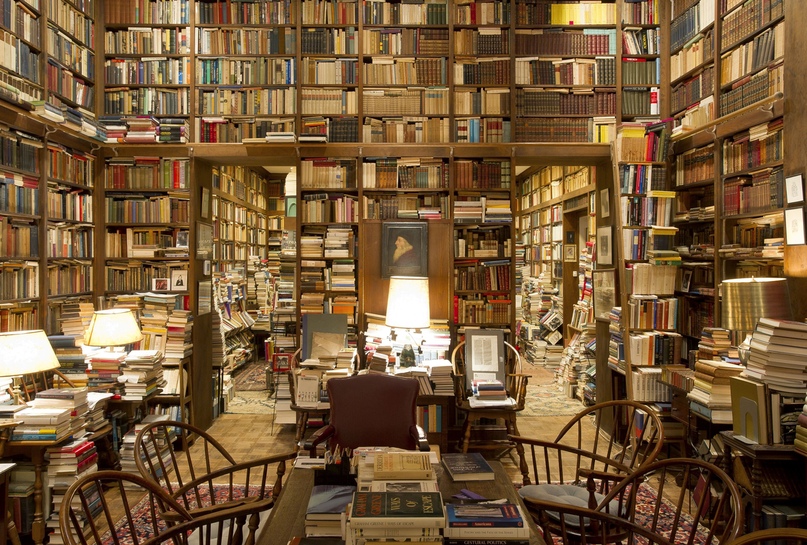Куда летит философская стрела? Итоги
Здравомыслящая стрела или стрела здравомыслия всегда летает свободно, впрочем, как и покоится – без затруднений, в силу того, что все затруднения для неё вынесены за скобки, они не рассматриваются. Обыватель признаёт и видит движение, признаёт и видит покой, но он никогда не переходит из сферы своего видения в сферу, занимающуюся причинами происходящего, он не задаётся вопросом «почему?» и не отвечает на него. Причина у обывателя никогда не является необходимостью, но всегда является случайностью. Собственно, почему так произошло? Почему, скажем, вот это движение свершилось? Обыватель тут же готов вам выдать любой ответ – мифический, религиозный, эмпирический, магический, псевдо-научный (потому что так говорит наука) и наконец народный ( потому что примета такая). Никакой из этих форм, обыватель как таковой, не отдаёт предпочтения – можно использовать всякую – лишь бы отделаться от вашего неудобного вопроса или чужого вопроса «почему?». Вопрос «почему?» - чужой для обывателя. Он ему чужд и не лежит в его природе. Знание начал и причин, о которых писал Аристотель – прерогатива либо науки, либо философии. Так что ту область, которая означается «почему», обыватель, конечно же, заполняет, не будь он человеком, но заполняет, как попало – либо, признавая своё бессилие и обращаясь к вмешательству богов, либо взывая к случайным причинам из области примет, поверий и ближайших эмпирических связок.
Но чем хорошо, при всём том и несмотря ни на что, «здравомыслие» - так это тем, что всё-таки происходящего движения и происходящего покоя оно не отдаст никому. И вот, здравомыслящий человек, услышав возмутительную речь Зенона, - встаёт и начинает ходить. Он натурально «показывает» движение, и он «показывает» то, что для него очевидно, и он наивно считает, что его единственный аргумент очевидности убедит противника – разве не в том же самом мире он живёт, не посреди тех же самых - очевидных вещей? Лишь сошедший с ума, и полностью оторвавшийся от почвы, может столь абсурдно и так тотально отрицать очевидное. И ведь самое смешное тут в том, что здравый рассудок оказывается, таки прав – зеноновские рассуждения действительно, продукт болезненной свободы ума. Интуиция и чутьё реального целого помогают обывателю продолжать оставаться на той позиции, которая хотя и недоразвита, но позитивна по своему основанию в его целом отношении к жизни человеческой, а это немаловажная вещь, хотя мы о ней часто и забываем. Это – наши «корешки», хотя они плохо видны, потому что в земле.
Отсюда стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Движенья нет сказал мудрец брадатый» обрисовывает нам далеко неоднозначную картину: перед теми, кто молчаливо считает, что само собой разумеется, что земля покоится – может быть прав Галилей; однако перед тем, кто «смолчал», но стал только ходить, утверждая своё собственное движение – может быть не прав сам Зенон. Абстрактное, сущностное мышление не только выше и сильнее наивного рассудка, но оно ещё и уже, и площе его в определённом смысле. В противном случае оно никогда не имело бы своим девизом, девиз «назад к практике» - к эксперименту, опыту, реальности. Назад к земле и основам.
Вот почему для настоящей подлинной философии здравый смысл и рассудок являются крайне нежелательными элементами лишь в 90% от 100%, скажем так, а на 10% оказываются вполне себе даже признаваемыми и утверждаемыми, как это ни странно, основаниями – мы можем встретить апелляцию к ним и у Декарта, и у Аристотеля. И не стоит этому удивляться, не стоит возмущаться тем, что философия непоследовательна – тут же ругает рассудок, и разносит его в пух и прах, и тут же признаёт его и на нём основывается. Философия правильно делает, глубина философии позволяет ей так противоречиво относиться к здравому смыслу – когда он путается под ногами теоретической мысли он – враг, мешающий и запутывающий возможность отрыва и полёта; но, если истина – не заоблачная дева, из под небесных высот взирающая на недостойную и убогую землю, если она, истина – «естина», как говорил Павел Флоренский, то есть то, что «есть», то тогда и здравый смысл нам друг, потому что он мощнее всего и крепче всего придерживается того, что есть. Многим современным философствующим теоретикам не хватает здравого смысла для того, чтобы то, о чём они пишут, не выглядело тухлой схоластикой или схоластической тухлятиной, кому как нравится.
Декарт не зря предпочитал поперчить свои мысли толикой здравого смысла. Так он проникал своими мыслями до наших жил и основ.
Поэтому пусть не выглядит каким-то анахронизмом то, что я сейчас напишу как некоторый вывод, и что я считаю крайне важным, отметить в резко очерченном виде, представить в краткой и жёсткой форме.
Утверждение здравого смысла, что движение есть – верно, но бездоказательно.
Утверждение Зенона, что движения нет – бесконечно доказуемо, но не верно.
Наука.
Наука – полна проблем. Она напичкана проблемами, она живёт проблемами, дышит проблемами, она сама одна большая проблема для самой себя. Правда о последнем она почти не догадывается, за неё это делает философия.
Наука в определённом роде – антипод здравому смыслу. У того никаких проблем, или все проблемы короткие «на глазок», зато непосредственного течения и становления жизни – полные штаны. У науки же всё наоборот – повсюду вопросы, вопросы и вопросы; нескончаемая гирлянда вопросов, их бесконечный ряд – чем больше мы познаём, тем больше нам спрашивается. Наука – это беспрерывная цепь от одного знания к другому. И каждое последующее, в плане теоретическом не лучше предыдущего, оно также достойно умереть, как и то предшествующее, что оно вытеснило. Знания становятся на плечи друг другу, а ещё они теснятся, накапливаются и преумножаются в виде информации и, таким образом, создают новую проблему – проблему самого знания. Как говорил Аристотель: «все люди от природы стремятся к знанию». А мы спрашиваем, как в детском мультике про котёнка Гава «ждут котёнка Гава неприятности» - «а зачем они его ждут?». Так вот, «а зачем люди стремятся к знанию»?
Когда-то, помнится, я писала такой афоризм:
Исследование – это бесконечный путь исследователя к самому себе.
Цель – ты сам. Но цель практически недостижима. Ты постоянно и только в пути, но хорошо понятно, что цели ты не достигнешь. Ты всё время изучаешь себя, хотя не знаешь, что изучаешь себя. Ты невольно изучаешь себя, но так, что до себя не доходишь. В голове всплывают какие-то знакомые нам софизмы как аналогии к таким процессам.
В основании науки лежит парадигма мышления Зенона – бесконечно суммируемый, бесконечно множащийся ряд знания. Знания ради знания – мечта Аристотеля. Путь ради пути.
Наша наука и есть бесконечно делимый отрезок Зенона, который никогда не будет пройден.
Это называется «познание относительных истин». В каждом отношении, к которому подводится знание, становится легко, но тут же появляется множество отношений без знания и становится тяжелее. Человечество живёт, покуда бежит. Куда же бежит – от самого себя, к самому себе? – Неведомо. Ведь, чтобы ответить на этот вопрос, нужна абсолютная истина, а не относительная.
Здравый смысл тайно презирает науку за такие истины. Здравый смысл, вполне справедливо полагает и злорадствует где-то там, у себя в уголке – «твои истины не намного лучше моих». Когда же на здравый смысл посягают и выводят его из себя, он вскакивает и кричит «все там будем» - вот вам истина, и попробуйте опровергнуть. Здравый смысл, как бы он ни был туп по сравнению с наукой, чует, что истина близка к загадке жизни и смерти, и что наука всегда будет расположена между ними, а не прямо в них. Но так красиво сказать здравый смысл никогда не может, и он кричит очередную глупость.
Вообще, здравый смысл и наука – это глухой и слепой. Обыватель не слышит Логоса, он глух к нему. Учёный не видит и не верит очевидности, ему нужно – «проверить», или точнее было бы сказать «промерять» всякое «есть». Слепой и глухой общаются специфически.
Лейбниц пишет: все науки и философия должны служить для блага и процветания человечества, для улучшения нашей жизни.
Кант пишет: существует ли постоянное совершенствование человеческого рода?
Ницше пишет: человек – это животное, измученное истиной.
Хорошо бы, если истиной, может быть только поисками её? И поиски её приносят человечеству процветание или ещё большие страдания? Или они не способны ни на то, ни то, если постоянного совершенствования человеческого рода вообще не существует?
Но это уже говорит философия, это голос философов и философии, не науки, – наука о таком не говорит. Наука была беспечно несведущей и осталась беспечно несведущей в отношении познающего. Наука полна тайного рассудка. Да и сам рассудок для науки - тайна, его выводит на свет и чистую воду лишь философия.
Так что Зенон в этом плане вполне «научен» - он противопоставляет здравому смыслу «доказательства», но в его «доказательствах» царствует всё тот же самый рассудок, который должна была превозмочь разворачивающаяся теория. Как говорится, обыватель скрылся, но он появился теперь в сфере научной области «инкогнито». По внешней видимости Зенон – человек «продвинутый», теоретичный, а по внутренней сути – всё тот же, обычный, только не признающий обывательской убеждённости. Вот почему я называла Зенона колобком – «я от бабушки ушёл, а к дедушке так и не пришёл», и вот почему я называла его «продвинутым пользователем» - потому что Зенон, представляет из себя, некоторое странное смешение «научности» и «здравомыслия», лежащее не на философском основании той глубины, где крайности сходятся, а скорее пребывающее на уровне той слепоты самой науки, где её симбиотические уродцы прячутся в тень тотального процесса познания.
То, о чём я здесь говорю, можно написать и ещё проще: наука не настолько далека от обыденного рассудка, как она думает.
Зенон – это личина, имя философа; характер действий и движения – наука, но суть, конечный итог – обывательщина.
Философия.
Философия – грязна, заброшена, отстранена и дерзка до самых крайних пределов. Находились люди, которые называли философию аккумуляцией крайних пределов. Демокрит бродит, смеясь и хохоча по городским кладбищам, Гераклит бежит в горы от царских должностей, Анаксагор бросает имущество на родственников, Эмпедокл раздаривает имущество направо и налево и кончает тем, что бросается в Этну (в крайнем случае по мифу), Сократ застывает босиком по снегу или донашивает десятилетиями одни сандалии, Парменид смотрит свои божественные сны про космический космос. Философия сразу же начала плохо, когда Фалес, засмотревшись на звёзды, свалился в яму. По отношению ко всему остальному миру она попала в позицию оправдывающегося.
Но дерзость философии беспримерна и неподражаема, она утверждает, что знает истину. Нет, не ту относительную, о которой мы писали, а ту абсолютную, которую вроде бы не должен знать никто. Парменид возносился в своей колеснице не к кому-нибудь ещё, а именно к богине Истине.
Ну что же, знает или не знает, вопрос остаётся невыясненным, но заявка положена на стол и там продолжает лежать на этом столе, и прожигает своим присутствием прочие бумаги.
Она, философия, не настолько нормальная, как все остальные науки, скорее – ненормальная.
Здравый рассудок или наука, то есть он же самый, только в научной упаковке считает, что знать абсолютную истину нельзя. Ведь для этого нужно пройти, как считает Зенон, бесконечный ряд множества познаний – приближаться мы можем, а вот утверждать, что что-то есть абсолютная истина – нет. Философия на это только ухмыляется. Не нужно проходить никакого бесконечного ряда, или можно сказать, как схоласты – бесконечный ряд всегда уже пройден, как только началось познание, этот ряд уже исчерпан. Абсолютная истина не в том, чтобы знать какой-либо предмет до конца (тем более, что конца у него не имеется), а в том, что наша самость всегда доопределяет любую истину. Оставьте это «доопределение» без внимания и вы получите нескончаемость и полную неопределённость этой нескончаемости. Вы получите то, на что сами подписаны. Возьмите мир вместе с его доопределением, и вы получите абсолютную истину, а лучше сказать просто Истину, потому что она одна, хотя и имеет множество обликов.
Истина – это всего лишь то, что есть вместе со мной, что есть таким образом, что меня не исключает, а наоборот, предполагает. Её нет – без меня. Этого не понять науке, водящей тотемные хороводы вокруг «объективности».
Но и обыватель вроде не исключает себя самого из мира, в котором живёт. Но обыватель не «доопределяет» после «определений» мира, а судит мир «по себе». Одно дело видеть мир и входить в него той малой, но последней главной частью, которая меняет всё; и другое дело – закрывать весь мир нарастающей фигурой себя самого.
Философия совпадает со здравым рассудком в том, что человек не должен быть исключён из процесса познания ни в каком смысле – ни в этическом, ни в эстетическом, ни уж в бытийном тем более. Но философия никогда не совпадёт с рассудком в том, чтобы судить мир по самому себе.
Поэтому философия и отрицает здравый рассудок, в его тупике экранирования себя собой, и принимает его сторону в его борьбе против «объективизма» науки.
Аналогично, и с самой наукой, философия совпадает лишь частично по ходу своего движения – когда движется от ограниченности себя к раскрытию мира, и не совпадает в своём возвратном движении, удостоверяющем, что и здесь, вот тут в этом мире я не потерялся ( чего у науки напрочь нет).
Философия – символ (симболон), «совместное бросание», знак, игра, склеивающий застывшие, распавшиеся половины мира.
Следовательно, для обывателя движение есть, потому что оно есть естественно, он посреди него живёт и существует натуральным образом; для науки движение есть, потому что оно мыслится, и постигается законным способом; а для философии движение есть, потому что есть истина, а истина подвижна, то есть движение есть в тавтологическом плодотворном виде.
Для Зенона же движения нет, и Зенон не попадает никуда.
И если кто-то будет осуществлять вырезку под названием «Парменид – Зенон» и скажет, смотрите у Парменида бытие неподвижно, и у Зенона движения нет, то я предложу ему сначала другую вырезку – у Парменида «плотные части», а у Зенона сплошное «пространство между», или у Парменида бытие – конечный шар, а у Зенона – бесконечная дурная линия; а потом ненавязчиво намекну, что может не стоит делать вырезки, как в мясной лавке, где одни части хороши для борща и обеда, а другие нет, может быть стоит слушать, что говорит вся госпожа философия, госпожа Истина на множестве своих философских языков. И даже про Парменида отдельно я скажу – выслушайте сначала всего Парменида, и выслушайте всего Зенона и поймите, что они говорят разное.
Свидетельство о публикации №120060300474