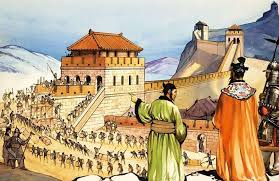Хо Ши и Зенон. Мыслить или убеждать?
Сейчас мы изымаем обоих из их хронологических контекстов, и пытаемся посмотреть – в какой форме, и какая мысль связана с их именами, так сказать в «вечности», т. е. что от них осталось нам в завещание, в наследство.
В этом плане мысль Хо Ши является гораздо более «чистой», чем мысль Зенона.
Так апория Хо Ши выглядит скорее как «формула» определённого «уравнения мышления», между тем, как апории Зенона – всегда «байки», будь они математические, физические, космические или спортивные. Хороши видно, что Зенон сосредотачивается не на самой логике мышления, а на «здравомыслимом» преподнесении её. В приоритете Зенона – убедить, а не помыслить. В нём сказывается сильная греческая сторона – сторона убеждения – замечательная по своей сути, однако опасная и кривобокая в том случае, когда она пренебрегает самой сутью, истиной. Опасность «убеждения без мышления» - феномен сначала греческой риторики, а затем и софистики. И не случайно, как раз Зенона и считают одним из родоначальников софистики.
Следовательно, когда мы сопоставляем имена Хо Ши и Зенона, мы невольно сталкиваем себя с вопросом – мыслить или убеждать? Ответ, который напрашивается здесь само собой, должен звучать так – «мысля, убеждать» или «убеждая, мыслить», вот что нам нужно, что нужно философии, но получается ли это у тех, кого мы рассматриваем? Так вот, предварительно, я буду принимать, что «формула» Хо Ши содержит мышление, хотя и не развёрнутое в форме убедительности, что же касается Зенона, то любая его апория является убедительной, однако не содержит в себе подлинного мышления – то есть внутреннего противоречия и движения, а содержит лишь внешне сталкиваемые противоречия.
И вся моя работа будет направлена на то, чтобы показать, что Зенон в том, что он делает – «сам» - «не движется», и поэтому, не имея доступа ни к движению бытия, ни к движению мысли – вынужденно отрицает их и для всего мира, и делает это, бесспорно талантливо, но не разумно.
В этом смысле, Зенон, по аналогии напоминает человека, не умеющего, скажем, любить и поэтому отрицающего вообще любовь и утверждающего, что любви не существует. А в том, что находятся такие люди, и что находятся у них разнообразные аргументы в защиту своих позиций, мы не сомневаемся. Или же Зенон напоминает задавленного, прибитого человека, творящего зло по бессилию, и оправдывающего себя тем, что добра на самом деле на белом свете нет, и никогда и не было. Тут без разницы, ведь и в философии, может быть, и происходить то же самое. Потому что, в любом случае, здесь наличествует позиция «от себя к миру» - «каков я, таков и мир», не способная дорасти до уровня необходимой рефлексии и самокритики и как раз в силу этого, выплёскивающая тонны критики на внешний мир.
Зенон видит себя философом, но не может им быть. Поэтому, господа хорошие, и вы все мыслить не умеете, и я вам сейчас это докажу. Вот позиция Зенона.
Но вернёмся к Хо Ши. Если самое великое не имеет никаких пределов и самое малое также не имеет никаких пределов, то тогда они не существуют – вот мысль, настоящая, подлинная мысль, и думаете, её осмыслили и восприняли учёные и философы? Философы быть может, и то с большим знаком вопроса, ведь, как я уже и писала, её не воспринял даже и сам Хо Ши)) – по слову Уайтхэда – «Все важное было сказано ранее кем-то, кто этого не заметил». Но учёные точно нет. Им нравится больше копаться в апориях Зенона, поскольку в них они быстрее находят «раздрай собственной головы» и охотнее придают ему внешний, объективный пафос и смысл, меж тем, как мысль о том, что великого и малого не существует, гораздо более скромная и не фанфарная на вид, будучи действительно воспринятой, должна была бы привести современную физику к подлинной революции. Ведь физики уже не одно столетие ищут МЕЛЬЧАЙШИЕ элементы, из которых, по их мнению, складывается мир. Но апория Хо Ши, недвусмысленно утверждает, что этот процесс никогда не закончится. Чему с каждым успехом научных достижений мы и получаем неизменное подтверждения – атомы сменяются элементарными частицами, элементарные частицы кварками, кварки полями и т.д. И каждое объявляется «самым последним» - до следующего раза…
Меж тем, если бы мысль Хо Ши была воспринята – в мельчайшем, следовало бы с таким же основанием искать «правду», «истину» и «основу» нашего мира, как и в «срединном», «среднем» - то есть прямо посреди нас, и даже больше следовало бы её искать именно в «середине», поскольку именно она существует, тогда как «мельчайшее» и «величайшее» нет.
И действительно, «мельчайшее» и «величайшее» вполне обратимы, они вполне способны вывернуть друг друга «шиворот навыворот» наружу и внутрь, их изучение «самих по себе» - ошибка, неуклонно ведущая и заводящая нас в тупик. И мы бы это быстрее узнали и освоили, если бы умели мыслить.
Никто не говорит, что не нужно изучать микро и макромир, мысля, мы говорим о другом – не нужно искать именно в них, в «максимальных удалённостях от» - основание мира. То есть расщепление атома помогает нам лучше выстроить некоторые физические процессы и нашего «среднего» мира, но не помогает лучше выстроить реальные человеческие процессы – дружбу, и то же самое мышление. Тогда почему я должна считать эти физические атомы их основанием?
Говорят, что пифагорейцы и сам Пифагор, а это VI век до н. э. считали, что точка – это «мельчайшее». И что если приложить одну точку к другой, то получится первая «мельчайшая линия». И говорят, что Зенон вольно и невольно поучаствовал в сдвиге такого «архаичного представления» в более прогрессивную сторону, потому что, составляя и разбирая свои точки в линии и линии в точки, возникающей путаницей «доказывал» неладность этого процесса.
Звучит вполне правдоподобно, однако та же историческая традиция сообщает нам, что, скорее всего процесс преодоления этого затруднения шёл вне и помимо зеноновских апорий, а именно через саму пифагорейскую школу (открытие иррациональности), а затем через парменидовское бытие и платоновскую традицию, Зенон же оставался во всём этом чем-то вроде петуха, поющего по утру – об утре.
Свидетельство о публикации №120051006212