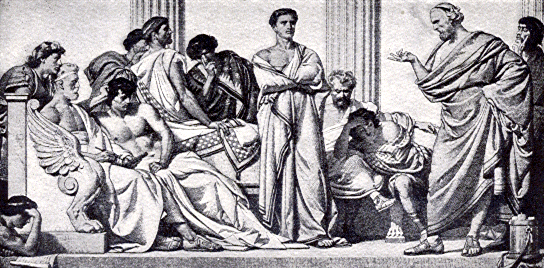Ирония как спасительный обман
Возьмём "наипростейший" диалог "Евтидем", где разнузданные и хвастливые братья -софисты Евтидем и Дионисодор вступают в схватку с Сократом по поводу насущных вопросов знания, учёбы и мудрости, но скорее всего - по поводу собственных же софистических методов рассуждать о них. Ведь с софистами всегда так - там, где должно говорить о предмете, чтобы охватывать его всё шире и проникать в него всё глубже, приходится говорить о самих говорящих.
И вот уже нет как таковых ни мудрости, ни знания, а есть интриги и "извороты" самого человеческого ума, нисколько не зависящие от того, о чём этот ум рассуждает.
Место, которое мы выберем для своего примера представляет из себя именно такую "свалку". Собственно говоря, ирония здесь разбросана по всему диалогу, и всплывает то там, то здесь, время от времени, и даже можно сказать насыщает всё произведение целиком. Но начать нам надо не с завуалированных и отдалённых насмешек Сократа, а с чего-то, лежащего на самой поверхности, на самом виду, чтобы в простоте этого элементарного явления попробовать ухватить его сущностную черту. Итак, оба брата, изрядно поиздевавшись над молодым юношей Клинием, отвечающим на их вопросы, прерываются Сократом, который сначала показывает всем присутствующим "свой" метод - как он считает должным вести рассуждения на самом деле, чтобы не перекидывать всего лишь мальчика как мяч туда-сюда, а затем, попадая в спор-вызов одного из поклонников юноши Ктесиппа, несколько "обнажаются" и "подставляются" в своём "методе" - ровно настолько, чтобы Сократ мог уже зацепиться за их же собственную методу и рискнуть свалить её - её же средствами и приёмами. Речь идёт о том, что один из братьев, а именно старший - Дионисодор, будучи обвинённым, и при том, наконец-то, откровенно обвинённым во лжи, Ктесиппом, попросту заявляет, что лжи нет, применяя для доказательства того разные софистические уловки. Вот за это и "цепляется" Сократ.
"Значит, ложь произнести нельзя (ведь именно в этом сила данного рассуждения, не так ли?) и говорящий может либо говорить правду, либо молчать?" - вступает с таким вопросом в диалог Сократ, безошибочно почуявший, что именно здесь можно пройтись по тылам противника. И Сократ не ошибается, уже через несколько вопросов, он ставит самого Дионисодора в тупик. В частности, Дионисодор, увлечённый спором, кричит: "Опровергни меня", и тут Сократ торжествующе заявляет: "Что же получается, по твоим словам, что возможно опровержение, в то время как никому не дано лгать?". Несмотря на всю изворотливость братьев, Сократу удаётся на какой-то момент обратить оружие софистов против самих софистов. Но братья отнюдь не готовы к тому, что их "диалектика" может шутить с ними такие же шутки, как и со всеми остальными, над которыми они ставят свои "опыты". И тут образуется "свалка". Дионисодору пытается помочь Евтидем и уклонить, увести Сократа в сторону, но не тут-то было, и Сократ оказывается не уводим, вместо того, чтобы снова падать в расставленные "силки", он громко и окончательно заявляет: "Коль скоро мы, действуя, говоря и размышляя, никогда не ошибаемся, то вы-то ради Зевса, - если всё это так - чему явились сюда учить?" После этого следует так называемая "сцена ревизора", и "великомудрые учителя софистики"(как видите, я здесь иронизирую вслед за Сократом) грубо переходят на "личности" - Сократ обзывается отсталым, так как он "не желает говорить только о том, о чём говорится прямо в эту минуту, но вспоминает старое", и так как он якобы "не знает, что делать с нашими речами", а вот на вопросы Сократа, которые разбивают его прямо в лоб, Дионисодор далее отвечать не собирается. Именно данную ступень ситуации, я и назвала некоторой "свалкой", где по виду, даже по внешнему виду - "всё ясно" и при том - "всем ясно", а по речи и озвучиванию - продолжается именование "волков овцами". Именно тут и возникает, буквально лежащая на поверхности ирония Сократа, именно здесь мы прямо таки скульптурно можем прощупать её, как она рождается.
"Да! Уж очень трудны ваши речи. Оно и понятно: ведь какие мудрецы эти речи держат!" - ирония по поводу своей отсталости и обвинения в "незнании, что делать". А по поводу того, что Дионисодор грубо отказывается отвечать, приблизительно та же ирония: "На каком же основании? Видно, на том, что ты явился к нам как великий знаток рассуждений и тебе ведомо, когда нужно отвечать, а когда нет?"
Теперь остановимся на этом моменте, к которому мы подводили самих себя так долго и так тщательно отнюдь не случайно. Дело в том, что сама ирония гораздо лучше понимается и видится, исходя именно из целого ситуации, в которой она возникает. Тщетны попытки тех, кто старается понять её, взятую изолированно и отнесённую лишь к субъекту. Ироничный субъект ироничен лишь вторично - в начале следует найти место иронии в целом общечеловеческого бытия, а затем уже посмотреть на иронию как на человеческую способность и возможность. Каково же место иронии в "целом человеческой ситуации"? Её место - спасение правды ситуации с указанием направления в сторону истины. "Седалище" иронии в двуличности ситуации, положения - когда то, что происходит имеет не одно, а два лица - и можно посмотреть на что-то и так, и так. Но нужно посмотреть именно ТАК, потому что второе лицо не истинно, однако оно скрыто в своей не-истинности, оно в маске, и тогда всё, что нам остаётся - это лишь указать - смотрите оно в маске, оно скрывается и прячет другую истину, другое своё лицо. Здесь два лица не равноисходны, а скорее представляют из себя одно лицо и одну маску. И по условиям игры, скажем так, маску нельзя сорвать (почему именно нельзя сорвать, об этом мы ещё расскажем отдельно), но зато не прямо, а косвенно, намёками и шутками можно её словно бы приподнять, словно бы подсказать всем - что под ней. И подсказка эта имеет своим оружием "метод от противного". В самом буквальном и переносном смысле: в буквальном - потому что отталкиваться приходится от противной маски; а в переносном - потому что, ирония, говорящая "да" - говорит "нет".
Вот, что представляет собой по большому счёту и вот , что делает в наших человеческих ситуациях ирония.
Какая же маска была напялена на себя софистами и какой маске в их лице противостоял Сократ? Ни много, ни меньше, софисты претендовали на всю мудрость вообще, на полную её целокупность, ибо они не только подвязались каждый раз в одной диалектике, но считали себя и выдающимися математиками, астрономами, полководцами, гимнастами. Причём некоторые из них таковыми и были, нельзя отнимать или преуменьшать их заслуг, но ведь чем они не были и не могли быть никогда, однако чем они себя постоянно считали и объявляли - так это самой госпожой мудростью в едином и единственном числе. Встречая софиста, ты должен был поклоняться ему словно богу, Сократ так и шутит, так и иронизирует, что это наверное боги, раз они берутся за две недели обучить любого желающего и даже не желающего, а и тут для софистов разницы не было, - всей добродетели. Не только София как премудрость, но и добродетель как благо - полностью узурпировались софистами. Создавалось такое впечатление, что маска софиста хотела нести в себе весь идеал древнегреческого человека вообще, но по преимуществу, конечно, идеал знания. Однако это были не герои, переносящие или же творящие идеалы, а именно узурпаторы, непонятно на каких основаниях, приписывающие себе всё. У остальных ничего не должно было остаться, кроме денег, выкладываемых подобным "чудотворцам" за сотворение ими подобных "чудес". Быстро и легко - вот каков был девиз софистов, но при этом, естественно, - не дёшево.
Софистика была прежде всего невообразимой эклектикой, где от чего угодно можно было прийти к чему угодно, и действительно, ведь наш мир полон взаимных связей, почему же нет? И мир становился "резиновым", растягиваемым как попало в угоду тому, кто сейчас тянет. Почему бы и не крутануть весь мир вокруг своего пальца? - если софист так и не думал, то он всегда так делал, исходя из этого принципа. И думаете, это явление исторически прошло? Вспомните любой современный курс чего-нибудь, который обещает вас научить чему-нибудь за те же самые две недели. История не проходит, она стоит, как и стояла, в однажды образовавшихся формах. И столько же у нас приблизительно "лохов", и столько же негодующих, как и раньше.
Но вернёмся к Сократу. Что было делать ему, когда перед ним представала сама София? Якобы София. Этакая самозванка. Приходит к вам человек и выдаёт себя за кого-то, как Остап Бендер, - человек нахрапистый, деловой, активный, представительный, чего-то даже предоставляющий в удостоверение своей личности, как его разоблачить, даже если тебе понятно, что он жулик? И даже вопрос нужно поставить ещё острее - как его разоблачить в то время, когда его уже обступили со всех сторон и доверчиво его слушают? Как его разоблачить среди всеобщей веры? Потому что, если бы вопрос стоял лишь о своём личном акте признания -непризнания, это был бы отдельный вопрос, а если речь заходит о повальном наклонении греческой общественности к софистическим способам мышления, то тогда как быть? Сократ же не был слепцом, он видел какой мир с каждым днём всё больше его окружает. В силах ли Сократа было остановить софизм? Конечно, нет, как и разложение полисной демократии. Но тогда может быть в его силах было развенчать его прямо и открыто, скажем, в каком-нибудь труде или выступлении, речи? Сомнительно. Во-первых, трудов Сократ вообще не писал, он весь сам был воплощённая стихия диалога-мышления, можно сказать он был его организм и вот организм заболел, стал подгнивать, и даже, если бы Сократ и писал книги, как их писал и Платон, никакая книга сама по себе не была бы в силах справиться с тем, что называется "разложение собственных основ" - единственным верным решением было идти по другой ветке дальше - идти так, словно софизма и не было - продолжать истинную философию, насколько это возможно, а не бороться с тенями и призраками. И Сократ в общем-то так и делал.
И во-вторых, разоблачить софизм принципиально нельзя, ибо он безосновен, его можно описать как общее явление с его характерными чертами, а разоблачать его - всё равно что погружаться в дурную бесконечность, потому что облачаясь в одно, он тут же облачается в другое, а разоблачаясь, перескакивает в третье, и так до бесконечности. По большому счёту софизм не учение, а потеря ориентации, направления. Поэтому единственное разоблачение софизма будет такое - ты не мудрость - ты неизвестно что, но ты не истина точно. И вот как раз такой уровень разоблачения мы и встречаем у Сократа. И способов у Сократа всего только два: предоставив место софизму, тут же рядом с ним дать истинный метод познания и рассуждения - чтобы можно было на контрасте их сравнить; и второе - уловить самих софистов в их собственных противоречиях, которые они ловко сбрасывают всегда на других.
Оба этих способа присутствуют в диалоге под названием "Евтидем".
Будем ли спрашивать мы теперь, что делает там, на фоне этой борьбы, ещё и ирония?
Свидетельство о публикации №119122408860