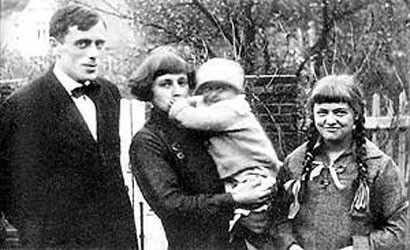6. Жизнь-это живот. В поисках универсального тела
Тайну Евы от древа – вот:
Я не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот»
Ранена Марина не в сердце, ранена Марина в живот, в жизнь, сердце у неё достаточно могущественное, чтобы перенести все травмы, а жизнь – раздолбана, как проезжая колея. Поэтому после решительного «простимся», тело никнет, обмякает и «не хочет» слушаться привычно душу и духа, льнёт и не может отлипнуть, живёт свою маленькую, короткую, безумно частичную жизнь – «бок», «рядом», «рука», «шаг», «ещё пройдёмся» - всё равно слёзы. Слёзы не слушают гордую Марину, непроизвольно текут, ударяясь в плач, продолжая «чисто животное», Марина и любимого своего переводит из состояния «расставального официоза» в глухую, мужскую непосредственность страдания – крупные слёзы начинают падать и у него.
Такое «физиологическое совпадение» потрясает Марину до «глубины косточек», жизнь плачет о жизни, пока любовь молчит, - прохожие смеются, - Марина из смерти и тлена воскресает и восстаёт снова в жизнь.
Психофизиологические контексты поэмы являются чуть ли не самым глубоким уровнем написанного. Первоначальные настроения передаются через жесты и только потом через слова. Совместный вздох: наша кофейня! меняет всё течение безрадостного угасания чувств. Именно то, что это было «совместным выдыханием» - в едином ритме реакции, перекрывает все прочие интеллектуальные диспозиции.
Физика наших тел гнёт своё – так могла бы передать Цветаева собственные ощущения от события расставания. Приблизительно так она их и передаёт, сверху, как на готовую картину накладывая на неё интеллектуально-духовные мазки.
«Жжёт… Как-будто бы душу сдёрнули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да её никогда и не было!
Было тело, хотело жить,
Жить не хочет.»
Потерянную душу Цветаева изображает физиологически, натурально, то есть как реально покидающую тело. Сдерживаемые слёзы как «зубы в губы» - «крепость в мякоть», в ресницах Марина ощущает «зуд», жест видит как «скручивающий в жгут». Эта телесная фантасмогория делает её поэму столь же возвышенной, сколь и «низкой», «земляной», но, дело в том, что «низ» у Марины тоже имеет специфический характер, он не является просто «бытовым», но скорее предстаёт как «физика духовного». И вот эта «физика духовного» максимально сложна для нашего восприятия, понимания.
Не потому что мы её не узнаём, а потому, что мы её быстро и незаметно считываем, нисколько не обращая на неё внимания.
Между тем, это, во-первых, язык будущего, во-вторых, самый правдивый человеческий язык – тело никогда не врёт, оно просто не умеет этого делать, как душа или дух, допустим. Когда мы говорим «явиться во плоти», то это значит засвидетельствовать себя в самом очевидном плане. Марина тоже хотела явить все свои чувства, всю свою любовь «во плоти» - в последнем и первом плане очевидности.
Такой подход разлит во всём творчестве Цветаевой и не нов для двух, рассматриваемых нами, поэм. «Ухо пьёт» - вслушаемся, как выражается Цветаева – «ладонью гладишь сердце» - «белокровье мозга» - «страсть ударяет молотом». Все эти метафоры и образы выпукло подвигают «физичность» нашего мира на какой-то универсальный, всезаменяемый план – не важно назвать прекрасное прекрасным или же каким-либо иным грубо земным именем, у Цветаевой «счастье коровы поедают», потому что счастьем для неё было в младенческом возрасте болтаться в траве.
Лишь с такого психофизиологического уровня Цветаеву можно «считывать» в полном объёме. Всякая другая Марина – будет поверхностно-романтизированной.
Есть в зарубежной поэзии поэт, выступающий прямым аналогом Марины в подобной сгущенной телесно-метафоричной трансформации мира – это Федерико Гарсия Лорка, у того тоже «чаши утр» и «поцелуи струй» властвуют в каждой строчке безраздельно.
Но Марина, кроме того, ещё и самой ритмикой стиха управляет весьма «физично» - если посмотреть, что она делает с материалом стихотворной формы, то можно прийти в ужас от того, как Марина сначала отпускает на волю строку, потом слово, потом буквы в этом слове – ай, пусть прыгают как хотят, лишь бы смыслы держали! И прыгают, и скачут, и стреляют друг в друга – буквы и слова, и строчки – все играются в одну весёлую шараду – в Маринино стихотворение! Сказанное не отменяет того, что Марина писала свои стихотворения жёстко – правила и выправляла – ещё бы, попробуй настрой такую вольную команду! И вот уже летят бесконечные тире, спешат точки и двоеточия, чтобы связать буквенную и буквальную вольницу в стрелу мысли.
Это вам не Хлебников с его экспериментами над фонемами (звучаниями и созвучиями) и историческими корнями слов, это вам – Хлебников, склонивший своё ухо к языку, слушающий его, внимающий ему, плюс ещё Марина, склонившая своё ухо к смыслам. Два в одном – как нынче выражаться у нас в моде.
Нет ничего звончее, чем я пишу – стрекочет кузнечик Хлебникова.
Нет ничего гуще той похлёбки, которой я вздабриваю человечество и на которой, как на дрожжах растут и младенцы, и старики – вторит ему Цветаева.
Метатекст Цветаевских произведений находится не в её черновиках или письмах, или записных книжках, - там Цветаева такая же, как и везде, и столь же требует разгадки своей загадки, как и повсюду, Цветаевские метатексты – это лучшие представители поэтического мастерства, её собратья и современники – Хлебников, Лорка, Хименес, Рильке, Пастернак с его световым ливнем, Маяковский. Рядом с «Поэмой Горы» и «Поэмой Конца» лучше всего ставить «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник» Маяковского, ещё «Сонеты тёмной любви» Лорки. Так оно понятнее будет – о чём это они)))
«В языке, нам знакомом, мы подменили непроницаемость звуков прозрачностью идей. Но незнакомый нам язык - запертый дворец...»(М. Пруст. Под сенью девушек в цвету)
Но не будем печалиться, поэты ещё держат незнакомый нам язык – до лучших времён и до нашего прозрения!
Вывод: Марина Цветаева – художник-ребёнок с мировой степенью напряжённости, невротическим конфликтом нашего тысячелетия и с запросом на Другого из будущего.
Свидетельство о публикации №119012507661