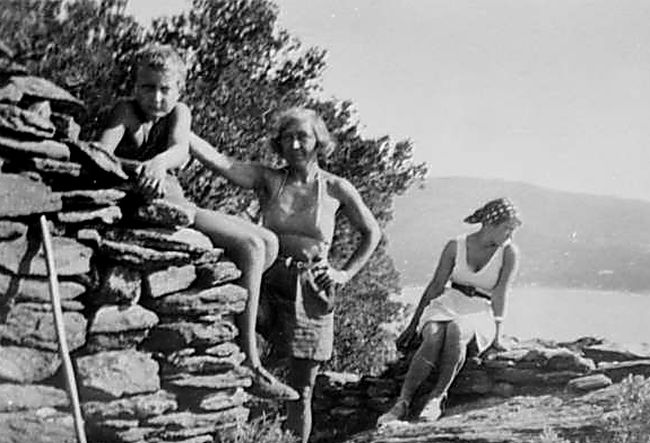4. Одиночество. Взгляд через трещину
Посверкивая циркулем железным,
Как холодно ты замыкаешь круг,
Не внемля увереньям бесполезным»
Так написала другая женщина, другой поэт, уже наш современник – Белла Ахмадуллина, но с той же раненой тоской и пронзительностью, берущей за душу.
«Поэма Конца» - это когда уже всё ясно.
Осталось только вновь создать текст, леденящий кровь, свою и чужую, и отдаться на милость «железному циркулю», а какова милость железным циркулей нам всем известно.
Предположительно, роман с Константином Родзевичем был для Цветаевой последней попыткой обрести для себя нечто достойное в любовных отношениях. В результате, через пару месяцев был обретён полный провал.
Сначала Цветаева попрощалась с самой любовью, потом она описала прощание с любимым – «Поэма Горы» и «Поэма Конца» следуют именно такому «плану». Сначала обрушился мир, потом среди его обломков «исчез» и человек – тот самый, который в Цветаевой никогда не существовал «отдельно».
Читать эти поэмы означает вместе с Цветаевой умирать. В «Поэме Конца» слово смерть и вся смертная тематика употребляется чаще, чем слово любовь, а единственной победой выступает совместный плач, дом, здесь рушащийся дом – «домом рушащимся – слово: дом». Да и то сказать, где же этот дом? «Ведь нет никакого дома». Герои отправляются в последнее короткое путешествие – «Можно до дому? В последний раз!», где домом оказываются все те места, где они проводили время вместе: их гора, кофейня, улица, мост. Дом посреди улицы? Шагающий следом за влюблёнными дом?
В краткой пикировке или словесной дуэли героев «что такое любовь», продолжается «психоанализ» Цветаевой своего отношения к дому и к «счастью в дому».
Ещё в «Поэме Горы» Марина бросает перед собой этот вопрос, но лишь в «Поэме Конца», глядя в лицо любимому, диалогизирует и отвечает.
« - Помилуйте, это - дом?
- Дом в сердце моём. – Словесность.»
Но ни у каких влюблённых нет дома, в полном значении этого слова, все они – сироты.
«Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения. Это утверждение и составляет, в общем-то, сюжет начинающейся здесь книги.» - пишет Ролан Барт («Фрагменты речи влюблённого»). А мы добавим, и сюжет поэм Марины Цветаевой, аналогично.
И всё же искусство, является, пожалуй, единственной сферой, которая не «бросает» любовь на произвол судьбы окончательно, и поэмы Марины Цветаевой тому яркий пример, Марина находит язык, для передачи влюблённого дискурса – рваный, фрагментарный (ведущий свою традицию от немецкого романтизма), ритмичный и а-ритмичный, даже своей формой говорящий о переходах и смене чувств.
«Значит не надо.
Плакать не надо» -
посреди мысленных и реальных диалогов, звучит приказ себе. Потом уговор – нельзя плакать, потом отчаянье – уже почти плачу, и наконец, плач. Но как только начинает плакать и друг, любимый – победа! Это плач – вместе!
«Именно психология отдельного человека, то, что у него есть в голове, это и есть психика, которую изучает социальная психология. Никакой другой психики нет» - утверждал Лев Семёнович Выготский («Психология искусства). Но что у Марины в голове, яснее самой Марины никто не пишет.
«Нет пропажи
Мне. Конец концу!
Глажу – глажу -
Глажу по лицу.»
В мире для Марины существует только любовь, а в любви только «вместе».
Вот Цветаевская формула. «Все поэмы Горы пишутся так» - убеждена Цветаева. И все поэмы Конца – тоже.
Одиночество преодолено в том месте и в той последней точки своего накала или опустошения, где, казалось бы, оно должно было стремительно и навсегда обрушиться вниз. Но… уношу с собой то, что «неразрывно», что через разрыв, поверх боли, сильнее гнёта и давления. На фоне схождения с ума обретаю свою единственность и особенность, свою состоятельность и подлинную утверждённость в «тронном слове: мы».
Это самые крупные черты психологических механизмов, происходящих в душе Цветаевой. Трагедия или невротический конфликт? Имел ли Гамлет невротический конфликт? – Вправе ли мы так спрашивать? – Только если хотим найти ещё какие-нибудь дополнительные подспудные, неосознанные и спонтанные стимулы и импульсы, управляющие людьми. Но в Цветаевском круге света, которым она ясно освещает окружающий мрак, становятся красочно зримыми и чётко прочерченными любые тени.
«Влюбленный субъект обуреваем мыслью, что он сошел или сходит с ума. Я без ума от любви, но это не распространяется на возможность ее высказать, я расщепляю свой образ надвое; безумный в своих собственных глазах (мне ведом мой бред), я всего только безрассуден в глазах другого, кому я весьма разумно пересказываю свое безумие; сознающий свое сумасшествие, ведущий о нем речь. »(Р. Барт.)
Другой для Марины служит способом, которым она замыкает недостающие звенья в полноценный мир Бытия, в «Поэме Горы», Другой – это мир (свой или чужой), в «Поэме Конца» Другой – это другой человек (родной и близкий или же далёкий, чужой). Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир! Точка опоры.
«Есть влюбленные, которые не кончают самоубийством: из этого «туннеля», следующего за любовной встречей, я могу и выбраться, вновь увидеть белый свет — либо я сумею найти диалектический выход из несчастной любви (сохранив любовь, но избавившись от ее гипноза), либо, отказавшись от этой конкретной любви, я устремлюсь дальше, пытаясь повторить с другими встречу, которой я по-прежнему ослеплен: ибо она принадлежит к разряду «первых радостей» и я не успокоюсь, пока она не вернется; я утверждаю утверждение, начинаю заново, не повторяясь» (Р. Барт)
«Поэма Конца» - поэма Конца и Начала одновременно? Поэма освобождения?! Цветаева пишет, чтобы сохранив любовь, избавиться от её гипноза, пусть и самым тягчайшим и горчайшим для себя образом или же, чтобы отказавшись от конкретной любви, повторить свою встречу с другими «обрященными» вновь и вновь? Последнее, почти не представляется возможным для Марины. И мы видим ретроспективно, теперь, когда жизнь Марины уже прожита, насколько точно она предвосхищает своими чувствами будущее – я уверена «ты невозможен с другой» на самом деле означает я знаю «я невозможна с другим», нигде, никак, ни в каких смыслах. А вот Родзевич как раз показал потом, что он вполне возможен с другой, но для Марины сказать Другому фразу означает сказать её себе и для себя. Это – чистой воды «психоанализ через Другого», чистой воды герменевтический круг.
Когда мы читаем поэму, мы не всегда понимаем «кто» «что» говорит, души – близки. Они резонируют друг в друга, создавая купол притяжения и натяжения. Но биполярное поле этого купола мы наблюдаем через монаду единой Марининой души, - тот оборот, который совершается после каждой фразы собеседника в её Психеи либо молниеносно выписан её поэтической лестницей либо подразумевается воспринятым в читателе через косвенные эмоционально-рефлексивные фразы («голос лгал – мозг сигнал»). Точки, в которых читатель должен остановиться и обратить внимание на что-то важное, Марина «врубает» в нас, что называется «не пером, а топором» - и мёртвый услышит! Так вопеть…
Между тем, в реальности-то она произносит очень мало слов. Её собеседнику, как раз достаётся немногое, быть может «неуловимые наития» и резкости движений, а нам, читающим – всё, мир.
По соревнованию «преувеличенности жизни в смертный час» Марина не знает равных. Некоторую подобную «психологическую монаду» мы можем наблюдать только у Пруста, в его произведении «В поисках утраченного времени». Пусть с Мариной он не совпадает ни в тональности, ни в темпоральности, зато совпадает в умелом создании линз для «телескопов и микроскопов человечьих душ». Марина, правда, больше всего анализирует себя, но Пруст направлен в ту же сторону, только с более широким охватом.
«Желая забыть человека, мы находимся в том состоянии, когда наша память делает все наперекор данному желанию» (М. Пруст).
А наше творчество, если оно возможно, помогает нашей памяти))).
Трудно давать психоаналитический анализ души такого человека, который пишет: «И, похоронив - смеюсь». Смеюсь над гробом, пою из-под надгробия своей Горы. Гора меня привалила, а я пою. Меня хорошо слышно, так хорошо, как не бывало, быть может, и в моменты счастья. Что это? Маринина особенность или всеобщий психологический момент? Смех сквозь слёзы, торжество на руинах, обретение в прощании. Так пишутся все поэмы Горы и Конца! – значит всеобщее. Хотя и нигде не встретишь. Но и одной Марины достаточно. Достаточно.
«Обладая здравым рассудком, мы должны понимать, что страдать можем лишь из-за тех, кто достоин этого» (М. Пруст). Цветаева искренне считает, что общается и умирает из-за равного.
«Оди-накового
Моря – рыбы! Взмах:
… Мёртвой раковиной
Губы на губах.»
Эти ещё живые в «Поэме Горы» губы превращаются в уже мёртвые в «Поэме Конца», но образ стабилен и неотвязчив и кочует сквозь страницы произведений. Очевидно для Марины он тот самый знак, сигнал, символическая характеристика полноты чувств и желаний, близости. Но нынче ничего этого уже нет и символ свидетельствует.
«Однако, если мне удается благодаря владению письмом высказать эту смерть, то я начинаю возрождаться; я могу проводить антитезы, издавать восклицания, я могу петь: «Надежда как лазурь была светла — Надежда в черном небе умерла» и т. д.» - порой кажется, что Барт описывает именно Маринино творчество. Но на самом деле, действительно, все Концы «пишутся так».
Одиночество…
В момент, когда подступает одиночество, Марина говорит: я ещё жива, я ещё сильна. Есть некоторая горькая ирония судьбы в том, что закат нужно испытывать в самом рассвете своих творческих сил. На момент встречи с Родзевичем в 1923г., Марине – 31 год, роман длится не более трёх месяцев, в начале 1924г Марина пишет «Поэму Горы», в середине этого же года – «Поэму Конца». Кажется Данте изрёк свои бессмертные слова «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу» точно в таком же возрасте – 32 года. Кто бы отследил почему так чётко совпадают даты и пункты переломов жизненного пути у гениев? Даты смерти, даты «вторых рождений» - рождений по духу. Вот где зарыты глубокие психологические закономерности! Мы ещё слишком юны и наивны, чтобы их понимать.
Свидетельство о публикации №119012507534