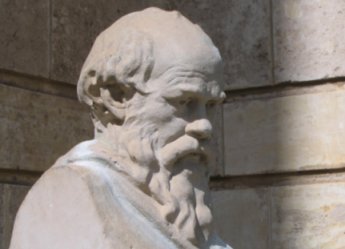Первый вопрос
Всё это, Мераб, вполне справедливо замечает и обозначает как наши заблуждения насчёт философии. Ведь эмпирически то мы всегда утверждаем как раз обратное: известно, что у нас есть специалисты по конкретным философам и их философиям, считающие себя вполне компетентными людьми, и кроме того, есть так называемая история философии, изучаемая как предмет в высших учебных заведениях, то есть, мы всё равно, получается, существуем в режиме перманентного обмана самих себя и окружающих, в режиме нашей "учёной некомпетентности" насчёт истинной природы философии.
Но можно ли её вообще изучать?
То, что ею можно заниматься было несомненной константой для любого древнего грека, а также предполагалось, что можно и изучать, раз софистам платили такие бешеные деньги за "обучение истине". Однако вовсе не все видели в софистах "учителей мудрости", способных передать свои знания в короткий срок любому желающему - то есть в плане "можно ли изучить", древнегреческое общество уже раскалывалось. Заниматься то можно и это прекрасно, а вот научить с готовым конечным результатом, с обязательствами, что результат непременно будет - дело обстоит сложнее. Значит, по верхам древнегреческого общества текли такие же волны, какие мы узаконили для себя сейчас в нашем обществе - поступай в институт, получай корочку, называй себя философом - такая вот установка на то, что можно. А вот Сократ говорил: нельзя. И он, пожалуй, был единственным, кто определённо отвечал на этот вопрос - нет.
Но такой ответ предполагает в реакции на него сразу же тысячу наших возмущённых и недоумённых вопросов в последствии, и первый из них - почему? Почему можно изучать математику, но нельзя изучать философию?
И какое место здесь вообще занимает "технэ" - искусство мыслить - мастерство? И если философов нельзя читать ни в одиночку, ни по порядку, то как их читать?
На вопрос "почему" трудно прямо отвечать "потому", но я всё же попытаюсь.
Думаю, что философия для далёкого от неё человека должна начинаться не с ряда философов и не с отдельных лиц и имён, а с попадания в... и ощущения некоторого более напряжённого поля мысли - то есть с пространства, но пространства довольно особого - уникального пространства, в котором собираются "заряды" и бьют "молнии". С чего-то наподобие атмосферного фронта, несущего в себе и будущую бурю, и громыхание грома и сверкание молнии, и в тоже время и насыщенного сполна дождевой влагой. Я здесь привожу аналогию, это понятно. И всего лишь снова следую за своим любимым Сократом, который обучать всегда отказывался, но никому не воспрещал ходить за ним и находиться в поле возникающих бесед и диалогов - очевидно, Сократ интуитивно догадывался, что лишь так и возможно в достаточно обычном, неподготовленном человеке, обнаружить подлинный интерес, то есть ожидать того, что он вдруг "проклюнется", загорится в своём участии и любви к мудрости.. А кто не проклюнется, значит, это не его, сколько ты не повторяй, что философия присуща всем, что человек по природе своей метафизичен, - если для конкретного человека это не будет актуально "здесь" и "сейчас", то его потенциальная возможность мыслить в силу того, что он человеческое существо вообще и по природе своей разумен, всё равно нам не поможет. И есть у меня такие подозрения, что Сократ об этом каким-то боком догадывался. Сократ, для входящих в его диалог, всегда ставил самые жёсткие условия - я имею в виду не для тех, кто с ним разговаривал, а для тех, кто ещё только собирался с ним говорить. "Входной билет" - был достаточно дорогостоящим. Так только кажется, что в диалог попадал всякий - отнюдь. Если мы внимательно присмотримся ко многим диалогам Сократа то увидим, что Сократ по несколько раз переспрашивает тех, кто собирается с ним говорить или с кем он собирается беседовать - ты согласен отвечать? ты хочешь выяснить это? ты будешь следовать за мной? - и всё тому подобное. И лишь тогда, когда собеседник проходил этот "набор первичных допущений" Сократа - начинался сам диалог.
Здесь на примере Сократа мы видим вполне осуществлённую и реализованную мысль Мераба - о том, что недостаточно просто хотеть - недостаточно захотеть и начать мыслить, недостаточно захотеть полюбить и начать любить. Одного произвольного желания мало. Поэтому, встречаясь с будущим своим собеседником, Сократ не удовлетворяется ни тем, что он сам бы с удовольствием начал говорить, ни тем, что встречный имеет такое же желание, но Сократ всегда обговаривает ещё и "дополнительные условия" возможности вести не пустой разговор. Ведь это трудно. Сам Сократ прекрасно об этом знает, но испытывает своих собеседников - насколько готовы они - к труду, к трудностям, насколько велико их устремление - настолько ли, чтобы преодолевать все эти препятствия?
Значит, смотрите, есть сфера или поле философского "грозового фронта", который волен и молниями сверкать порой, а волен и летним дождиком ласковым выпасть - беседа может доходить и до жёсткого противостояния, чреватого насыщенными разрядами, и может быть тёплой, сладостной, утешительной для души. Это как бы её границы - от одного предела до другого. И эту сферу, этот фронт - надо ещё сотворить - Сократ творит её вместе с выбранными им собеседниками. Когда же она уже есть, то всякий желающий, всякий проходящий может окунуться в её ощутимое присутствие и решить нужно ли это ему и интересно ли это ему. Итак, новичок, начинает с уже сотворённого фронта - с поля, с пространства мысли вообще, с иного режима существования. И здесь, на этой черте, проверяет себя - его ли это потребность? Ибо, если нет и не обнаруживается тождества личного желания и устремления вот к этому облаку или фронту мыслительных проблем и вопросов, то нет даже и самого вопроса о философии. Об обучении мы здесь ещё не говорим. Говорим и выясняем - присутствуют ли начальные необходимые условия для того, чтобы поставить вопрос о возможности мыслить. И вот находятся "приоритетные люди", я имею ввиду "приоритетные" в данный миг для Сократа, а не приоритетные вообще, которые проходят данный первый барьер начальных условий - они отвечают для себя положительно - я хочу, мне интересно, я буду, и оказываются в облаке, и творят его в соучастии вместе с Сократом.
Поэтому к чёртовой матери, ваши нелепые вопросы о философии, если они у вас возникнут, они неправильно поставлены и в целом "не о том" - подлинные вопросы выстраиваются не так. Первый подлинный вопрос, касающийся философии и подсказанный нам Сократом, звучит следующим образом: ощущаешь ли ты обращение к философии и философским вопросам как своё собственное подлинное устремление? Скажем так - как страсть или импульс?
И вот, если мы отвечаем на него положительно, вот только тогда я могу переходить ко второму подлинному вопросу и писать о нём, как и Сократ только тогда мог начинать беседовать. А так, стоит ли утруждаться...
Свидетельство о публикации №118010501511