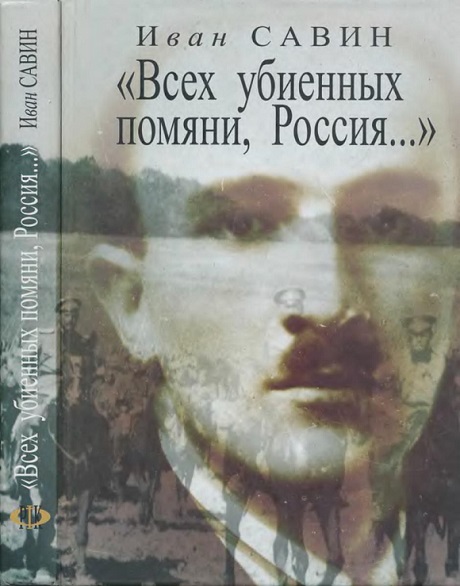Письмо в Финляндию
для возвращения в Россию творчества
Ивана Савина, поэта Белой мечты.
Поэта нет, – сей мир давно
Запорошил его снегами,
Укрыв в холодной глубине.
А Вы стремитесь всё равно,
Чтоб окрылёнными стихами
Явился он родной стране.
Спасибо Вам! Стремленье это
Достойно лучшей из наград.
Душа российского поэта
Сквозь Гельсингфорс и Петроград,
Сквозь крымский жар
И финский холод
Глядит на нас. Неповторим
Был светлый дар его, и молод
Он сам, а созданное им
В литературные анналы
Вошло свидетельством времён,
Где обращали трибуналы
Свой гнев на тысячи имён
Из списка смертью опалённых.
Но полно, полно… Те года
Запечатлелись навсегда
В его рассказах исступлённых,
В его отчаянных стихах.
Спасибо Вам! Вы их достали
С архивных полок, что хранят
И боль сердец, и мыслей яд,
Нашли в газетных ворохах
Под грудой пороха и стали,
Незримо давящей на всех,
Захлёстнутых гражданской бойней.
Спасибо Вам за этот труд!
Отныне может спать спокойней
Душа поэта, – не умрут
Его пронзительные строки,
Его терзания и смех,
Его жестокие уроки,
Став откровением для тех,
Кто предан Белому движенью,
Кто словом, делом и мечтой
Еще живёт в эпохе той
И не склонился к пораженью.
_________________
* В 2007 году Росийским Фондом Культуры была издана книга Ивана
Савина "Всех убиенных помяни, Россия...", над составлением которой
мне посчастливилось работать вместе с Элиной Каркконен (Хельсинки)
и Виктором Леонидовым (Москва, Дом Русского Зарубежья).
Иван Савин – представитель юного поколения России, сожжённого в
пекле Гражданской войны, на которой он потерял двух сестёр и
четырех братьев. В 19 лет он записался добровольцем в Белгородский
уланский полк Добровольческой Армии, попал в самую мясорубку, – за
два года боёв полк сменил три состава. В ноябре 1920 года, заболев
тифом, Савин не смог эвакуироваться из Крыма и оказался в красном
плену. О том, что творили коммунисты на захваченной территории,
о массовых убийствах офицеров и интеллигенции, о голоде, грабежах,
издевательствах над самой человеческой сущностью Савин поведал нам в
цикле очерков "Плен", в потрясающих по реалистичности статьях и
рассказах и, конечно, в стихах. Как ему удалось вырватся из чекистских
тисков, добраться до Петрограда и выехать в Финляндию (он был финном
по отцу и русским по матери) достойно пера Дюма или Конан Дойля.
В эмиграции ему было отпущено на творчество всего лишь шесть лет, но за
это время он стал любимым автором для сотен тысяч русских эмигрантов,
поэтом Белой мечты, чьи стихи переписывали от руки и переиздавали
на последние нищие гроши на протяжение всего 20–го столетия.
Элина Каркконен, родившаяся в России и уехавшая в Финляндию уже в
перестроечные годы, совершила настоящий подвиг, собрав по крупицам в
зарубежных архивах творческое наследие Ивана Савина. Итог её работы
– том стихов и прозы "Всех убиенных помяни, Россия..."
Савин умер 27 лет от роду (лермонтовский возраст!) от неудачной
операции, его последними словами стала фраза "Произведённый смертью
в подпоручики Лейб–гвардии Господнего полка..." Он, воевавший
рядовым, мечтал быть офицером и сделался им в сознании своих читателей!
Иван Савин –
стихотворение "Первый бой":
Он душу мне залил метелью
Победы, молитв и любви…
В ковыль с пулемётною трелью
Стальные летят соловьи.
У мельницы ртутью кудрявой
Ручей рокотал. За рекой
Мы хлынули сомкнутой лавой
На вражеский сомкнутый строй.
Зевнули орудия, руша
Мосты трёхдюймовым дождём.
Я крикнул товарищу: «Слушай,
Давай за Россию умрём».
В седле подымаясь как знамя,
Он просто ответил: «Умру».
Лилось пулемётное пламя,
Посвистывая на ветру.
И чувствуя, нежности сколько
Таили скупые слова,
Я только подумал, я только
Заплакал от мысли: Москва…
1925 г.
"ПРОИЗВЕДЁННЫЙ СМЕРТЬЮ В ПОДПОРУЧИКИ ЛЕЙБ–ГВАРДИИ ГОСПОДНЕГО ПОЛКА..."
В начале 1990–х годов на волне возвращения в Россию культурного наследия первой эмиграции в ряду многих ярких имен произошло и открытие современным российским читателем творчества Ивана Савина – одного из выдающихся представителей зарубежной ветви отечественной литературы, чей высокий талант и трагическая судьба приобрели когда–то поистине символическое значение.
Да, восемьдесят лет назад, в первое десятилетие после Гражданской войны, имя этого человека было широко известно в безбрежной массе русских изгнанников, огромное число которых принадлежало к образованным, читающим слоям общества. «Поэтом Белой мечты» называли его в военной, белогвардейской среде. «…То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе… » – утверждал Иван Бунин, написавший на раннюю смерть поэта пронзительный, щемящий сердце отклик.* Трижды – уникальный случай в литературном зарубежье! – единственный прижизненный сборник стихов Савина «Ладонка» издавался на деньги, собранные по подписке офицерами–галлиполийцами. В 1988 году, в Нью–Иорке, супруга поэта Л.В.Савина–Сулимовская, уже в преклонном возрасте, составила и выпустила в свет книгу стихов и прозы «Только одна жизнь», долгое время являвшуюся наиболее полным изданием его сочинений.
Когда же – впервые после многолетнего забвения – на страницах российских журналов появились произведения Ивана Савина, то возникала уверенность – ещё немного, и творчество его вернется к нам в самом значительном объёме, как это произошло с Георгием Ивановым, Одоевцевой, Поплавским… Увы, возвращение затянулось.
Лишь в 1998 году издательством столичного Дома–музея Марины Цветаевой была выпущена крошечным тиражом книга «Мой Белый витязь», включившая, впрочем, основной корпус стихов героя этой статьи. Прозе Савина не столь повезло: десяток рассказов и очерков – вот всё, что было опубликовано на родине. Между тем, прозаическая часть его литературной работы заслуживает внимания не меньшего, чем поэзия. Да и сама жизнь поэта Белой мечты ждет ещё своих внимательных и чутких исследователей.
* * *
Иван Савин родился в 1899 году, в Одессе. Детство и юность его прошли в городе Зенькове Полтавской губернии. Подлинное звучание его фамилии – Саволайнен. Дед по отцовской линии был выходцем из Финляндии, мать принадлежала к старинному молдавскому роду. Вскоре после рождения мальчика родители разошлись, однако семья, в которой он рос – родные и сводные братья и сёстры – была очень дружной. Четыре брата, две сестры… Все они погибли в кровавом молохе революционной смуты: братья – сражаясь в рядах Добровольческой Армии, сёстры – «одна догорела в Каире, другая на русских полях…», как писал сам Иван в одном из своих стихов.
Летом 1919 года, при очередной волне наступления Белых войск, он, недавний гимназист, записался вольноопределяющимся в Белгородский уланский полк – одну из возрождённых частей Императорской Армии в составе Вооруженных Сил Юга России. И всё же рейды, конные атаки, решительный, победоносный рывок Белых к Москве, тяжелый зимний отход к Новороссийску, эвакуация в Крым и последний «врангелевский» период борьбы – стали лишь грозной прелюдией к последующим событиям в жизни Савина.
Это было в прошлом на юге,
Это славой уже поросло, –
В окруженном плахою круге
Лебединое билось крыло…
В момент прорыва красными перекопских укреплений он метался в тифозном бреду на койке джанкойского лазарета. Далее – плен, большевицкий плен, не знавший ещё себе равных по людоедской жестокости и полному забвению всех нравственных норм, всех Божеских заповедей. То, что ему удалось выжить в крымской мясорубке, устроенной по указу кремлевских вождей, иначе как чудом не назовёшь, – из десятков тысяч пленных выжили тогда единицы. Позднее он с горькой, обжигающей иронией так опишет свои мытарства:
«…С осени 1919 года по осень 1921 блуждал по Дону, Кубани и Крыму и увлекался спортом: первое время верховой ездой и метанием копья, затем – после поражения на Перекопской Олимпиаде, заставшего меня в госпитале – увлекательными прогулками по замёрзшей грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в подвалах, особо и чрезвычайно для этого устроенных…».**
Там же, в Крыму, в одном из чекистских застенков были убиты двое братьев Ивана – Михаил и Павел, два других – погибли раньше, на фронтах Гражданской. Сам же герой этого очерка спасся благодаря помощи бывшего сослуживца–улана, оказавшегося теперь на красной стороне и попавшего в охрану. Обретя свободу, то есть избежав порции «ленинских пилюль» (так тогда назывались пули расстрельщиков) и выйдя за пределы концлагеря, Савин добирается до Петрограда, где встречается с отцом. Вместе они, пользуясь финским происхождением, ищут возможности выезда за рубеж, в Финляндию. Такая возможность представилась: в начале 1922 года Савин – в Гельсингфорсе. Работает на сахарном заводе, сколачивая ящики тары, и… пишет в русские газеты и журналы.
Слишком острые и жгучие впечатления дало ему время Гражданской войны и особенно последний – странный и страшный год жизни в большевицкой России, слишком сильным было желание выложить на бумагу переполнявшие его мысли и чувства.
Кто украл мою молодость, даже
Не оставил следов у дверей?
Я рассказывал людям о краже,
Я рассказывал Богу о ней.
Я на паперти бился о камни, –
Правды скоро не выскажет Бог.
А людская неправда дала мне
Перекопский полон да острог…
«Книга былей», «Дым отечества», «Крымский альбом», «Плен»… – это циклы рассказов Ивана Савина, художественные свидетельства происходившего в родной стране, всего виденного и пережитого. Красной нитью через всё его творчество проходит осмысление собственной, глубоко личной драмы: история любимой девушки, оставшейся в советской России и вынужденной отдавать себя новым хозяевам жизни в буквальном смысле – за кусок хлеба.
«Если когда–нибудь эти строки – чудом ли, невнимательностью ли советского цензора – задрожат в Ваших руках, не гневайтесь на меня за то, что острым скальпелем вскрываю Вашу заплёванную душу… Поверьте, жалкая, поверьте, упавшая в красный хмель, – Ваш грех не радостен. Как распятие, как бешено свистящий бич, как удушье долгого издевательства – мучителен Ваш девичий, Ваш детский, Ваш безрассудный грех. Поймите, безумная, – Вас много, слишком много. Вас – тысячи, миллионы безвольных, преступно слабых, но все вы невиновны в преступлении своем. В каждой из вас – слив кровавой грязи, позора и безнадёжности, и над каждой из вас – еле видный, смутно–белый венчик Божьего прощения...».***
Прозаические произведения Савина – небольшие по объему, очень ёмкие, с пульсирующим внутренним нервом, и это заставляет читать их, не расслабляясь, не снижая сразу же возникающего напряжения. Они словно бы электризуют читателя, особенно читателя сопереживающего, способного понять и разделить боль автора за униженную, раздавленную большевизмом страну. По непримиримости к самой сути революционного эксперимента, по скорби о безвозвратно ушедшей, канувшей в никуда, прежней, горячо любимой родине, проза Савина сближается с дневниками Бунина, с его «Окаянными днями». Но это сближение – внешнее, ведь Бунин всё–таки – наблюдатель, а Савин – участник, более того – жертва гражданского противостояния.
«Когда стало темнее, и от перил упали на Сиваш лиловые тени, на мосту показалась толпа пленных калмыков. Раздетые донельзя, с выбитыми зубами и кровавыми ссадинами на лицах, они шли, испуганно ёжась друг к другу, шли молчаливо и горестно, как будто знали, что впереди – смерть. Их сразу же заметили.
– А, калмычата, здорово, ребята – весело и даже, как будто, ласково, крикнул один из тех, что во всём красном, маячили у будки, когда я подходил к мосту (как оказалось потом – член реввоенсовета XIII армии).
– Да здравствует победоносная Белая армия! – и, видимо, страшно довольный своей остротой, сильным ударом нагайки сбил с ног переднего калмыка и сбросил его с моста в воду. Повернувшись в воздухе, калмык грузно шлепнулся в самую слизь Сиваша, барахтался в ней до тех пор, пока его не пристрелили сверху. На мост быстро сбежались остальные члены реввоенсовета.
– Что за выстрелы?.. А, калмыки...
– На, закури! – предложил почти голому калмыку юркий прыщеватый парень в красных гусарских чакчирах папиросу, всунув её в дуло нагана. Калмык курить отказался и с гортанным криком полетел в Сиваш, обрызгав кровью камни... Ещё выстрел... Ещё… Через десять минут на мосту не осталось ни одного калмыка. Кровавые пятна мутно расползались по гиблой, мертвой воде Сиваша...».****
В 1926 году Обществом галлиполийцев был издан стихотворный сборник «Ладонка», принесший Савину признание самых разных эмигрантских кругов – и литературных, и военных. «Белым офицером в поэзии» назвал его один из рецензентов, и это был не просто красивый словесный оборот, – такие слова надо было заслужить! Иван Савин заслужил их своей жизнью и творчеством в полной мере.
«Произведенный смертью в подпоручики Лейб–гвардии Господнего полка…» – эта случайная строчка вырвалась из–под его пера в гельсингфорской больнице летом 1927 года, когда он медленно и мучительно умирал от заражения крови после несложной операции. Надежды на выздоровление не было. Юная жена поэта, пережившая его на многие десятилетия, забрала умирающего домой, и он скончался у неё на руках на рассвете августовского дня.
«Я молю Бога, чтобы он, умерший 60 лет тому назад, дотронулся как живой до вашего сердца. Но сознаюсь, что иногда мне делается страшно… Поймут ли сегодня люди, как искалеченный юноша–поэт на пороге смерти до конца бил в один и тот же, дорогой и нам колокол?..» – писала в 1988 году Любовь Владимировна Савина–Сулимовская в предисловии к американскому изданию стихов и прозы своего мужа.
Поймут ли сегодня люди в новой, постперестроечной России боль и гнев, нежность и скорбь, радость и муку поэта Белой мечты? Разделят ли его веру в конечное торжество Божественной справедливости? Пусть эти вопросы останутся открытыми. Время покажет. И пусть эта маленькая статья станет ещё одной скромной данью памяти человеку, написавшему однажды удивительное «Завещание» своему будущему внуку, где есть такие слова:
«Когда я смотрю в карие, черные, синие глаза тех, кто вместе со мною стучится у чужих ворот, мне кажется, что это – карие, чёрные, синие чашки слёз. Вероятно, потому мы так осторожно, пугливо ходим – боимся пролить... Если бы нашёлся такой чудак, который устроил бы выставку русских улыбок, – произведения наших губ были бы по очень высокой цене раскуплены матерями капризных детей: этими судорожными гримасами они пугали бы шалунов так, как нас пугают Чекой, ты не знаешь, что это такое? И не надо знать! Ваши химики, конечно, уже изобрели способ концентрации любого из человеческих чувств – своего рода сгущённое чувство. Так вот, если бы сконцентрировать в одной точке весь русский стыд наших лет, всю нашу боль и палящее сожаление об утраченном, Вселенная обогатилась бы таким острым алмазом, который резал бы голубое стекло неба…».*****
* Бунин И.А. «Публицистика 1918–1953 годов», ИМЛИ РАН «Наследие», М., 2000 г., стр.251.
** «Мой Белый витязь…», М., «Изограф», Дом–музей Марины Цветаевой, 1998 г., стр.9.
*** Иван Савин, Письмо, «Русские вести», 12.12.1922 г.
**** Иван Савин, Чонгарский мост, «Русские вести», 03.12.1922 г.
***** Иван Савин, Завещание. Моему внуку, «Только одна жизнь», Нью–Йорк, 1988г.
Свидетельство о публикации №117102304040