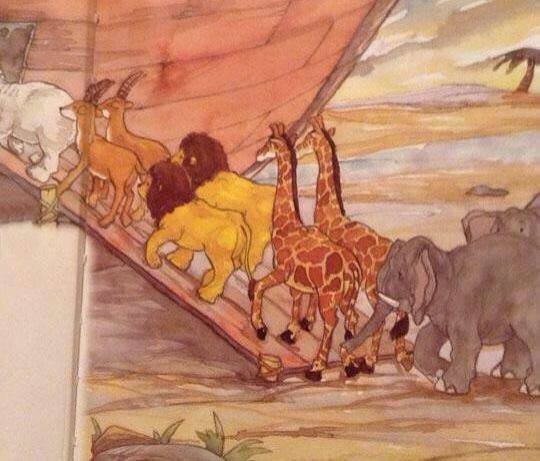Новый ковчег - роман
Мыши серые, сытые, гладкие, бархатные, две штуки, черные бусинки глаз в мордочки впаяны – сидят в углу и смотрят неотрывно на Бориса Никитича, усталого и хмурого, трагически больного человека. Смотрят бездуховно, бездарно и завистливо, как современные поэты Петербурга.
Борис Никитич протянул неверную с похмелья руку и похлопал широкой ладонью по тумбочке, по звонким ложкам, по хрустким таблеткам, понимая смутно, что на тумбочке имеются не только знакомые вещи. Что-то забренчало, зазвякало костляво и скучно, однако шлепнулось на пол, как нечто вязкое и тяжелое. Борис Никитович подумал, что если бренчит, то падать тоже должно звонко, а если падает шлепком, то не должно бренчать. Он захотел повернуть голову, чтобы понять причину абсурда, но не смог - голова не повернулась. Она легла отдельно от руки на подушку. Борис Никитич мучительно выпучил глаза и увидел возле носа конфету «чупа-чупс» - леденец на палочке. Правая рука медленно, как ковш экскаватора к лебединому перышку, приблизилась к конфете, пальцы подцепили тоненькую палочку только с третьей попытки и поднесли конфету к глазам. Борис Никитич признался себе, наконец, в том, что лекции студентам сегодня он читать не сможет.
«Надо бы вызвать врача», - равнодушно подумал он и попытался сесть в кровати. Это удалось, ободрило его, он боевито подумал: «Ничего страшного, пусть за меня почитает Александр Васильевич. Я его тоже прикрывал. Правда, потом будет смотреть через очки как эти мыши…
- Сыты вы? А? Голодные? Нате, дурочки! - сказал Борис Никитич и аккуратно, чтобы не напугать мышей, подкинул в угол развернутую конфету. Конфета брякнула о паркет, как выстрел, но мыши не испугались, даже не шелохнулись, не обратились в бегство и конфету есть не стали.
-Глупые, - вздохнул Борис Никитич и решил встать с кровати, чтобы улучшить состояние своего организма или хотя бы проверить, какое это состояние.
-Мир сошел с ума, - бубнил он, поглядывая в сторону мышей. – Чего сидите? Сидят, ждут . А чего ждете? Манны небесной? Ешьте конфету! - велел Борис Никитич и стал одевать штаны.
- Борюсик! Ты встал? – услышал он голос супруги Неонилы Савовны.
- Встал, - тихо буркнул Борис Никитич, - Теперь еще ты.
- А с кем ты разговариваешь? По телефону? – кричала жена из кухни.
- А если и по телефону! – взвился внезапно Борис Никитович, - То зачем спрашивать?
Громкий возглас повредил голове, она возмущенно загудела басом изнутри, и Борис Никитич схватил ее двумя руками за бока и сжал, чтобы утешить.
Неонила Савовна промолчала и несколько секунд спустя осторожно заглянула в комнату. Ее черные кудряшки сразу затмили белый день, и Борис Никитич чуть не разрыдался, увидев их.
- Что случилось? – запела Неонила Савовна, будто бы Борис Никитич, пожилой профессор, не был вчера вдрызг пьян.
- Да вон… мыши тут… Сидят…- он кивнул в угол.
- Где?- прошептала Неонила Савовна.
- Вон – две. Чаю мне налей, пожалуйста. Благодарю.
Неонила Савовна на цыпочках, как молодая ловчая кошка или крупная опытная рысь, вошла в комнату, почти бесшумно подплыла к углу, прячась за саму себя и вперилась испепеляющим взглядом в угол. Она постояла в высоковольтном напряжении несколько секунд и вдруг бессильно рухнула в кресло.
- Что это ты? – недовольно спросил Борис Никитич. – Налей мне чаю. Будь добра.
- Что жшшш… мыши?– прошипела в ответ Неонила Савовна – Вопроссс… Тебе нужен враччч?
- Что ты так шипишь?
Борис Никитич даже не понял смысла слов, но отметил про себя, что, когда человек хочет шипеть, значит, он ядовит, как змея. И тогда он подбирает слова с шипящими звуками и, следовательно, шипящие звуки – в них все ж есть опасность… некая - да-да! - неприятная сущность одинакова и у звуков и у тех людей, кто ими пользуется.
- Дай мне чая, я хочу пить, - раздраженно попросил он жену. – Разве не видно, что мне плохо?
- Еще бы, - кивнула Неонила Савовна, - Очень даже видно.
Она резко вскинула свою черно-кудрявую голову:
- Борис! В своем ли ты уме? Это два носка, Борис! Если бы даже они были мышами, то,то… они были бы не мышами, а - крысами! Или котами. Они же огромные, Борис!
- Кто? Эти носки? – поднял брови Борис Никитич.
- А мыши ведь маленькие! Ты что, Боря? Разве тебе они кажутся маленькими, как мышки? Вот это посмотри, носки, они тебе кажутся маленькими мышками? А?! Не крысами?
Неонила Савовна указала перстом в угол, впиваясь угольными жесткими глазами в глаза Бориса Никитича.
- Мышки, да, серые, бездарные, глупые, как наши поэты, - кивнул Борис Никитич.
- Ясно… То есть, ты считаешь, что мыши бывают такими крупными…
- У нас никогда не было мышей. О чем ты ведешь разговор? И - зачем? – возмутился Борис Никитич. – Я опаздываю.
- Это все твои стишки! – сокрушенно кивнула Неонила Савовна, - Они до добра не доводят. Всех погубят: и тебя, и меня. Особенно по вторникам, когда эти паразиты – поубивала бы их всех – собираются на пьянки!
Сделав трагическую, душераздирающую паузу как профессиональный лектор для студентов, Неонила Савовна всхлипнула, задрала подбородок и пошла на кухню готовить завтрак профессору технического университета. В том всхлипе не было никакой игры, только абсолютно искреннее горе верной супруги, на глазах теряющей своего достойного мужа, который вдруг взялся писать стихи, и попал в дурную компанию.
ххх
-Нет, дорогая моя, меня не проведешь, - бубнил Борис Никитич, спускаясь по полутемной лестнице, цепко перебирая руками перила. – Я творчество за твои котлеты не продам.
- Борюсик! – зазвенело вдруг сверху так молодо и счастливо, что Борис Никитич привычно заулыбался в ответ.
- А?
- Ты зонтик взял? На улице ливень.
- Нет.
- Сейчас…
Наверху, там, где вне времени трескучий голос Неонилы Савовны всегда превращался в молодой и влюбленный, хлопнула дверь, и Борис Никитич подумал, что через час-другой он все же смог бы скушать пару домашних котлет, а потому следовало взять их с собой.
Шлепанцы Неонилы Савовны, как две метлы, зашаркали вниз по ступенькам.
-Борюсик, стой там, я несу тебе зонтик и котлеты. Съешь в институте, тебе полегче станет. И больше не пей. Иначе я не только к ректору пойду на прием, но и в этот ваш союз писателей. Борюсик, я не шучу…
Неонила Савовна замедлила шаги, понимая, что при быстрой ходьбе не успеет всего сказать.
- Предупрежденный вооружен. Официально предупреждаю не только тебя, Боря, но и всех твоих стихоплетов. Я это сделаю. И не поздоровится всем.
-Тебе и не поздоровится, дорогая, - ответил Борис Никитич, с трудом задирая голову вверх. – Ты скоро?
-Я буду вынуждена рассказать начальству всю правду во имя спасения тебя, меня, нашей семьи, твоей чести, достоинства и деловой репутации. У нас дети, Боря! Какой позор – пьянство! Ну и, конечно, я забочусь и о твоих собутыльниках и алкоголиках тоже.
Борис Никитич проглотил обиду и, придерживая рукой затылок, взирал наверх, пытаясь понять, на каком этаже находится супруга и как много она еще успеет сказать, спускаясь.
- Борис, мы вчера с участковым еле вытащили тебя из сугроба во дворе. А если бы ты замерз? Если бы мы тебя не нашли, ведь там плохое освещение! Я вынуждена посоветоваться с Лавром Петровичем о таком твоем поведении по вторникам…
- Ха! А то он не знает, - обрадовался Борис Никитич. – Он с нами был и пил больше всех.
Шаги затихли.
- Лавр Петрович?..
- Лавр Петрович!
- Лавр Петрович - пил?..
- Пил! И ел!
- Ректор?! Был ссс вами? – прошептала Неонила Савовна потеряно, и шаги ее затихли.
- Еще как с нами! И в сугробе лежал тоже! Лавр твой Петрович… Хочешь, приглашу его к нам, он почитает свои новые стихи. Бред один, а не стихи.
- Ректор придет читать стихи? – прошептала Неонила Савовна так, будто жизнь ее внезапно оборвалась. Борис Никитич явно услышал, как от ее шероховатого шепота отслоилась и посыпалась с корявых стен подъезда сухая штукатурка.
- Да, а что такого? Ему за честь с нами выпить! Ведь какой он поэт, Нила? Никакой! Никакущий! Он же серый! Се-рый! Бездар-ный! Как мышь. Как крыса. Как носок. Точно! Как носок! Графоман твой Лаврик!
- Лаврик? – потерянно обронила Неонила Савовна. – Носок…?
Неонила Савовна сначала потеряла дыхание, а потом задышала тяжело и невнятно, как приближающийся тайфун, и Борис Никитич решил спуститься сразу на несколько ступеней ниже.
-Ладно, ладно, я без зонта пойду, зачем мне зонт, если зима, - сказал он и торопливо вышел из подъезда.
ххх
Борис Никитич присел на лавочку, стараясь вспомнить, какие у него сегодня лекции.
Зря он связался с этими поэтами. Доведут они его до позора. Выгонят его из института. Пожалуй что и Лаврика тоже выгонят. Что на них нашло-то такое – стихи писать…
Бледный, почти бесцветный паренек присел рядом. Видно, ждал свою девушку.
Борис Никитич пристально глянул на него из-под очков, - вдруг это его студент? - и незаметно распрямил на всякий случай плечи.
- Вы случайно не подскажете, как быть с русской литературой? – спросил серый парнишка, глядя мимо Бориса Никитичу в стену дома так, будто решил попытаться продырявить кирпичи взглядом.
- Что, простите? – растерялся Борис Никитич.
- Никого я не прощу. Что делать, не знаете?
- С литературой? А зачем?
- Зачем – это вас не касается. Вам вот что нужно сделать: нужно сломать четыре основных столпа, на которых держится этот дом, и все полетит.
- Какой дом? Вот этот – дом? – оглянулся Борис Никитич и кивнул на глухую, дряхлую, почти продырявленную взглядом парня кирпичную стену. – Позвольте, зачем же его рушить, там ведь люди живут… в доме-то этом…
- Потому нужно разрушить, чтобы не жили. Назовите мне имена этих четырех столпов.
- Нет уж, помилуйте, - недовольно отодвинулся от парня Борис Никитич, - С какой стати вы мне приказываете? Этот странный разговор, молодой человек, мне не к чему. Я, пожалуй, пойду.
Борис Никитич стал подниматься, но вдруг почувствовал, что у него нет ног и плюхнулся на скамейку, лязгнув зубами.
- Вы не знаете, кто они, эти четыре столпа? Поясняю: народ сам назовет вам их имена. Три вам уже известны, еще одно под вопросом, начинайте незаметно подпиливать.
- Не буду я ничего пилить! Оставьте меня в покое! Что вам нужно от этого дома, там же люди живут! Ирина Львовна, Семен Антонович, я их знаю… Там мощный фундамент! Там – подвал, бомбоубежище! Там в блокаду люди выживали! А теперь бомжи обитают… Им тоже надо выживать, таким людям! …Кто вы?!
- Уничтожьте, сожгите, оскверните, испоганьте, ославьте эти четыре опоры, провозгласите их зараженными, проклятыми, обманите всех и скажите, что столбы были гнилыми, больными, чтобы никто и никогда не захотел прикоснуться к этим четырем основам русской литературы. А доски и щепки меня не интересуют.
Парень поднялся. Нос его был перебит и на плоской, кривой переносице торчал катышом обрубок, чуть завалившийся вправо.
- Вы не об этом доме? О литературе?... Мне почему-то не встать…Я не знаю о литературе, я там посторонний человек. Так, в прихожей топчусь. А вот в этом доме крыша постоянно течет… Жалуются жильцы, что крыша ненадежная… Это очень плохо… Мне надо на занятия, меня студенты ждут… Разрешите мне пойти?
Парень пристально смотрел на Бориса Никитича мутными, как гнилые водоросли, глазами:
- Без опор крыша рухнет. Когда она рухнет, она раздавит всех, кто был в доме. Всех лишних. Они мешают. И потому будут уничтожены собственным своим великолепным творением. Крышу мы потом разберем, золото присвоим и переплавим его на мечи.
- Ну какое там золото! Я вас умоляю! Гниль одна! Это старые трухлявые чердаки. Этот дом в аварийном состоянии. Антон Ильич провалился в ванной, сломал ногу… Позвольте мне встать с этой скамейки…
-Да, мы переплавим гнилье на мечи, - железным голосом сказал парень.
- А с кем вы собрались воевать? - похолодел Борис Никитич, понимая, что попал в какое-то другое измерение.
- С Богом.
Борис Никитич нервно и судорожно сглотнул и вдруг блаженно заулыбался:
- А-а-а! Ну, понятно, понятно… А я-то думаю… А-а-а! Ну-ну… Вы уже и на улице ходите… Однако вы никогда не победите Его, - сказал он серому парню.
- Мы победим. Через тебя. Тобой. Посредством твоих мыслей, слов, чувств, дел. И через еще нескольких.
-Нет, - помотал головой Борис Никитич, - Никогда.
И снова заулыбался блаженно, как идиот.
Прищурив рыбно- ледяные глаза парень резко глянул на него.
-Нет? Не хочешь?
-Послушайте, молодой человек, если не трудно, называйте меня на «вы». Я с вами коров не пас, баланду не хлебал, на нарах не сидел, детей не крести. Такие, как вы, мне уже знакомы. Я просто забыл. Обычно вы в институт приходите. Я не боюсь. Просто не боюсь. Понятно?
Парень вдруг дернулся, подскочил со скамьи и злобно шипя, поспешил прочь.
Борис Никитич поболтал в воздухе ногами, проверив, чувствуют ли они что-нибудь, потоптался по земле, на удивление легко поднялся со скамьи и пошел в институт, шепча чуть слышно для невидимой Неонилы обещания больше никогда не пить с поэтами Петербурга. Только с Лавриком, единственно! – и почему? - потому что – ну, какой он поэт? Графоман! Такой же, как и профессор Борис Никитич.
Однако на Большой Конюшенной что-то с ним такое произошло снова, что он, поведя плечами, пританцовывая и глупо улыбаясь, все же свернул направо и ухватился за ручку железной двери, ведущей в союз писателей, так цепко, будто она была штангой.
На четвертом этаже в запущенной старинной квартире, выделенной питерским поэтам и писателям в качестве места для собраний, его встретил, как хозяин дома, Данечка - полунемецкий полуеврей или полурусский полуказах, так он говорил сам, хохоча и разделяясь в себе на четыре части. Перекатиполе Данечка приехал из Казахстана, где работал при правительстве экономистом и занимался приватизацией, а ныне руководил хозяйством союза писателей, сдавая в аренду комнатушки квартиры своим старым деловым партнерам.
Данечка - круглый, коротконогий и шустрый, как катышок, приветливо облобызал профессора Бориса Никитича и сладко заглянул ему в глаза, отчего Борис Никитичу захотелось проверить наличие в нагрудном кармане паспорта и бумажника.
Поэтом Данечка был никаким, но был он большим патриотом. Потому все его подозревали в воровстве средств и плагиате.
Борис Никитич сторонкой обошел Данечкин животик, стремящийся потереться об него и, бубня под нос что-то несвязное, пошел к Паше.
Паша жил по милости Данечки временно в дальней комнате-кладовке с маленьким оконцем, выходящим в глухую стену двора-колодца, и был любим и опекаем писателями и поэтами в качестве обделенного гения . Паша был очень талантливый поэт. Борису Никитичу было неудобно показать Паше свои стихи, но он все же решился, постучал.
-Да, - сказал Паша.
Борис Никитич открыл дверь и ничего не понял – на деревянных нарах, сколоченных в углу наподобие кровати, лежал лицом к стене Паша - в такой же одежде, что и утренний бесцветный паренек - синий школьный пиджак и бежевые вельветовые брюки.
- Прошу покорнейше извинить, Павел Августович…
-Проходите, проходите, тише, - донеслось шепотом от окна, - Не разбудите его, он всю ночь не спал.
Борис Никитич резко, по-птичьи вывернул шею, заглядывая через высокую тумбу с телевизором в сторону оконца. Паша сидел на подоконнике и курил в форточку.
-Я присяду? - потерянно прошептал Борис Никитич, - Я принес стихи.
- Давайте.
Паша взял мелко исписанные листики и принялся читать. Борис Никитич робко сел на краешек стула, как обычно приседают самые неуспевающие его студенты на экзамене и, косясь на лежащего на нарах парня, вздохнул, не выдержал:
-Все-таки, я извиняюсь, Павел Августович, это – кто лежит, спит у вас?
- Трудно сказать. Но лучше не будить его.
Паша прищурил умные, острые глаза и впился в листки. Он вдруг вытянулся, расправил плечи, потом потихоньку сполз с подоконника и встал возле оконца.
-Борис Никитич это вы писали? – спросил он тихо.
-Я.
- А почему вы стали так писать… Вы же, извините, раньше… я, конечно, тоже извиняюсь, но вы писали так сказать, никак.
-Что такое? В чем дело? - занервничал Борис Никитич, будто был на приеме у врача и тот заговорил на латыни о его болезни.
-Очень неплохо, - кивнул Паша, возвращая листки. – Очень неплохо. Продолжайте в том же духе.
-Хотелось бы подробнее, Павел Августович…
-В другой раз, мы сейчас мешаем ему. Пусть он поспит. Потом обязательно обсудим это. Новый поворот, новый взгляд…
Вдруг парень зашевелился, резко развернулся, потянулся, хрустнул тонкими руками и ногами и, взлохматив редкие волоски, сел на нарах.
-Жестко у тебя тут, - недовольно сказал он и зевнул.
-Жесть, - кивнул Паша.
Борис Никитич с ужасом впился глазами в перебитый нос, рыбьи глазки и торчащий на макушке серый хохолок. Беспомощно глянул на Пашу.
-Я пойду, пожалуй…
-Отчего же, попьем чайку, - предложил, как ни в чем не бывало парень. - Меня зовут Кай.
-Каин? – переспросил Борис Никитич, втайне надеясь что парень его не узнает.
-Кай он, - пояснил Паша, - Ищет свою Герду. Теперь все наоборот.
-Да, ищу! – с вызовом ответил парень. – Я здесь временно, и я найду ее пусть даже в царстве снежной королевы и с льдинкой в сердце! – воскликнул он театрально и залыбился, обнажая мелкие, острые, порченые зубки.
-Ясно, - кивнул Борис Никитич и засобирался.
-Выпьем? – спросил Кай.
-Нет! – отрезал Борис Никитич, резко, как солдат, поднявшись со стула.
-Присядьте, не торопитесь. Вы еще не представились.
-Борис Никитич, профессор технического университета, поэт, надеюсь, что - поэт…
-Это Лаврика, что ли подчиненный? – спросил парень у Паши.
Паша равнодушно кивнул.
-А как?
- Думаю, он стал первым, - сказал Паша.
-Черт знает, что творится... А ну дай.
Парень выхватил из рук Бориса Никитича листки и принялся читать.
-Черт знает, что творится, - повторял он, складывая прочитанные листки в раскрытые ладони Паши. – Глянь!
Паша принялся послушно читать, поднимая брови, будто видел листки впервые.
-Нет, ну ты понял, что они делают, а? Они передают бразды правления последним графоманам! Я понял их уловку! Отводят! Чтобы никто не нашел этих четырех. Дай, Пашка, стихи свои последние. Сравним.
Паша взволновался отчего-то и протянул Каю лохматую тетрадь. Тот стал листать, заглядывая то в листки Бориса Никитича, то снова в Пашину тетрадь.
-Заметают следы… Уводят. Я понял.
-А кто – они-то? – не выдержал Борис Никитич.
Кай захлопнул тетрадь.
-Ну что ж, посмотрим, кто-кого. Стишки принялись писать, любезный? Вместе с Лавром своим Петровичем? Вместо Павла нашего Августовича?
- Кто они – эти «они», как вы говорите? Кто мне бразды правления отдал, как вы говорите?
-Я ничего не говорил! Я пойду за пивом, Паш, жди меня.
Парень накинул куртку и быстро вышел.
Борис Никитич поежился.
-Павел Агустович, а кто он?
-Поэт. Приехал из Украины. На Север идет, Герду найти хочет. Я же объяснял.
-Он и стихи пишет?
-Не показывал еще, в основном он – читает.
-И разбирается?
-Завистливый, надо сказать, - невпопад ответил Паша.
-Дело в том, - замялся Борис Никитович, - Не знаю, стоит ли вам все это рассказывать, Павел Августович… Скажите, а утром он здесь был, никуда не уходил?
-Он с вечера здесь, не уходил никуда. Он не пил. Водки принес и слушал поэтов. Накурили. А мне пришлось в креслице сидя покемарить.
-Не уходил, точно?
-Точно.
-Вы с ним не вели случайно разговоры о русской литературе? Он не просил уничтожить четыре столпа?
-Зачем их уничтожать? Их не уничтожишь. Я в основном не слушаю, честно говоря, делю на шестнадцать. В основном он говорит, все говорят, а я дремлю в своем креслице.
Паша устало сел на нары.
-Если не возражаете, я теперь посплю, пока никого нет. А то скоро начнут приходить… Я очень устал от стихов.
-Да-да, я принес котлеты. Вот, супруга вам, как обычно, прислала. Она ждет вас в гости, уважает ваше творчество… - зачем-то начал врать Борис Никитич, выкладывая на стол пакеты. Он вдруг застыдился своего вранья, наспех попрощался и боком вышел из комнатки.
В коридоре столкнулся в Данечкой, который нес в руках пухлую подушечку:
-Вот, ушел из дома. Здесь буду жить. Жена меня не понимает, - доложил Данечка.
-Тоже? – удивился Борис Никитич и как-то мельком чуть позавидовал – вот бы и ему так с подушечкой прийти и поселиться в кругу единомышленников.
-Но я – в своем кабинете, на диванчике, конечно.
-Извините, Данила, а кто этот парнишка худенький? Вы его знаете?
- Кай? Он идет на Север, к Снежной Королеве. Он ее любит, так бывает! Но всем говорит, что ищет Герду. Врет. Такие никудышние всегда хотят королев.
Данечка хитро прищурил масляные глазки, многозначительно и пошловато хихикнул и покатил к себе в кабинет.
Поняв окончательно, что ничего не понимает, Борис Никитич схватился за мысль о своей работе, как за спасательный круг. Сердце его радостно затрепетало, вспомнив о «Новом Ноевом Ковчеге» - их с Лавром детище, и ноги сами понесли его в сторону технического университета.
Однако уже в лифте он вспомнил, что не брал котлеты у Неонилы Савовны, а значит, не мог положить их на стол Паши и вернулся.
Паша с Каем сидели рядком на нарах и молча жевали котлеты. В комнатке вкусно пахло домом.
-Вы вернулись? – спросил Борис Никитич Кая.
Тот кивнул с набитым ртом.
-Котлеты вкусные? Это вы принесли, Кай?
-Это ваша супруга прислала, - сказал Кай.
Борис Никитич лихорадочно вытер рукой выступивший на лбу холодный пот и с вызовом воскликнул:
- А тогда скажите, пожалуйста, мы с вами встречались сегодня утром на лавочке в моем дворе? Никитич.
- А где ваш двор?
- Мой двор? А мой двор - на улице Большой Морской! - почти крикнул Борис Никитич, - Встречались?!
- Я вас впервые вижу, - пожал плечами Кай.
- Однако же я – во второй раз вас вижу. И мне непонятно, почему вы тут прижились у Павла Августовича со своими разговорами вместе? Немедленно убирайтесь отсюда искать свою снежную бабу, а не то я позову священника, отца Геннадия! – загремел невесть откуда взявшимся басом Борис Никитич.
Парень резко сглотнул, поперхнулся, закашлялся, вскочил с кровати, шмыгнул в дверь и опрометью помчался по коридору в сторону кабинета председателя союза писателей. Он рванул дверь и спрятался за ней, крепко держа изнутри.
Внутри Бориса Никитича произошло некое искристое замыкание совести и ее отсутствия, ноги его понеслись следом за Каем, он стал рвать ручку двери, бить ногами и орать, требуя немедленно открыть, называя Кая Иваном Ивановичем и грозясь выщипать ему всю бороду по волосинке за ложь и воровство. Хотя он и понимал, что бороды у этой личности не было, но все равно - бил ногами дверь и требовал впустить с целью выщипать бороду.
В коридоре, прижавшись к стеночке пухлым задом и вытаращив глазки, обняв крепко подушку, замер ниоткуда взявшийся Данечка.
-Тварь такая! – рыкнул Борис Никитич в лицо Данечке, - Закрылся! Слышишь , гадина?!
-С-с-слышу, - кивал Данечка.
-Выходи, поганый!
Борис Никитич сразмаху садануд дверь ногой и петли затрещали.
-Не-не-не-надо! – взмолился Данечка, - До-до-до-ро-рого ре-ре-монт…
-Заплатишь! Не обеднеешь, ворюга!
Борис Никитич резко развернулся и пошел к выходу.
-Развели тут черт те что! Сранье какое-то развели. Это же – бес! - сказал он вперившись взглядом в Данечкины глазки. – Не понятно, что ли?
- Понятно, - кивнул Данечка, - Бес.
- Паша! – заорал вдруг Борис Никитич, направляясь в Пашину коморку, - Собирайся, пошли отсюда! Они тут тебя изведут. У меня жить будешь. А ты, слышь, катыш? Иди сюда на нары со своей подушкой. Будешь тут спать. Разговоры будешь разговаривать со снежной королевой. И чтоб – никуда его не выпускал, понял? Сидите тут на пару, я прослежу!
Паша послушно надел куртку с капюшоном и побрел впереди Бориса Никитича к выходу, как под конвоем.
Они шли по снежному Петербургу и Борис Никитич ясно осознавал, что ничего хорошего им обоим не светит от Неонилы Савовны. Но все равно был рад, будто только что освободил из заключения невинно осужденного. Но его печалило одно: он понял, что ум его болен. И это все из-за «Нового Ковчега».
Квартира на Большой Морской у него была большая, и потому какое дело Неониле Савовне до него и до Паши? Думал он и так и сяк, но выходило, что все-таки дело ей будет.
Однако же Неонила Савовна сделала вид, что дела ей нет. Она спокойно накрыла стол и удалилась в свою комнату. Сидела там беззвучно и изредка появлялась, как тень, чтобы поставить на стол очередные тарелки, чашки, сменить блюда.
Борис Никитич делал вид, что тарелки появляются на столе сами собой, как на скатерти-самобранке и только благодарно кивал некоему невидимому за щедрость.
Неонила Савовна ответно равнодушно кивала, а Паша тихо читал новые стихи. Стихи коробили Бориса Никитича. Он едва терпел, чтобы не морщить нос, но когда терпеть уже не смог, то подумал, что Паша - вовсе не гений.
2 Глава
- Нищий ребенок, жаль мне его, - вздохнул Кай, стоя у окна и глядя на опрятного мальчика в лимузине.
- Отчего же он нищий? - спросил Борис Никитич, - У него все есть, и прошлое, и настоящее и будущее. Он обеспечен, о нем заботятся...
- Абсолютно несчастный, - шмыгнул Кай. Круглая пипка переломленного и свернутого набок носа клюнула невидимый корм. - Но мне его не жаль. Я даже рад.
- Позвольте, чему ж вы радуетесь, я совершенно запутался. В чем же его несчастье, сообщите мне, хватит говорить загадками, вы сегодня меня совершенно замучили! Я вас не понимаю! - взвился вдруг Борис Никитич.
- Не нервничай, все понять невозможно. Ты любишь Герду?
- Опять?! Какую Герду, в конце-то концов! Зачем вы здесь? Как вы прошли на территорию института?! И почему вы мне тыкаете?
- Ты читал сказку про Снежную королеву? Она - о любви.
- Читал!
- Ты любишь Герду или Снежную королеву?
- Конечно, Герду! Зачем это - любишь? Почему эти вопросы? Герда - положительный герой. Она верная! Сгинь ты, нечистый! Как же ты мне надоел!
- А я - Снежную королеву. Не сгину. Это сложно.
-Я сейчас священника позову!
-Не угрожай, я их не боюсь. Так вот, я люблю Снежную Королеву. Потому что я эту сказку не читал. Я только слышал о ней, мне один друг рассказал. А этот мальчик с няней в лимузине очень несчастен.
- Допустим. Но - отчего же?! И почему я должен слушать про мальчика и Герду? Как вы здесь оказались снова?
Борис Никитич перекрестился, но его вдруг всего затрясло.
-Господи, помилуй, за что Ты меня?... Господи, хотя бы объясни, как быть? Терпеть или бороться с ним? Или вот просто стоять и слушать его? Ну, я буду стоять и слушать…
- У мальчика нет будущего, - сказал Кай. - Ему никто не расскажет эту сказку. У него вообще нет ни одной детской затрепанной, любимой книжки. Он - нищий. И я рад.
- И что же вы радуетесь этому? Разве можно радоваться чужому горю?
Борис Никитич подошел к окну, протер дрожащими руками очки, лоб, лысину, глаза и внимательно вгляделся в лицо мальчика в лимузине. Мальчик сидел неподвижно, он напряженно смотрел в экран своего телефона и лицо его было мертвенно-голубым.
- Я ненавижу чужое счастье, - сказал Кай. - Я люблю несчастных. Я в восторге от несчастных и обиженных. Я летаю, когда вижу их!
- Как это понимать? Как можно ненавидеть счастье? Как это - и ненавидеть счастье и любить несчастье? Господи, помилуй, я стою и слушаю его. Я не говорю. Я молчу, молчу.
- Просто я не знаю, что такое - счастье. Я вообще любые тайны - ненавижу.
- Как же тогда вы можете любить Снежную королеву, если вы не можете любить? Зачем вы ищите ее, зачем такие жертвы, муки, поиски? Ее же не существует! Она - сказка. Зачем ее искать? Но если даже вы ее найдете, вы не станете счастливым. Нужно все-таки знать смысл цели, нужно хотя бы понимать, зачем ты ищещь эту свою Снежную королеву и для чего и тогда... Я молчу, Господи, помилуй, молчу же…
Борис Никитич говорил, хотя и не хотел говорить и ничего, абсолютно ничего не мог с этим поделать. Кай молча слушал и прищурясь смотрел, как мучительно Борис Никитич не может остановиться. Он говорил, говорил, говорил и вдруг обессилел и беспомощно плюхнулся в кресло.
Кай присел рядом на краешек стула, хмыкнул, криво улыбнулся, обнажив в полуулыбке желтые острые зубки и прошептал:
- Я догадываюсь о природе счастья. Я был однажды счастлив. Я лежал на печке у бабушки и читал старую-старую затрепанную книжку с картинками. Она вкусно пахла временем. Картинки в ней были живыми, и я жил внутри этой книжки , я не помню ничего, но мне там было хорошо. Потом у меня отняли бабушку, дом, книжку и память. Теперь я всем мщу. Всем. Я найду Снежную королеву и буду служить ей, чтобы отомстить за все, что они у меня отняли. Мы разрушим ваш Новый Ковчег. Ты меня понял? Мы разрушим золото – льдом.
При слове "ковчег" Борис Никитич вдруг очнулся.
-Откуда вам известно про ковчег?..
- Это все знают. Но мы не позволим.
- Пошел вон, - неожиданным тихим железным басом прогудел Борис Никитич.
- Что толку? Я теперь все равно всегда здесь буду. Ты проиграл первую партию. И дал мне силу.
- Какую партию?!
- Это игра. Мы играем с вами.
- Пошел вон, поганый пес! - взорвался Борис Никитич и грохнул кулаком по пульту вызова охраны:
- Охрана! Какого черта вы там сидите? Почему посторонние на объекте? Забрать его и больше не пускать сюда! Каждый день приходит, а вы все спите!
- Другого пришлют, - вздохнул Кай. - Уж лучше я. Я хотя бы - сочувствующий. Я хотя бы в сказки верю. Другой злыдень будет. Я лучше. Ты сначала подумай, прежде чем меня менять на другого.
- Пошел вон! – завизжал, забрызгал слюной и затопал ногами Борис Никитич.
- Меня интересует не ковчег, а стихи. Другого будет интересовать ковчег. Что для тебя важнее – выбери, - сказал Кай.
Когда два охранника явились, Кая в кабинете не было.
Борис Никитич, красный, потный, с вытаращенными глазами, вежливо поблагодарил недоумевающих парней и сел за стол, стал перекладывать с места на место документы, потирая скользкими пальцами лоб.
- Можно идти, Борис Никитич? - спросили охранники, - Или побыть с вами?
- Зачем это со мной - побыть? - насторожился Борис Никитич.
- Ну, мы теперь, много с кем сидим, чтобы... это самое... не одиноко было... теперь всякое происходит у нас тут… со многими... у нас тут теперь... бывает... - замялись парни.
- Не надо! Мне – не надо! Я сам! Справлюсь! Идите! - отрезал Борис Никитич.
Через полчаса в кабинет вбежал растрепанный Лавр Петрович. Несмотря на свою природную интеллигентную сдержанность, он был одет как вольный художник - в драные джинсы, широкий черный свитер с лохматыми падающими по груди и спине белыми хлопьями снега и серый берет. который сильно молодил его и скрывал лысину.
- Что это ты, Лавр? Ты ли это?
- Завтра сдача первого отсека. Я не хочу сдавать его этой комиссии. Меня настораживают два члена. Слушай, ты здесь один?
- А кто его знает? Может, прячется где-то. Обычно теперь я не один... с посетителем... Кай зовут. Я не в себе. Честно скажу тебе сразу, Лавр, как соратнику, - я не в себе. И устроил скандал в союзе писателей.
- Да вот у меня тоже какие-то незнакомые люди приходят. Что-то происходит. Я иногда думаю: может, меня уже нет? Может, я сам себе – просто снюсь?
- Прекрати, Лавр. Еще два отсека и спускаемся . Осталось немного, дотянем.
- Ты уже видишь, как я оделся? Чтобы запутать их. Может, не узнают?
- Брось, они на одежду не смотрят. Им это все равно.
-Не скажи! Одежда их путает. Вот как ни странно, а на одежду они смотрят. Я три дня переодеваюсь и они не ходят.
- Просто как радиация какая-то. Это все из-за Ковчега. Или из-за стихов…
- Я уже и креститься стал. Не помогает.
-Ты же атеист.
-Крещусь, Боря, крещусь. И молитвы выучил. Не помогает.
-Мне тоже… Я тоже… Но это непросто – верить… Молитвы - слова, а верить трудно. Тем более Ковчег… И стихи… Это все из-за Ковчега, конечно, эти стихи и эти поэты все… Мы ведь люди науки, Лавр. Где наука, там какой Бог? Как видишь, - не помогает, – невпопад разговаривал сам с собой Борис Никитич.
- Конечно, все из-за Ковчега. Слава Богу, что мы с тобой это понимаем. Если бы мы не понимали, то давно бы свихнулись. А еще два отсека выводить. Нельзя, Борис, терпи.
- А может, мы уже все-таки свихнулись? Если прямо смотреть в глаза фактам, то – мы уже оба не в своем уме, Лавр? А? Давай обследуемся у Антона в клинике? Хотя я ему теперь тоже не доверяю. Стихи у него – дрянь. Ну какой он после этого психиатр?
- Охранники сказали, что все нормально. Что весь институт такой. Только не распространяются. Стыдятся все, стесняются. Неловко это - в такие связи вступать. Может, часовню нам построить надо на территории? Давай позвоним отцу Геннадию, посоветуемся.
- Брось, Лавр, это все камни. Детские игрушки, картинки, сказки. Проверка веры она – боем…
-Я завтра на исповедь пойду. Впервые! Собрался вот, дурак. Надо было раньше. И попрошу отца Геннадия институт освятить. И объект тоже.
- Не торопись. Подумать надо. Может, это нужная война? Может, мы должны ее пройти без всякой помощи?
- Это не война, а игра, мой сказал.
- Как звать его?
- Нильс. Гусей потерял.
- Злой твой?
- Прикидывается несчастным. Но сказал, что когда гусей найдет, всех перепотрошит. Отомстит, что улетели. Злой, конечно.
-Тоже мстит… - огорченно помотал головой Борис Никитич. – Боже! Не оставь нас! Не покидай! О чем мы говорим?! Два профессора!
- Борис, это было необходимо обсудить. Теперь давай о деле. Завтра сдача последней очереди. Через месяц Ковчег будет готов. В ноябре начнем испытания. Я не доверяю комиссии. Два члена – враги. Сердцем чую!
-Лавр, ты же знаешь, что испытаний не будет. Мы проиграем все детали и сразу отправляемся. Безвозвратно, ты же знаешь, что это без репетиций… - прошептал Борис Никитич.
-Ну да.
- Тогда зачем врешь?
-А на всякий случай! – громко воскликнул Лавр Петрович. – А я теперь не знаю, как говорить! Играть так играть! Хрен меня кто поймет! Я всех запутаю! Ты теперь меня между слов слушай!
Он понизил голос и прошептал Борису Никитичу:
- Не всем должно быть понятно! Ясно?
- Да пусть они слушают, Лавр, не обращай внимания. Говори о деле, они не поймут. Тут расчеты сложные. Знаешь их слабое место какое? Они не профессионалы. Они не понимают язык науки и боятся стихов. Вот и все наше с тобой оружие в игре.
- А ты их тоже видишь? – оторопел Лавр Петрович.
- Кого?
- Да этих, наших-то… Нильсов… возле двери…
- Ну, перестань, Лавр. Пусть они стоят там. Пусть ждут. Достоятся! Пока кто-нибудь их гусей не перещиплет и королев замуж не возьмет.
- Да! Всех королев разберут! – засмеялся взахлеб, как ребенок Лавр Петрович. - Давай сюда папку с документами, Боря! И Позвони Еве Львовне. Без нее нам с этой проблемой не разобраться будет.
Дверь громко хлопнула и по коридору зашаркали в огромном множестве быстрые шаги.
Два профессора переглянулись, поежились, вытащили свои сотовые телефоны и стали звонить Еве Львовне.
- Это не игрушки, Лавр, - прошептал Борис Никитич.
- Не игрушки, Боря, - кивнул Лавр Петрович, нервно давя на кнопки телефона. - Надо у нее спросить, - к ней-то ходят? Или они ее тоже боятся? Она про это дело все знает...
Глава 3
У Евы в детстве не было любимых игрушек. Ева перестала любить их зря. Как только игрушка приобретала значимость, она тут же переходила в руки старших сестер. Еве надоело плакать и обижаться, и она перестала любить игрушки.
Ева не была золушкой, просто сестры-двойняшки всегда были заодно. Ева не стала холодной. Она научилась любить тайно, чтобы никто не догадался. Она целовала и обнимала пушистого кота только когда сестры были на улице и катала в пластмассовой коляске по двору ходячую куклу Аленку, когда сестры куда-нибудь убегали. А при них она играла с каким-нибудь пупсиком, легко расставалась с ним и сестры потом счастливо не выпускали пупсика из рук.
Ева привыкла хитрить. Она научилась любить тайно. С годами детская хитрость переросла в глубокую ложь. Ева закрылась, захлопнулась от всех и от самой себя, прикрываясь болтовней.
-Ева, почему тебя назвали Евой? – спрашивал будущий муж.
- Мама неправильно прочитала. Отец на морозном стекле в роддоме нацарапал «Зоя», а мама с другой стороны окна прочитала задом-наперед как «Ева».
Будущий муж писал ее имя, подносил лист к лампочке и спорил, спорил, что невозможно было так прочитать, но ничего нельзя было изменить.
-Чужое имя, - сказал будущий муж и предложил построить общую семью. Муж тоже был чужим, но Ева согласилась, потому что тайно любила другого, которого уже не было в живых. Замуж выходить было нужно, так было принято в городке, все выходили замуж и рожали детей, кроме ее сестер. Мать и сестры убеждали Еву, что замуж ее никто не возьмет, да ей и не нужно, потому что ее любимый уже погиб. И Ева торопливо и тайно вышла замуж, чтобы тоже быть такой, как все.
- Польска паненка? – спрашивали соседки ее белорусскую свекровь.
Свекровь сдержанно отвечала:
- Русская.
- Большевичка?
- Не, не большевичка.
- Ай-ай, пупы-пупы. Але мало паненок было твоему Петро? Хай бы ж на Гале бухгалтерке совхозной женился…
Признакомившись поближе, бабы растаяли, стали зазывать по вечерам Еву на лавочку на посиделки, требовали:
- Говорь, Ева.
- Что говорить?
- Абы што, коли ласка. Вельми велика мова. Говорь, Ева, нам по-русски.
- Вы же ничего не поймете.
- Говорь!
И Ева не великой мове говорила им все подряд – и стихи, и сказки, и про политику, не зная, понимают они ее или нет. Бабы кивали, и как только Ева замолкала, требовали:
- Аще! Говорь, Ева! Але и мова! Як цацечка…
Пупы – это прошлые коммунисты и большевики в пупейках – высоких шлемообразных шапках. Память о них в бабах осталась навечно. Пупы обворовали и затравили этот краешек западной Белоруссии настолько, что и мертвые будоражили все посиделки и ненависть к русским нейтрализовать можно было только русской речью.
Песни Ева не пела. Запела один раз на соседской свадьбе – так такая началась вдруг свара у свекра с гостями, что песня так и осталась недопетой. Все перессорились, разбежались по гулкой, черной белорусской ночи, а им с мужем постелили на душистом сеновале.
Муж клял и материл всех гостей и их родных до седьмого колена на вдруг проснувшемся в нем родном языке и наконец мрачно заснул, пообещав наутро достать конкретно из серого ящика в подвале ружье и всех перестрелять. Муж храпел на душистом сене и его незнакомое лицо было маленьким и бесцветным, как у куклы. Корова внизу чвякала копытами по жиже, тепло и трудно вздыхала и от ее присутствия Еве было спокойнее принять жизнь как есть. Она сидела на сене и ждала утра, боясь представить подвал и серый ящик с оружием. Ева знала, что люди обычно впустую обещают хорошее и исполняют обещанное плохое. Закукарекали петухи.
- Хай бы ж ты на Гале-бухгалтерке женился, – равнодушно прошептала Ева и сладко заснула в пышном душистом сене.
То, что Ева попала в хату колдуна – ей сказали бабы на лавке. Не прямым текстом, но она поняла. В деревне было скучно. Одно развлечение – ездить на велосипеде в соседние деревни по магазинам. Свекр за ужином объявлял план работы на следующий день: сколько кому следует собрать смородины, груш, яблок для поездки в выходные на базар, и они с мужем шли в сад к огромным , выше человека кустам красной, белой и черной смородины. Дочка ползала рядом по расстеленному одеялу и было тихо вокруг них и вокруг всей жизни: тишина в прошлом, тишина в настоящем, тишина в будущем. Еве так было хорошо.
Но тишину нарушал свекр. Он постоянно хотел снять с них порчу. Требовал пройти какой-либо – и всегда разный обряд по вечерам, чтобы снять сглаз «пекла» - болтливых соседок. Свекр был поляк, соседки – белоруски , они не ладили. Ева несколько раз исполнила его приказания, но ей это не понравилось – без причины вдруг поднялась температура – и Ева стала отказываться. Тогда свекр перекинулся на дочку, брызгал на нее водой из бутылки, шептал что-то, помахивая ножом вокруг тела. Ева отняла ребенка. Ночью пришлось вызвать скорую и отправиться в больницу. Утром в больницу явились муж и свекр.
- Мама у церкву пошла за 7 километров пешком. Мы вас сейчас заберем без спросу и отвезем к знахарю. Потом вернем.
Ева по глупости согласилась.
Дед-знахарь Еве не понравился. Он был неопрятный, востроглазый, бульбоносый и лысый. Обвивал нитками, измерял руки-ноги льняной суровой пряжей, вязал узлы… Свекр вошел в раж и по пути назад завез их на мотоцикле с люлькой еще к одному деду. Тот был черный, как ворон и суетливый, как воробей. Потом заодно по прямой трассе заглянули к бабке. Бабка была смешная, она воровато заглядывая в люльку ждала гостинцев. Отнесла вприпрыжку в дом гостинцы и тут же на улице стала хлопать Еву по спине, выправляя сглаженные и нарушенные позвонки, а дочку в руки Ева ей не дала.
Приехали домой. Свекровь вернулась из церкви, принесла просфорки, дали дочке, положили спать, в больницу больше не поехали.
Свекр был очень своенравным. Однажды он решил, что Ева смертельно больна, так как слишком бледная.
-У меня кожа такая, - пыталась спорить Ева, но уже был выкачен из гаража мотоцикл. Муж тоже пытался возразить отцу, мол, она всегда была такая белокожая…
-Сморкач проклятый! – сказал сыну свекр, - Седайте!
Сели, поехали.
Дом, как в сказке, с покосившейся крышей – стоял на краю деревни, на отшибе, среди кустов в некошеной траве и непонятно было, почему он не падает набок. Нахохлившийся, как больная, чумазая ворона, он, казалось, через мгновение проснется, встрепенется, закаркает, захлопает сломанным крылом – черной гнилой щепой кривого конька и приподнимется с земли на скрипучих сухих лапах и крякнет, и вдруг квакнет, и чихнет, и закашляет, и захохочет, и рассыплется в прах.
В доме были земляные полы, по полам бродили в скуке вороны и четыре облезлых кота. Они все дружно что-то искали и не могли найти на земле. Свекр в высоких кожаных сапогах и лично пошитых галифе прошел важно, сел за стол без спросу, как у себя дома, грохнул на табуретку сумку с гостинцами – одинаковый его набор для визитов - самогоном, салом и домашней колбасой.
- Трэмай, Дарья. Трэба подсобить. Больная невестка, бачышь ты?
Ева изумленно разглядывала огромные серебряные и золотые броши, бусы из драгоценных камней, сложенные в кучу на старой, облезлой табуретке возле окна, будто на столике. У Евы захватило дух – она любила камни. Такая у нее была с детства необъяснимая любовь к камням – сначала к простым дорожным и речным камушкам, потом к драгоценным.
Ева завороженно разглядывала издалека украшения, и вдруг взгляд ее наткнулся на тонкую, слабую руку, перемешивающую драгоценности, как тесто. На полу у табуретки, возле ног матери пристроился босой лохматый парень в холщовых домотканых коротких штанах – до невозможности грязный, сопливый, с красными от слез глазами. Он счастливо заулыбался Еве и протянул ей горсть бус и брошек.
Ева тоже улыбнулась и подошла к нему.
- На, Ева! – сказал парень. – Играй!
Ева не удивилась тому, что он знает ее имя.
- Не надо, спасибо, - прошептала она, наклонясь к нему, - Играй сам.
-Сядь! – велела Дарья, отгоняя ее жестом от сына.
Она стала медленно раскладывать на столе карты. Вышли четыре туза. Дарья зыркнула на свекра:
- Кого ты мне сюда привез? – грубо бросила она и быстро раскидала новые карты. Рука ее дрогнула – вышли четыре туза.
Она тщательно перемешала карты и снова вышли четыре туза.
-Так вот какой человек сегодня в моем доме, - зло прищурилась Дарья стала говорить сама с собой по-польски, вперемешку с белорусским.
-Ладно, - жестко согласилась она с кем-то невидимым и стала выкладывать вокруг тузов из колоды другие карты. Вышли четыре короля, четыре дамы и четыре вальта.
-Не буду гадать, - хлопнула она ладонью по столу и бросила карты. – Кого ты мне привез?! В дом привел!
Свекр растерялся, заелозил на стуле:
- Дарья, мой сын большой человек в России…
- Вельми большой. Не хочу. Не треба. Не буду, - рубанула рукой Дарья.
- Да! – оживился и заартачился свекр, - большой человек! Мой сын начальник, у него в России в подчинении вертолет и такие территории, как вся твоя Польша. У него три вертолета, Дарья! Он заплатит. Погадай, Дарья, не упрямься.
Дарья уставилась в окно, то ли набивая цену, то ли просто раздумывая.
Свекр стал взахлеб рассказывать Дарье об успехах сына. Та кивала аккуратно причесанной черной головой, тонкие, красивые черты лица заострились, профиль превратился в вороний, она не перебивала, только все жестче и суше поджимала изящно прочерченные на точеном и не тронутом старостью лице губы и неотрывно смотрела в окно черными миндальными глазами. Вдруг резко повернулась к Еве, к ногам которой приполз с бусами и брошками ее ненормальный сын.
- Для чего тебе ехать в Польшу?! Что ты там забыла? – спросила она жестко.
- Я не еду в Польшу. Я была там раньше, да. Долго… месяц…
- Где?
- В Варшаве, в Кракове, в Гданьске, Гдыне, Познани…, много где…
- Зачем?
- Да не знаю, зачем…
- Не едь в Польшу! Не смей!
- Я больше не собираюсь. Мы были там по студенческому обмену, когда я училась в институте, а польские студенты потом к нам приезжали в Петербург… - испуганно залепетала Ева.
- Я сказала, ни ногой больше! Все тебе будет здесь. Все, что захочешь – получишь, если не поедешь в Польшу.
- Не едет она, Дарья! Чего ты, не едет она. Они в России, Дарья, - стал успокаивать ее свекр.
- Вот что будет! Слушай, что будет! – резко повернувшись к нему сказала Дарья.
Свекр с озверевшим и застекленевшим от повышенного внимания лицом, открыв рот внимал гадалке, пытаясь запомнить пророчества и пути их исправления. Он то шептал что-то, как червями шевеля тонкими губами, загибал пальцы, подпрыгивал на табуретке и периодически озирался , боясь перебить Дарью, пытался отыскать взглядом бумагу и ручку.
У Евы был блокнот, но она не дала. Она поднялась тихонько с табуретки и незаметно вышла в сени за Дарьиным сыном. Тот нагнувшись тащил за лапу кошку – ругал ее, мычал и собирался за что-то наказать. Но тащил, не зло, не больно, хоть и сильно. Кошка молча упиралась, отказывалась идти. Следом заполошно бежали озабоченные вороны. Видимо, кошка все же что-то нашла на полу или стащила гостинцы из сумки свекра. Все это было Еве гораздо интереснее. Этой странной толпой они все почти бесшумно выкатились на крыльцо избы.
Лохматый парень сурово запихал кошку в холщовый мешок и подвесил мешок на гвоздь на солнцепеке. Кошка молчала, не мяукала и видно было, что она понимает за что ее наказали и подвесили. И вороны понимали и остальные три кота тоже понимающе смотрели снизу вверх на мешок.
-Зачем ты это сделал? – спросила Ева.
-Будя думать, - хмуро сказал парень и исчез в черной тени высоких кустов белой смородины. Смородина с листьями клена и ягодами винограда, светом янтаря, высотой с дом, переливалась на ветках как виноградный дождь.
- Я сниму ее! – крикнула Ева.
- Погоди трошки, - донеслось из дождя, – Зараз хай висить. Будя думать.
Ева навсегда запомнила, каким способом жизнь может заставить думать виноватого. Это потом всегда помогало: посадить себя в плотный мешок и зависнуть высоко под палящим солнцем правды.
Болезнь подступала долго, нерешительно, то подползала, то удалялась. Ева ее отгоняла, но второго ребенка кормить грудью перестала. Умирать и оставлять двоих детей было нельзя. Грудь то горела огнем, то леденела и становилась чужой, будто ее уже не было. Свекр отвез Еву к какому-то очередному знакомому деду – собрал в дермантиновую сумку, как обычно, сало, колбасу, самогонку, завел мотоцикл и поехали.
Дорога прямая, без поворотов, садись за руль да спи, все равно доедешь, уныло гудела. Ева дремала в люльке, укрывшись заколевшим на ветру куском кожзаменителя.
Дед – незнакомый - обычный старый мужик, только глаза вострые, злые, шептал над водой, укрывая бутылку с двух сторон седыми прядями волос. Ева любовалась: седые волосы серебрились на солнце, вода в бутылке рябила, переливалась, будто разговаривала с ним. Красиво! Солнце лилось в окно и Ева благостно и снисходительно улыбалась, будто была в последней в жизни сказке.
Грудь дед смотреть не стал, велел сначала пить шептаную воду, а потом снова приехать. Но больше к нему они не поехали, потому что Еве стало совсем плохо.
Старая бабка соседка Зоня обнаружив полыхающую Еву на лавке возле дома, всплеснула руками, кивая на замотанную шерстяным платком грудь Евы, сердито закричала:
- Чаго ты здесь сядишь? Ты что ж это делаешь, девка?! У тебя ж дети! Почему в больницу не едешь?
- Была я в больнице, давно лечусь…
- Тогда езжай с моей Томкой завтра утром до бабки Пани. А ну иди отсель! Собирайся, поедешь завтра с Томкой. Бесу этому не говори только, не пустит. Томку опять сглазили на работе – дурная стала, цифрам счет не понимает, уволить потому хотят. А ведь у нее институт закончен, считать разучилась, сглазили! Поедешь?
- Поеду.
Малюсенький полесский домик под вековыми липами, как спичечный коробок в лесу – издалека не увидишь – затерялся, обвитый вереницей легковых машин. Встали с Томкой в очередь, ждали долго, с утра до самого вечера.
- Что это за бабка такая Паня, что к ней столько людей? – удивлялась Ева, унывая от жары и отмахиваясь березовой веткой от мух.
- Сильная бабка. Со всех краев едут, не только из Белоруссии, - сказала Томка. – Тяжело ей, день и ночь сидит в своей кроватке. Такая жизнь – врагу не пожелаешь.
Уже почти ночью дошла очередь до Евы. Мухи ползали по домотканому пологу входной двери, редко и кратко звенькали при взлете – уже начинали засыпать и летать ленились. Светлый старичок, усталый, вялый, отодвинул полог и Ева вошла в домик. Слева – железная кровать с пружинистой сеткой, справа – печка, прямо – стол. И больше ничего. На кровати, в провисшей до полу сетке, как в люльке сидела маленькая голубоглазая старушечка – круглая, беленькая, свежая, яркая, как только что вылепленная игрушка, улыбалась.
- Иди сюда, - сказала она Еве.
Ева села рядом с ней, тоже провалилась до полу, скрипя пружинами, завалилась на бабульку, попыталась выпрямиться, отстраниться, стало неловко, неудобно, но от бабки было не оторваться – так и сидели, слившись воедино в провисшей сетке, как в яме, тесно прижавшись друг к другу. Бабка Паня обняла голову Евы и прижала к своей груди., И Еве вдруг захотелось остаться с ней навсегда. Она ее любила. Вот так ее никто никогда не любил. И мир исчез и все исчезло и не было ничего в мире, кроме этой теплой человеческой руки на затылке. Ева подумала, что хорошо было бы умереть именно сейчас.
- Поешь песни? – спросила вдруг бабка Паня.
- Пою, - кивнула Ева и судорожно, с тяжелым всхлипом вздохнула.
- Хорошо поешь, - похвалила старушка, - Ты пой, пой.
- Я пою…
- А что будет, на то не смотри. Пой себе и пой. Всегда пой.
- Я пою…
- Надо петь. И всегда пой. И дальше пой.
-Хорошо, я буду всегда петь, - прошептала Ева.
- Вот и слава Богу, пообещала. Так не забудь, что пообещала. Иди и пой, доченька моя.
- А грудь-то у меня…
- А что – грудь? Грудь, грудь. Лучше всех грудей грудь. Ни о чем не думай, пой до конца, а как конец – так всего сильнее пой.
Больше грудь никогда не болела. Но стала болеть душа. Песни были сильными, смелыми, из этой боли выплеснутыми, застывали намертво, каменели на ветру времени, впаиваясь в него. За песнями хлынули стихи, за стихами проза. Но тут заболел сын. Ночами не спал – ныли ноги. Свекр собрался везти его к Дарье. Ева согласилась, поехали. Но Дарья отказалась снимать порчу.
- Больше не занимаюсь я такими делами, не езди ко мне, Пан. Я Богу слово дала.
- А что же случилось? – взволновался свекр, доверительно подсаживаясь поближе к Дарье.
- Сын помер. Из-за меня. Так мне Бог сказал.
Ева вздрогнула. Свекр про сына будто не услышал.
- А знания свои кому передашь? Некому теперь? – спросил он деловито, приблизив лицо к уху Дарьи.
-Никому. Со мной сгорят. Я гореть буду, Пан, здесь, на земле. Чтобы потом в аду – полегче.
- Что ты, Дарья, говоришь такое... никому… Ты ведь одна такая, Дарья… Гореть… Зачем гореть? Жить надо. Я вот двести лет собираюсь жить, отдай мне свои знания.
- Хочу гореть. Долго хочу гореть. Сына-то спалила…
- А что с ним случилось? – не выдержала Ева.
Дарья вскинула на нее глаза и Ева поразилась – перед ней сидела совсем другая женщина - седая, сморщенная, с бесцветными глазами и расплывшимся в плоский белый таз дряблым лицом. Никакой былой точеной, тонкой, литой красоты…
- Ты и спалила, - равнодушно сказал она и опустила голову.
-- Отдай мне знания! – вдруг рубанул с плеча свекр. – Отдай!
- А все остальное – возьмешь? – спросила Дарья.
Свекр задумался.
- Дарья, ты мне продиктуй, я в тетрадке заговоры запишу, и гадать научи, - предложил он.
- А все остальное возьмешь?
- А что остальное?
- Все. Ты зачем приехал?
- Сглаз с внучка снять.
- Что взамен привез? Песни? Ты отдай их мне.
Свекр вспотел, замигал часто, растирая лоб:
- Зачем тебе ее песни? В них толку нет.
- Отдай. Мне полегче будет гореть…
Свекр снова задумался, кусая железными зубами пересохшие губы.
- Не могу. Это я не могу. Не получится. Никак не получится.
- Ну так и ты ничего не получишь. Иди своей дорогой, Пан. А как сгорю, никто хоронить не придет. А ты придешь и похоронишь.
- Почему – я?! – взвился свекр.
- А чтоб метка у тебя от сажи осталась.
- Для чего мне твоя метка, Дарья? Гори ты как хочешь, а людей не втягивай. Зачем я с твоей меткой ходить буду? Никто не придет, а я нешто дурак, один в золе копаться? Я не обещаю Дарья тебе этого. Не дури, Дарья.
-Знаешь, что придешь…
- Не приду! Не обещаю я тебе этого. Знай! – завопил свекр, беленея и вытучивая глаза.
Ева схватила сына и выбежала на улицу, она не могла слышать крик свекра, ее тут же покидали силы и начинала бить дрожь. Из дома доносился непрерывный бычий вой, слов было не разобрать. Ева пошла к высокому кусту белой смородины и вдруг увидела в центре куста невысокий холмик с деревянным православным крестом. Подле в теньке лежали два кота, а в траве тут и там спали вороны.
-Господи, помилуй! Господи, помилуй! - Ева в ужасе впервые в жизни перекрестилась на этот крест.
Свекр выскочил из дома:
-Ева! Чертова ведьма, не дала мне ничего! Богу слово дала, - крикнул он, пытаясь завести мотоцикл, но мотоцикл не заводился. Так и пошли они пешком до трассы, а там на попутной машине доехали до своей деревни.
Утром свекр с соседом поехали за мотоциклом с тягачом, но не нашли ни дома, ни мотоцикла – только груду углей да обгоревший труп Дарьи. Поодаль посреди дороги стоял крепкий гроб, - видно она вытащила его из дома и подготовила для себя. В гробу - белая ткань, деньги, небольшой пакет с золотыми украшениями, брошками и драгоценными камнями и записка: «Богу слово дай тоже.»
Обомлевший свекр поделил с соседом под клятву золото, Они уложили труп Дарьи в гроб и торопливо зарыли под кустом белой смородины рядом с деревянным крестом.
Никто Дарью не искал, милицию не вызывал, будто и не было никогда этого одинокого черного дома на дальнем краю белорусской деревни, ни пожара, ни тягача, ни мотоцикла…
Ноги у сына стали болеть еще сильнее. Повезли с Томкой его к бабке Пане. Та погладила ножки мальчику, шепча молитвы и строго глянула на Еву.
- А ты на черте, доченька.
- На какой черте? – растерялась Ева.
- Поставили тебя на черту. В жертву. Завтра к ночи приедь одна. Мальчика не привози. Мальчик будет здоров.
- Но я пою песни, как и обещала.
- На черте и поешь. Песни другие будут. Или не будет никаких. Новое белье купи, в баню сходи. Обязательно! После заката, без очереди приди, я буду ждать тебя. Ну-ка, малец, дай ножку. Молитовки знаешь? Не знаешь? Плохо, будем учить. Давай, повторяй за мной, выучим. Мама не научила – я научу. И ты давай учи, мама, - строго глянула она на Еву, - Ну, повторяйте за мной…
К вечеру свекр стал внезапно придираться ко всем – то не так, это не этак. Ева взяла сына и дочку, вышла во двор, чтобы не слушать перерастающую в сплошной ор перебранку отца и сына, а когда вернулась, оба – белые, потные, с вытаращенными, налитыми кровью глазами, из последних сил гавкали друг на друга. Оба тяжело дышали, выдохлись и внезапно одновременно заткнулись. Ева прошла в комнату укладывать детей.
- Нечего было жениться на нищей. Надо было брать Галю бухгалтерку совхозную, - уныло сказала свекровь.
- Але справна дивчинка гэта Галя! - воодушевленно подхватил свекр, и Ева поняла, что разговор был опять о деньгах.
- Добрый всем вечер! - развернувшись, с восхищением всплеснула руками Ева, - Галю! Да она за капитана подводной лодки вышла замуж!
- Надо сидеть рядом с мужем, а не уходить на улицу, - поджав губы сказала свекровь.
- Но Галя с капитаном не сидит в подводной лодке.
- А что Галя? – взвился свекр, - Чаго тебе до Гали?
- А то, что у капитана есть подводная лодка, - сказала Ева и пошла к детям, оставив всех в недоумении.
Зависла тишина.
-Ты как скажешь, так три дня думать надо! – заорал свекр. – Ты просто сказать не можешь, большевичка, коммунистка проклятая, навязалась на наши головы. Ты все какими- то непонятными словами!
- Дети спят, - сказала Ева, приоткрыв дверь.
- Дети пусть слушают, что батька говорит! – загремел свекр. – Детей батька воспитывать должен! Больно воли много получила!
- Привыкнет, - вдруг сказала примирительно свекровь.
- К чему привыкну? К мужским истерикам? Нет, не привыкну, - сказала Ева.
- А! Ну тогда разводитесь, - кивнула свекровь.
Ева холодно ухмыльнулась и вздрогнула от этой ухмылки. Сухая, безжалостная, решительная, она ее напугала, она была ей незнакома.
И свекровь кивнула, будто дело было решено:
- Ты нам такая не нужна. Разводитесь.
После заката начинается ночь. Чем ярче закат, тем ночь черней. Чем ночь черней, тем ярче в небе сияют звезды, и если какая падает, то рассекает все небо на две половины. Как ни смотри, а половины эти – справа и слева – равные. Но иные, слабые звезды, падая, не разрезают пополам небо, а лишь делают легкие, быстро заживающие порезы и оставляют невидимые шрамы.
Ева вошла в домик бабы Пани без очереди – никто не упрекнул, не возмутился, хотя обычно в очереди бывали перебранки.
Ева торопилась, дома опять был скандал, дети, наверное, опять боялись деда и плакали.
- Вот, принесла все чистое, в бане помылась, приготовилась, - доложила она бабе Пане.
- Ладно, хорошо. Но это не надо. Иди теперь, - сказала бабка Паня.
- Куда? – растерялась Ева.
- А куда пойдешь, туда и иди.
- С детьми уходить?
- С детьми, конечно.
- Я не справлюсь… Мне некуда уйти… Я давно бы ушла…
- Не знаю. Ничего не знаю. Мне не велено вмешиваться. Или вытащишь всех или никого не вытащишь. Как захочешь. Воля твоя.
- Я не смогу. Помоги мне.
Бабка Паня помотала головой:
- Три раза я спрашивала о тебе. Больно по сердцу ты мне пришлась, уж думала, выпрошу. Но нет. Не велено и все. Не могу тебе ничем помочь. Ты должна сама. Выберешься – да. Не выберешься – нет. Есть только два ответа: да и нет. Это помни.
- Но у меня же дети, - Ева заплакала.
- Нет. Иди. Ничего не могу.
-Ты можешь…
- Я могу, но нельзя. Только сама. И на том конец. Иди.
-Ну, хоть сглаз сними, бабушка Паня, - всхлипнула Ева, боясь выходить из дома в ночь.
- Что уж теперь тут – сглаз, - ухмыльнулась бабка. Сурово, холодно, жестоко так ухмыльнулась, как утром ухмыльнулась Ева.
-Тут дела другие. Бывают иногда такие дела. Но редко. Я прямо тебе говорю. А ты как поймешь, так и хорошо. Иди с Богом. Пой песни. Пой до самого конца, а увидишь конец – всего сильнее пой.
Ева, леденея всем телом, подошла к двери.
- Стой. Иди сюда, - мягко позвала ее бабка Паня.
Ева оглянулась.
- Видишь, какие мои ноги?
Бабка приподняла подол жесткой суконной юбки.
- Какие?..
- Никакие. Нет их. В войну ребенком отморозила в землянке.
- Как?! – ужаснулась Ева. – Я не знала…
- Никто не знает. А зачем – знать? Это моя большая беда. Большое горе. Не могу добраться до таких как я, до неходячих. А многим могла бы помочь, если б ноги-то были. Шла бы и шла бы… Ты иди, ты тоже будешь лечить. Ноги береги, не отморозь, гляди. Остальное просто. Не бойся. Иди, благословляю тебя. Хороший доктор будешь. И люди тебе этого никогда не простят.
Глава 4
Гул проник в сон исподтишка, медленно впился в него, как острие натянутой струны, задрожал, заныл и вдруг взвился, зазвенел истерично, будто кто-то ударил по струне ногтем. Сон вздрогнул от ужаса, картинки перемешались, спутались, растаяли и остался только этот торжествующий визг, от которого заледенело и остановилось сердце. Тело Евы содрогнулось , толкнуло само себя и заставило Еву проснуться. Сердце хрипло и медленно било в грудь, руки и ноги не двигались, лицо похолодело, губы занемели, визг остался во сне, а в явь пробрался медленный гул, стихающий до угрюмого баса.
Ева слышала его через двойные стекла, она его узнала, так гудела иногда земля, а иногда небо. Ева судорожно вздохнула, потерла ледяной рукой холодный лоб, встала с постели и вышла на балкон.
Далеко впереди раскинулся морем огней город. Все равно какой город, Ева забыла, какой это город, она вся превратилась в слух, впитывая в себя этот гул и пытаясь определить, откуда он исходит. Он был везде. Мозг терялся в догадках и определениях, не находил ни слов, ни образов, ни смыслов. Это невозможно было объяснить и назвать какими-то словами, измерить мерами и облечь в форму. Гул выходил из земли, но был неземным, лился с неба, но не был небесным.
- Ну что ты, что ты?... – обращаясь к небу или к земле, как к маленькому невидимому ребенку, утешающе зашептала Ева, - Что случилось, скажи, что? Я не понимаю… я не понимаю, - повторяла она с отчаянием, будто чем-то могла помочь этому тяжелому густому, живому гулу, дрожащему в горле и в груди. И вдруг она услышала ответ – вернее, не услышала, а поняла прорисованные в сознании слова, уловила буквы, почувствовала звук, сложила все, как разноцветные морские камушки, как рассыпанную по траве мозаику и вспыхнуло: «самолет разобьется».
- Нет! - резко сказала Ева, но мозаика снова выстроилась в образ двух слов «самолет разобьется».
- Мам! – донеслось из кухни, - А чего ты не спишь?
Ева отшатнулась от перил и проскочила в кухню. Дочь в ночной пижаме была похожа на гномика с копной белых волос, на клоуна и принцессу одновременно.
- Мам, не лети, самолеты опасные.
- Надо лететь. Иди спать.
- Едь на машине. Ты же хорошо водишь машину, посмотришь мир.
- Самолеты абсолютно безопасные. Туда нельзя на машине – там море.
- А что это гудит? Я думаю, поезд...
- Я тоже так думаю.
- Откуда тут поезд?
- Далеко где-то, может, на Московском вокзале…
Дочь наклонила голову, прищурила глаза, прислушалась.
- Мама, как-то он все гудит и гудит. Очень нехорошо… А самолет русский?
- Русский.
Ева поставила на плиту чайник и стала собирать сумку.
- Ты бабушке не говори, что я лечу, если позвонит. Я ей потом сама позвоню, из Греции. Как обычно. Все как обычно.
- Может, это воздушная тревога? Может, война? Что это гудит? - снова насторожилась дочка.
- Мне кажется, это просто земля гудит. Бывает такой земной гул. Стонет, больно ей. Она ведь – живая.
- Мне тоже так кажется, - кивнула дочка и, успокоившись, пошла досыпать.
Ева стала собирать дорожную сумку, мыть посуду, полы, холодильник – все как всегда, все как обычно перед отъездом.
В аэропорту и познакомились, узнали друг друга, хотя ни разу раньше не встречались. Высокий Олег четким взглядом шнырял по фигурам зала ожидания – типичный считывающий взгляд-рентген-сканер профессионального охранника - сразу острым крючком зацепил и потянул, потянул к себе Еву. Ева поддалась, не сопротивлялась, подошла.
- Семицветова? Евления? – спросил Олег, - Громкое имя, редкая фамилия. А я вас узнал интуитивно. Почувствовал, - он попытался мило улыбнуться, но улыбаться он не умел.
- Немудрено, у вас все мои документы с фотографиями, - сказала Ева.
Олег мгновенно перестроился с игривой волны на деловую:
- О кей, возьмите свой билет.
- Спасибо. А вот, наверное, отец Артемий идет. Я прямо чувствую, что это он, - сказала Ева, кивнув на огненно-рыжего круглолицего батюшку.
- Немудрено, он один в рясе, - поддержал игру Олег. – И такой колоритный…
- А вот и отец Борис, без рясы, но с чемоданами. – Ева вошла во вкус, снимая возникшее между ней и Олегом напряжение. Она указала на суетящегося возле двух огромных чемоданов мужчину в конце длинной очереди на контроле.
- Интересно, что в чемоданах? Мы, кажется, не пройдем грузовой контроль. У нас, кажется, будут проблемы.
- Не угадали, у нас не будет проблем, - сухо поправил ее Олег. – Это не отец Борис. Отец Борис мне сейчас звонил, он еще в пути.
- Но я думаю, что чемоданы пустые, - успокоилась вдруг Ева. – А где же отец Стефан?
- Вы с ним знакомы?
- Нет, конечно. Мы же приглашали в поездку отца Александра и отца Сергия. Но вместо них явились вы.
Олег ничего не ответил и пошел навстречу рыжему священнику.
- Отец Артемий?
- Я! Так и есть, я! - радостно заулыбался румяный, кудрявый молодой отец Артемий.
Потом с двумя громыхающими на кривых колесиках чемоданами подкатил круглый, вспотевший и недовольный отец Борис.
- Нет, ну разве так можно! Ну разве так можно! – издалека возмущался он, - За полчаса до вылета я должен найти неизвестных мне людей. Спаси Христос, спаси Христос, здравствуйте, мои дорогие, еле успел, я едва не опоздал!
- Все по воле Божьей, отец, - сказал Олег. – Ваш билет у меня, дайте паспорт, я проверю.
- Что уж проверять-то теперь, вчера команду дали лететь, а ведь у меня дети, - укоризненно сказал отец Борис, доставая паспорт, - У меня семеро детей, - обернувшись к Еве, кивнул он на чемоданы, - И всех надо к школе собрать.
Тут как из-под земли возник худой, скуластый, с жидкой бородкой и в огромных очках с черной оправой отец Стефан.
- Здравствуйте! Вы отец Стефан? - спросил Олег и, не дождавшись ответа, вдруг подхватился с места и помчался к стойке контроля, махая всем рукой и призывая следовать за ним. Делегация внезапно превратилась в управляемую им толпу.
Бесцветный, хотя и брюнет, безликий, хотя и с правильными чертами лица, включая крупный породистый нос, бесполый, хотя басовитый и бородатый – Олег был типичной агентурой не самого высокого класса.
- Я Ева, - сказал Ева на ходу отцу Стефану.
- Я понял, будем знакомы. Вы едете как менеджер от комитета по туризму, мне так сказали.
- Да, а вы по вопросу закупки у греков икон.
- Приблизительно так. Греческие монахи пишут прекрасные иконы.
- Ну а мы попытаемся наладить контакты с частным турбизнесом.
- Вам бы лучше просто поплавать, позагорать, - сказал вдруг отец Стефан, окинув взглядом Еву с головы до ног. – Устали?
- Нет, я с рождения такая белая, это мой обычный вид, я здорова.
- Но все равно, главное – солнце и море. Остальное – фарс, я думаю, ничего мы не наладим, это просто возможность отдохнуть за счет греков. Они рассчитывают на серьезное сотрудничество, а нам нечего им предложить – установки нет, имейте на всякий случай в виду, - серьезно и честно сказал отец Стефан. – Мне команду дали – я поехал. Я человек подчиненный.
- Я аналогично. И даже хуже. Спасибо, я буду иметь в виду. Но почему отец Сергий не поехал? - спросила Ева. - Мы очень хотели, чтобы отец Сергий увидел Грецию. Он такой скромный батюшка, он никогда нигде не был.
- Ну, я-то везде побывал, - кивнул отец Стефан.
- Очень жаль. Мы оформляли билеты и договаривались с Грецией по одному списку, утром приходят другие люди. Я вообще не уверена, что этот Олег сумел все переоформить. Откуда он вообще взялся и – зачем?
- Этого я не знаю, на всякий случай, - сказал отец Стефан.
- Я все сделал. Ноу проблем! – крикнул, обернувшись издалека Олег.
- Мерси, - кивнула Ева, не удивившись, будто они были на радиосвязи.
Быстро и действительно без проблем прошли контроль, сели пить кофе в зале ожидания.
- Царские дни пропущу , - сокрушался, причмокивая кофе, отец Борис, - У меня доклад, я его опубликовал, сейчас покажу. Он полез к дерматиновую сумку на ремне, выпущенную сразу после войны где-то на эвакуированном в Сибирь заводе.
- Да не надо, не надо! Ну потом, потом, - замахал руками отец Стефан, видимо неоднократно читавший этот доклад и ему подобные тексты.
- Нет, не здесь, в чемодане оставил, - сокрушенно помотал головой отец Борис.
Отец Стефан обрадовался так, что рассмеялся:
- Боже, как мало мне надо, чтобы быть счастливым, - хохотал он.
- Это у вас нервное, отец, это перед полетом, - поджав губы, сдержанно сказал отец Борис, стало понятно, что над докладом на Царские дни они работали вместе долго и плотно.
Отец Стефан продолжал изредка заходиться смехом, а у отца Бориса резко испортилось настроение, он помрачнел.
- Доклад серьезный, - доверительно пояснил отец Борис отцу Артемию, будто они были только вдвоем, - О Распутине. Тут смех последний. Пусть смеется тот, кто смеется, а смеяться нечему.
- А что Распутин. Распутин, Распутин, - раскинувшись вальяжно в кресле, почувствовав себя неожиданно хозяином мира, пробасил отец Артемий, заалев маковыми щеками. – Что о нем и говорить? Не буди лиха, пока тихо. Не зови беса к полету, отец Борис, брось. Видишь, хохочет. Брат, что ты смеешься? Ты в себе ли?
Отец Стефан действительно не мог остановить смех. Он снял запотевшие очки и вытирал слезы с глаз тонким шелковым платочком, белоснежным до синевы. Потом опять вдруг всхлипнул и начал давиться и хрюкать, дергая плечами и мотая головой.
- Вот, видите, нехорошо как, - кивнул на него отец Борис, - И действительно, зачем это я вспомнил, не надо было мне вспоминать. Спаси Господь, спаси Господь. Помолимтеся, братья! Помолимтеся!
Он поднялся из-за стола.
- Потом, потом, - отмахнулся отец Стефан, - Потом, дай я успокоюсь.
- Ты никогда не успокоишься. Шутки нашел! Твой смех и погубит тебя! – пафосно воскликнул отец Борис.
Отец Стефан взял себя в руки, глубоко вздохнул и трясущимися руками взялся за чашку с кофе.
- Не ссорьтесь, - сказал Ева, - Распутин нам поможет, Распутин святой старец, он нас не оставит, все будет хорошо.
Отец Артемий и отец Борис одинаково медленно расправили плечи и одинаково медленно вытянули лица.
- Правда, отец Стефан? – спросила Ева.
Отец Стефан шмыгнул носом и опять странно захрюкал, косясь то на отца Бориса, то на отца Артемия.
Олег пошел купить себе булочку, принес и стал молча есть ее.
- Уважаемая, как вас - Евления! – скал вдруг отец Артемий, разглаживая медленно завитки рыжих волос над своими ушами и аккуратно, с любовью заправляя их за уши толстыми короткими пальцами, - Запомните и передайте другим. Свят тот, кто канонизирован Церковью Христа. Распутин – колдун, развратник, бражник, богоотступник. Святым он быть не может. Он язычник и точка. Он использовал для лечения некия языческие знания, и от кого он их приобрел, вы должны догадываться.
- Многие святые сначала были язычниками. Апостолы не родились христианами, а стали ими, уверовав в Христа. Княгиня Ольга, помните, города жгла, живьем в землю послов зарывала, в бане палила, вином поила войска на тризне, потом пьяных всех перерезала – так за мужа мстила. Святыми не рождаются, отец Артемий.
- Уважаемая Евления! – повысил голос отец Артемий.
- А, например, колдун Киприан - он ведь даже христиан убивал! Много кто сначала боролся с Христом до последних сил, а потом уже , без сил, - принимал Его. Святость – цель, а не путь. Путь может быть разный. Бог принимает и тех, кто утром пришел и тех, кто в одиннадцатом часу – одинаково. Смотря что принес. Правда, отец Стефан?
Отец Стефан перестал смеяться и, поправив тяжелые очки, кашлянул.
- Во как! - восхитился отец Артемий, - Ну-ну, дальше…
- Святость – только цель, она задана, как нам, например – Афины. Вот мы и летим в Афины. А путь к цели – любовь. Распутин лечил. Не убивал, не грабил, не боролся ни с кем, кроме себя. Но он не умел ненавидеть. Для меня этого достаточно. Царь и Царица звали его Другом, благословения у него просили. То, что он ведуном был – это так, не спорю. Но где вы видели хотя бы одного русского – не ведуна? Русские все ведуны. Распутин – прообраз русского народа, верный до смерти Царю и умерший за Царя.
- Уважаемая Евления, - тихо и ласково, понизив голос до вкрадчивого бархатного шепота, сказал отец Артемий. - Я все же настоятельно не рекомендую вам упоминать это имя во время нашей поездки, если вы желаете себе добра. Вы наверняка неверующая, невоцерковленная женщина, вы не попросили даже благословения, хотя перед вами три священника.
- Я не хочу просить благословения в суете. Я подойду, когда захочу, - сказала Ева.
- Видали? - удивился отец Борис, - И даже не стесняется так говорить! Когда она захочет, тогда подойдет!
- Душа управляет, – попыталась оправдаться Ева.
- Уж не знаю, кто вами управляет, милая, но только лучше бы вам было молчать в присутствии трех священников , а уж спорить – и вовсе не следует, - сказал строго отец Борис.
- Это так, - согласился отец Стефан, - Гордынька. Ну ничего, ничего, помучает да и отпустит.
- А под чемоданы и в чемоданы за благословением я не полезу, - уперлась Ева.
Все три священника печально отвели глаза в разные стороны. Случай был сложный. Им предстояло провести поездку с явным врагом, и враг этот был бледный, слабый, писклявый и – один. А их было трое, они были сильные, состоявшиеся, благополучные, верующие в Бога и служащие Богу мужчины. Бить ее словом – жалко, побеждать ее жалко. А молчать она не будет и эта легкая детская придурковатость делала ее практически неуязвимой.
Полет в Афины был с пересадкой в Вене. Перерыв между полетами более 5 часов. Решили посмотреть за это время центр Вены. Оказалось, что ехать до центра Вены от аэропорта очень далеко. Попали в пробку. Приехали, бегом пробежались по площади, заскочили в кафе, чтобы выпить традиционный венский кофе, выпили и помчались назад в аэропорт. Опять попали в пробку и чуть не опоздали. Перессорились. Батюшки ругались и спорили, как дети, Ева не могла сдержать смеха, она привыкла слушать взрослые жесткие и тяжелые ссоры на работе, а батюшки ссорились беззлобно, и злились друг на друга, когда она смеялась.
Олег цаплей вышагивал впереди, оглядывая со своей высоты, не потерялся ли кто. Ева, как брошенный ребенок, вприпрыжку бежала позади. Заблудились в аэропорту, спутали выходы, бегали за журавлиными ногами Олега, пока не услышали по радио свои фамилии и номер прохода:
- Семицветова… Родинов… Это нас зовут, Олег, нас зовут, вы же – Родинов? Рейс задержан, вы по-немецки понимаете? - завопила Ева.
- Я вас услышал, - поджал губы Олег и ускорил шаг.
- Дилетант. Кто тебя выучил, ты даже в аэропорту блудишь, - прошипела Ева себе под нос.
- Сама бы вела! – рассердился издалека Олег.
- Цапля тупая, - буркнула Ева.
- Перестаньте, перестаньте, рейс задержали, без нас не улетят, Господи, помоги! - причитал отец Борис, семеня короткими ножками к указанному по радио проходу.
- Вена прекрасна! – блаженно улыбался отец Артемий. - Я хотел бы остаться здесь! Вернее, вернуться сюда когда-нибудь. Хочется посмотреть и почувствовать ее целиком…
- А-а! У тебя есть шанс. Оставайся. Самолет сейчас улетит, - бросил через плечо отец Борис.
- Да, хорошо бы - вернуться! – сказала Ева. - Давайте все вместе попросим у Вены, пусть она нас позовет, чтобы мы могли однажды к ней вернуться.
Они подбежали к месту посадки, предъявили билеты и по рукаву побежали в самолет.
Ева вытащила на ходу из сумки маленький литой валдайский колокольчик и позвонила в него.
-Звоню, чтобы мы вернулись в Вену. Вена! Жди нас!
- Не надо, прошу вас, всех этих разных обрядов, зачем звонить? - недовольно оглянулся отец Артемий.
- Но это правда, если хочешь вернуться, нужно просто позвонить в колокольчик! – радостно сказала Ева и снова зазвонила в голосистый, золотистый, маленький, с ноготочек, валдайский колокольчик. Звонкая радостная трель, разлетелась как брызги и роса, как капли-дождинки золотого небесного волшебного дождя по всему аэропорту Вены и сказочно изменили его, он вдруг ожил, заулыбался, вздохнул удивленно и свободно, и все вдруг поверили в этот звон-трезвон-да-перезвон-да-переливы, поверили, что когда-нибудь вернутся, обязательно вернутся в эту сложную, призрачную, великую Вену, великую, как тихая сказка и многосложную, как каждая буква в ней.
Места в самолете были вразброс. Олег сел впереди, батюшки – вместе – посередине, Ева – в хвосте самолета. Высокий красивый индеец вежливо согласился поменяться с ней местами и уступил ей свое место у иллюминатора. Ева любила смотреть с небес на землю. Она никогда не спала в самолетах, не отрываясь смотрела вниз и чувствовала то, что чувствует Бог. Она всегда во время полетов плакала от счастья и жалости к малюсеньким, невидимым сверху людям.
Индеец оказался турком, он говорил по телефону на турецком, и Ева уловила несколько знакомых слов. Его бизнес был связан со сладостями. Сладкий бизнес – у такого красавца – логично. Ева покосилась на мужчину. Она никогда не встречал таких великолепных индейцев, разговаривающих на турецком о тортах для детского дома и поставках восточных сладостей в Швейцарию.
Индеец-турок, смуглый, холеный, лощеный, ухоженный, с высоким царским лбом, одетый просто в свитер и джинсы, положил телефон в нагрудный карман и медленно сверху вниз глянул на нее, прищурив умные вишневые глаза. Как из пулемета прошил очередью лицо-волосы-плечи-руки-колени-сумку-грудь-снова волосы – и впился в глаза. Ева вдруг похолодела и откинулась на спинку кресла, будто увидела и узнала своего убийцу. Она мельком глянула на свои бледные сухие руки с синеватыми ногтями и спрятала ногти в кулаки. Турок-индеец тоже выпрямился, взгляд его тоже похолодел и он перевел его на иллюминатор.
Самолет начал движение, быстро разогнался, задрожал и на секунду замер, готовый вот-вот рухнуть всей своей многотонной тяжестью на брюхо, как вздумавшая лететь жаба. Ева напряглась, перестала дышать, вцепилась в ручки кресла, закряхтела едва слышно, как бы помогая самолету подняться, оторваться от земли, зашевелила ногами, ища педаль газа, уперлась в ножку кресла и нажала на нее изо всей силы, зажмурив глаза, как на газ.
Турок-индеец покосился на нее, лицо его оставалось невозмутимым и холодным.
Высоту набирали тяжело и долго, попали в зону турбулентности. Самолет болтало в разные стороны, едва поднявшись, он проваливался в воздушную яму и снова набирал и никак не мог набрать высоту. Стюардессы как ни в чем не бывало начали раздавать напитки, запахло жареной курицей , и Ева отпустила все педали, вспомнив, что голодна.
- Сорри, - она попросила турка пропустить ее и зачем-то направилась к батюшкам. Подошла, приветливо улыбнулась, но они посмотрели на нее, как на чужую, незнакомую женщину.
-Тяжело летим, - пожаловалась она отцу Стефану.
- Да-да, ложись спать. Покушай и ложись спать, - невпопад ответил отец Стефан, - Все очень устали.
Ева прошла между кресел к Олегу. Тот тоже, увидев ее, равнодушно отвернулся к иллюминатору и Ева послушно пошла на свое место.
Турок-индеец пропустил ее к иллюминатору, вежливо наклонив в приветствии голову.
«Ну бывают же такие красивые мужчины в мире! – подумала Ева, - Ну почему я должна провести жизнь в каких-то непонятных делегациях?»
- Привет, - вдруг сказал турок-индеец.
- Привет, - кивнула Ева.
-Ти рус? Ти как зовут?
- Евления. Ну…Ева. Я - Ева.
Щеки ее внезапно загорелись огнем, она прямо почувствовала, как огонь полыхнул по ним и опалил губы, потом хлестнул по лбу.
Ева схватила щеки ладонями, испугавшись, что это с ними случилось?
- Я Адам.
- Как?
- Я Адам.
- Очень приятно, Адам. Я Ева. Вот это да!!! Адам и Ева…
Ева озадаченно потерла ледяными ладонями пылающий лоб.
- Ти как дела? – спросил Адам.
- Я хорошо. Только лицо горит. Щеки… Горит лицо у меня, понимаешь? – ляпнула Ева, поражаясь, какими глупыми могут быть слова и надеясь, что он их не понял.
- Понимаешь, - серьезно кивнул Адам. -Ти где живешь?
- В Санкт-Петербурге. Мы летим в Афины. С делегацией. Батюшки там, священники. Россия.
- Кирасива Русия. Я к тебе приеду.
- Понятно, - кивнула Ева, - А кто тебя приглашал?
- Не понимаешь…
- Я говорю, куда ты приедешь? В Россию?
- Ти , - Адам указал на нее, почти прикоснувшись рукой к плечу.
- Ко мне приедешь? - изумилась Ева, - А, ну приезжай, хорошо, приезжай, - согласилась вдруг она.
- Я жениться на тебе. Ти мне приедешь, мы свадьба, потом я приеду ти в Русия.
- Да, я поняла, поняла, это шутка такая. Молодец, ладно, договорились, - кивнула она.
- Хорошо? – переспросил Адам.
- Хорошо, - кивнула Ева.
Адам взял ее за руку и мягко сжал ладонь, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
- Начинается приключение, - прошептала Ева и попыталась высвободить руку, но он не отпустил. Ева покосилась на четкий, будто вырубленный из скалы профиль и спрятала растерянный взгляд в иллюминаторе.
Земля была уже далеко. Она , как короткие воспоминания о прошлом, проглядывала тусклыми обрывками между груд облаков и едва светилась прозрачными огнями. Солнце садилось. Наступала ночь.
Где-то она видела эту руку…Где? Это была очень знакомая рука… Ева снова попыталась высвободить ладонь, но Адам вдруг медленно развернулся к ней, наклонился и спокойно поцеловал – как ребенок, легко и мягко, едва коснувшись губ. Ева издала какой-то сверх восхищенный звук и отшатнулась.
- Здравствуй, - сказал Адам и впервые улыбнулся.
- Здравствуй, - завороженно прошептала Ева.
- Я тебя нашел. Ти понимаешь?
- Понимаешь…
- Я тебя искал. Ти понимаешь?
- Понимаешь.
- Хорошо, - кивнул он, - Спи, - и снова откинулся в кресле, закрыв глаза и крепко держа ее за руку.
Да, она видела эту руку, в том сне, много лет назад. Она всегда помнила тот сон. Он подошел, взял за руку и повел, говоря что-то непонятное. Она спросила:
- Кто ты?
Он сказал с акцентом:
- Твой муж.
- Ты иностранец?
- Твой муж.
- Как тебя зовут?
- Ма-…
В имени было два слога и второй она не расслышала, снова спросила:
- Как тебя зовут?
- Ма-…
Она опять не расслышала, опять переспросила, он снова повторил, и она снова не расслышала.
«А этот - Адам, это другой человек, не из того сна, - успокоила себя Ева, - У того были тоже длинные волосы, высокий лоб, но - он был абсолютно седой! Абсолютно! Только вот рука…»
Ева хорошо помнила руку – именно эту руку, которая сейчас крепко сжимала ее ладонь.
- Я с ума сошла, - прошептала Ева в иллюминатор, - Хорошо, что батюшки не знают.
Так рука в руке они и заснули. Проснулась Ева от какого-то внешнего толчка. Будто кто-то невидимый пихнул ее в грудь. Адам спал. Его горячая рука уже стала привычной, она разливала тепло по всему телу и сердце дремало, свившись в клубок, как кошка в сладком уюте.
Самолет вдруг дернулся, вздрогнул, на долю секунды остановился, как вкопанный посередине неба, будто что-то забыл или вспомнил, но потом все же полетел дальше, махнув на все крылом. Ева очень хорошо чувствовала самолеты. Она посмотрела в иллюминатор. За бортом было темно, только два ярких, неожиданных всполоха молнии ослепили ее. Она снова прислушалась к гулу двигателя. Ничего не произошло, ничего не случилось, ничего не изменилось, но внезапно изменилось все.
Адам приоткрыл глаза и посмотрел на нее:
- Что?
- Молния, - сказал Ева. – В нас попала молния. В самолет ударила молния, гром, гроза, понимаешь?
- Не понимаешь…
- Зевс, дождь! Понимаешь, Зевс!
- Понимаешь., - кивнул Адам.
- Это плохо.
- Да, - кивнул Адам и стал оглядывать салон. Стюардессы быстро, будто по вызову, удалились за штору.
- Я так и знала, - прошептала Ева, - Мне сказали утром, мне утром сегодня об этом сказали, понимаешь?
- Нет…
- Был гул. Земля гудела, понимаешь? Мы можем разбиться… Понимаешь?
- Понимаешь, - кивнул Адам.
Самолет медленно наклонился на левое крыло, лег на него, и Еву прижало к Адаму.
- Не бойся, - сказал он, обнимая ее за плечи. - Это назад. Летим Вена.
- Разворачиваемся?
- Ми назад домой.
Адам изобразил ладонью в воздухе, как самолет ложится на крыло и делает большой разворот на левом крыле, чтобы взять курс на Вену.
- Зачем? До Афин осталось полчаса.
- Молния да, Зевс.
Где-то в глубине души Ева оставила право на ошибку, но он удалил это право, убил словом «Зевс».
- Сорри, Адам, мои друзья, я должна их разбудить, френд, аркадаш, сорри, беним аркадаш…
Ева выскочила в проход и почти побежала к батюшкам.
- Отец Стефан, проснитесь, отец Стефан!
- Что случилось, Евления?
- В самолет ударила молния, мы летим в Вену, отец Стефан. Отец Артемий, проснитесь!
- Кто тебе сказал, - потянулся отец Артемий и сладко зевнул, - Ева, ты нас утомила.
- Не то слово! За один день она измучила нас, будто за сто веков, болтушка, - недовольно потер глаза отец Борис.
- Мы летим в Вену! Я боюсь, что мы упадем.
- Ева, через полчаса мы будем в Афинах, какая Вена? Успокойся и иди спать. Ну ты же взрослая женщина, ты не ребенок. Что это за поведение?
-Нет! Мы летим в Вену! У нас авария! Я думаю, что мы упадем!
- Кто тебе это сказал? Командир корабля?
- Адам. И я сама знаю.
- Кто такой Адам?
- Мой жених.
- Так, ну все. Идите спать, Евления, - строго сказал отец Стефан, - Хватит. Это бывает на высоте – нервы, и прочие там женские проблемы, но не до такой же степени? Дать вам валерьянки?
- Молитесь, отцы, молитесь! Наши молитвы, может быть, спасут самолет, но навряд ли. Мне утром сказали. Я все знаю.
Отец Борис что-то почуял, открыл иллюминатор и стал изучать темноту.
-Да, действительно, полыхает, грозовой фронт проходим, это верно, - сказал он раздумчиво.
- А что там на горизонте – Вена или Афины, брат? – пошутил отец Стефан.
Отец Артемий медленно и неотвратимо багровел от злости:
- Ева, честное слово, вы сложная женщина. Как будет – так будет. Все мы в руце Божьей. Суждено утонуть – не сгорим. Идите.
- Черт! – вскрикнул вдруг отец Борис и отшатнулся от иллюминатора, затем снова прилип лицом к нему.
- Что это ты, брат? - недовольно поморщился и перекрестился отец Артемий.
- Черт! Что это я сейчас опять увидел?! – воскликнул отец Борис, вытаращившись на всех.
- Что это ты опять, брат?! – возмущенно переспросил отец Артемий, - Чертыхаешься!
- А я видел его, видел, - прошептал отец Борис, - Смотри, смотри, Артемий, на облаке видишь? Вон, стоит, сейчас молния как вспыхнет, ты сразу и увидишь его. Вот тут он, глянь-ка.
- Что там? – недовольно протянул отец Артемий и, уставившись в иллюминатор, долго смотрел, ждал, впившись глазами в тьму и вдруг взвизгнул, будто его ужалила пчела:
- Черт!
- Господи, помилуй, - испугался отец Стефан, - Отцы! Кто это там?
- Ты видел его, видел? – весь белый от ужаса спрашивал отец Борис отца Артемия.
- Ты видел его, видел? - багровый от напряжения спрашивал отец Артемий отца Бориса, - Видел или я сошел с ума?
- Видел! – крестился и божился отец Борис, - Видел!
- Да уймитесь вы! Дайте-ка я тоже гляну!
Но отцу Стефану трудно было добраться до иллюминатора.
- Что вы увидели там, отцы? Зачем вы кричите, разбудили людей!
- Человек стоял на облаке, брат. Настоящий живой человек! И махал нам рукой, - прошептал отец Борис в страхе.
- И в глаза смотрел, – ледяным шепотом, брызжа слюной сообщил отец Артемий.
- Да какой же, помилуйте, человек может быть в небе на облаке? – озадачился отец Стефан, внимательно разглядывая ошалевшие глаза отца Бориса и отца Артемия. – Вы точно видели его, отцы? Оба видели?
- Стоял. И смотрел. Стоял?! Я спрашиваю, стоял? – взвизгнул отец Артемий, обращаясь к отцу Борису.
- Стоял! – таким же фальцетом, как эхо, взвизгнул отец Борис.
Ева испуганно спросила:
- А что сказал?
- Ничего не сказал, гул был, не слышно. В глаза смотрел, губами шевелил и гул был.
- Гул… - обреченно обронила Ева.
Отец Артемий снова полез к иллюминатору:
- Это что-то не то, это что-то не то…
- Все то, - решительно сказал отец Борис и направился к выходу.
- Куда вы, отец Борис? – растерялась Ева.
- В туалет.
- Спроси, Боря, у кого-нибудь, куда мы летим? - попросил отец Стефан.
- Спрошу, - сурово кивнул отец Борис.
Ева потопталась в нерешительности и пошла на свое место.
Прошел час, потом другой. Гул и полет, никаких стюардесс, никаких напитков, никаких объявлений по радио, только гулкий гул и полет, как в космосе.
Батюшки наконец-то поняли, что по времени давно должны были приземлиться в Афинах, стали по очереди оглядываться на Еву. Ева, не выпуская левую руку из руки Адама, правой крестилась и кивала им, мол, молитесь, отцы, что же вы не молитесь?
Неизвестно, молились ли батюшки, но самолет шел ровно, спокойно, как здоровый, но что-то задумавший, потом плавно пошел на снижение. Прошло еще минут пятнадцать и командир корабля объявил на немецком языке, что по техническим причинам самолет пребывает в аэропорт Вены и он просит всех пристегнуть ремни и не покидать свои места, слушать дальнейшие распоряжения стюардесс, потому что на самолете аварийная ситуация.
Ева знала поверхностно несколько языков и знаний немецкого ей хватило, чтобы понять, что жизнь ее заканчивается. Это утреннее предупреждение, - ведь дочка ведь тоже его почувствовала, проснулась… Огород не посажен, помидоры переросли на подоконниках, мама ничего не знает, она старая, ей не дорастить детей, они попадут в детский дом, книжка не вышла, счет в типографии не оплачен… Много что не оплачено, зачем она полетела? Кто ее будет хоронить? Где? Она даже не задумывалась, - где? Надо позвонить и сказать маме, что – к отцу.
Ева потянулась к сумке, чтобы достать телефон.
- Мы не умрем, - сказал вдруг Адам.
- Не умрем? Почему?
- Потому что я тебя нашел.
- Я должна позвонить дочке…
- Ноу паник, Ева.
- Маме позвонить…
- Тиха, Ева, тиха! Не звонить плохо, не пиши плохо, не думать плохо. О кей?
- О кей.
- Думать хорошо.
- Я думаю хорошо.
- Да, думай сейчас только хорошо. Я к тебе приеду Русия. Твоя дочка будет рада?
- Да. Она хорошая.
- Она моя дочка.
Самолет круг за кругом закружил над сияющим аэропортом, выжигая топливо. Ева увидела в иллюминатор скопления мигающих пожарных машин и снова стала думать плохо.
- Ева, думай хорошо! – велел Адам.
- Я должна пойти к моим друзьям, я сейчас вернусь.
- Быстро. Сейчас ми будем земля.
- Что ты говоришь – мы будем земля! Ты сказал плохо! Не говори плохо!
- Самолет - на земля - хорошо, - поправился Адам.
Батюшки облачались в рясы, доставали из сумок Евангелие. Пассажиры завороженно наблюдали за ними. Все все поняли. Олег спал.
- Олег, проснитесь! – тормошила его Ева.
- Что случилось?
- В самолет ударила молния, мы прилетели назад в Вену, сейчас кружим, выжигаем топливо, будем приземляться. Позвоните, куда следует, сообщите о ситуации, на всякий случай… Пусть ваши органы.., понимаете, документы там, разное… У меня дети!
- А у меня будто – коты! – вскочил Олег – Что происходит?!
- Мы падаем.
- Мы летим!
- Мы падаем…
- Дай сюда свой колокольчик! Зачем звонила?! Где он?!
Ева отшатнулась от него, как от безумного, и побежала к Адаму.
Она протиснулась между вышедшими в проход салона батюшками, они уже начали службу. Мягким, неожиданно очень низким басом запел отец Стефан. Отец Борис и отец Артемий подхватили, и молитва, как медленный свет, полилась по салону самолета.
Еву заколотило крупной, тяжелой дрожью. Она шла по салону, крестилась и видела, что справа и слева, вторя ей, крестятся все пассажиры: и белые, и черные, и с узкими глазами, и с круглыми, и с карими, и с голубыми, и с зелеными - все, как могли, неловко и неумело, внимательно следя за батюшками и Евой, осеняли себя крестом.
Она села на свое место. Стюардессы стояли позади батюшек и не решались просить их занять свои места и пристегнуть ремни. Они тоже, повторяя за батюшками, крестились. Ева глянула мельком в иллюминатор. Земля приближалась, самолет шел на посадку.
- Верую! Во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, - запели священники неожиданно мощно, как будто огромная волна поднялась с таинственного дна спящего океана. Ева забыла о страхе. Она завороженно смотрела на священников. Какими красивыми стали вдруг эти три поющих человека! Их лица были светлы, чисты, абсолютно великолепны, спокойны, бесстрастны и бесстрашны. Не было ничего лишнего – ни огненных кудрей, ни алых щек, ни толстой черной оправы очков, лица преобразились до безграничного совершенства, до неузнаваемости. Ева не видела ни отца Стефана, ни отца Бориса, ни отца Артемия. Посередине салона падающего самолета свободно и радостно говорили с Богом - три Христа.
- И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век.., - пели они, и она тоже пела.
И тут она услышала гул, это был он, утренний гул, звенящий натянутой до предела струной, только в миллионы раз сильнее «У-у-ааа, и-е-аааю-ю-ю-у…» - гудел весь самолет. Пассажиры, не зная слов, не понимая смысла, вторили батюшкам чуть отстающим тяжелым, глубоким эхо – на разных языках, каждый- свое, но гул был единый, мощный, торжествующий. Он сжался в пружину и задрожал, сдерживая себя, но - рос, оглушая до предела, готовый вот-вот вырваться и – взорваться, рассыпаться, разлететься на миллиарды гулких огней по всей Вселенной…
- И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки…
Адам крепко, до боли сжал ее руку: «О-о-о-у-юююю е-и-аааа» - тихо запел он, не зная слов.
- И во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь – гремел салон. Ева никогда не была так потрясающе, беспредельно, отчаянно счастлива…
И тут они рухнули.
Грубо, тяжело, со всего маху, как огромная скала, подкошенная долго звеневшими каплями, как планета с неба, со всего маха, всей жизненной силой, - рухнули навеки и в тот же миг взлетели - легко подпрыгнув, покатились по взлетно-посадочной полосе. Свет в салоне погас и Адам сказал:
- Не думай плохо!
Самолет загорелся. Они смотрели издалека, как слабое пламя лениво поползло по его животу, обреченно дожидаясь струи воды из пожарного шланга.
Экипаж наравне с пассажирами вошел в здание аэропорта. Командир экипажа жал руку каждому подходящему к нему. Олег на плохом немецком полез с расспросами.
-Вы русский? - неожиданно перебил его летчик.
- Русский…
- Я тоже. Из Пскова. Сейчас здесь работаю. Русские батюшки с вами летели?
- Да, они из моей делегации.
Отцы тихо сидели в стороне на подоконнике. Отец Стефан был без очков, он беспомощно жмурился от яркого неонового света, у отца Артемия было разбито лицо.
- Вот они, - указал Олег, - Упали при посадке, разбились…
- Мы слышали салон. Мы такого никогда не слышали…
Летчик подошел к священникам, взял у них благословение и внезапно исчез, будто его не было.
Ева плакала. Плакала и плакала - и на паспортном контроле, и в гостинице, где их разместили до утра, до следующего рейса, и в ночном кафе, куда они с Адамом забрели попить кофе, и возле каких-то фонтанов недалеко от аэропорта, плакала, понимая, что становится очень некрасивой от слез и оттого начинала рыдать. Наверное, за всю жизнь она не выплакала столько счастливых слез, сколько за эту ночь. Наверное, выплакала все невыплаканные.
- Хватит, Ева, етер, финиш, дур, стоп, - просил ее на всех языках Адам, и тогда она начинала выплакивать прошлые, несчастливые слезы и тоже потихоньку выплакала все.
Утром на посадке отец Артемий улыбнулся и попросил:
-Ты мне колокольчик свой, на всякий случай – подари.
-Не могу. Я его Адаму подарила. Он не летит в Афины, вечером возвращается в Стамбул.
- Ну, пусть в Вене не звонит. Пусть в Стамбуле звонит. Хоть целыми днями.
- А кого вы на облаке увидели, отец Артемий?
Отец Борис тут же вмешался:
- Это неважно! Этот вопрос не обсуждается! Не обсуждается!
Отец Стефан с утра пошел заказывать новые очки и пропал. Олег где-то бегал. Отец Борис нервничал:
- Мы опять опоздаем на самолет…
- А давайте не полетим, - робко предложила Ева.
- Уважаемая Евления! – начал заводиться отец Артемий.
Все как обычно, все как всегда…
Пришел отец Стефан в новых очках с васильковой оправой:
- Вот тебе Вена, Вена… А что – Вена? Очки нормальные не смог купить, вот такие только... фиолетовые…
- Брат, хорошие очки, не расстраивайся, мы сейчас в самолете будем мой доклад читать, я забрал из чемодана, - утешил его отец Борис.
Ева хихикнула.
Все как обычно, все как всегда. Но только все они был уже другими.
Она шла по коридору, смотрела в их спины и думала: что если бы ей сейчас сказали, что их самолет разобьется, а самолет на Стамбул – нет, куда бы она пошла?
Батюшки втроем оглянулись.
- Я здесь, здесь, - кивнула Ева, - Никуда я не денусь…
Глава 5
Мать Ихуды - Лия не любила его отца Рошеля, она любила Махо - тихого, работящего кареглазого красавца, не знавшего себе цену, скромного и пугливого. Махо день и ночь лепил из глины горшки и чашки и любил молчать.
Но Лия вышла все-таки замуж за Рошеля, потому что у Рошель всегда улыбался и говорил, что у него много денег. А Махо всегда молчал и прятал глаза при встрече. И денег у Махо не было совсем, хотя скрип его гончарного колеса всегда звучал в селении.
Свидетельство о публикации №117102007257