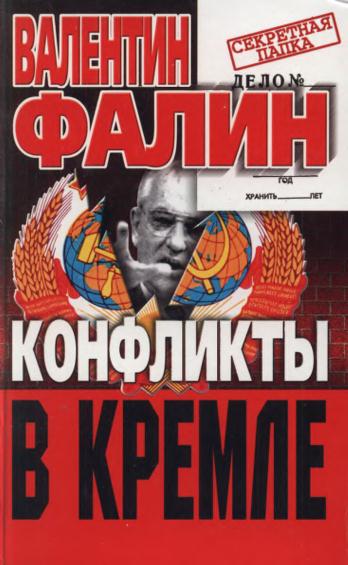не от жизни хорошей пришла Перестройка
от подвала до крыши трещала постройка,
но как всё у России- "особым аршином"-
мимо рта миллионов- ворам, властелинам...
ИЗ ИНТЕРНЕТА
(рассекречено в конце 90-х,после развала СССР)
...........................................
Приложение 4
Докладная записка Г.В. Писаревского и В.М. Фалина М.С. Горбачеву.
11 октября 1988 года
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Экономическая реформа буксует, ситуация на рынке потребительских товаров и услуг, а также в финансовой сфере даже обостряется. Внешний и внутренний противник пользуется любой возможностью, чтобы присолить наши раны, усугубить нам имеющиеся трудности и породить дополнительные с главной целью — подорвать веру в перестройку, то есть в правильность социалистического выбора.
Время поджимает. Терпение не бесконечно растяжимая величина. Нам отведено, наверное, не больше двух-трех лет на то, чтобы доказать себе и другим — социализм в ленинской редакции не утопия, идеи подлинного народовластия реальны, личные и общественные интересы при нашем строе не просто совместимы, но дополняют друг друга ко взаимной пользе. Доказать, разумеется, не созданием изобилия благ и демократизма, для чего потребуется труд и энергия, может быть, не одного поколения, а конкретными и зримыми переменами в быту, который сегодня во все большей степени определяет сознание.
Почему же, казалось бы, сверхочевидные, диктуемые жизнью инициативы с такими неимоверными трудностями пробивают себе дорогу? Что мешает новым правам и принципам, радикально измененным приоритетам стать конкретным делом? Все, похоже, упирается в людей или, точнее, в кадры, в которые, в отличие от машин, не заложишь новые программы, чтобы получить новый результат. Поныне у ускорения, в глазах многих теоретиков и практиков, преимущественно количественное и где-то на десятом месте качественное измерение.
Полвека ругая «искусство для искусства», мы в течение этих же десятилетий создали «экономику для экономики», насилующую природу и разоряющую народ. Мы переворачиваем в год 15 миллиардов тонн горных пород, давным-давно обогнали США по добыче топлива (кроме угля), производству стали, цемента, тракторов и т. д., по производству электроэнергии на душу населения впереди Японии. А что с этого имеют советские люди? 200 с небольшим рублей среднемесячной зарплаты, к тому же наполовину неотоваренной.
Зачем мы производим стали больше, чем США и Япония, вместе взятые? Изводим труд, сырье, а в итоге государство, как собака на сене, имеет запас товарно-материальных ценностей почти на 1,5 триллиона рублей, или в 2,5 раза больше, чем личное имущество всего населения страны. Комуэто нужно? Неужели астрономические цифры Госкомстата на газетных полосах действуют убедительнее, чем пустые полки магазинов?
Отраслевое ценообразование вздувает цены на товары потребления. Расслоение цен — социальный порок всех отраслей тяжелой индустрии. По некоторым подсчетам, это приводит к тому, что фонд потребления у нас практически такой же, как и фонд накопления.
Повышение темпов общеэкономического развития в затратных, безрыночных координатах — это, по сути, замена одного камня Сизифа на другой, более тяжелый. Совершенствование труда Сизифа, коим стали хрущевско-косыгинские реформы, — не путь перестройки: это ее тупик.
Нельзя делать два дела одновременно: перестраивать экономику по-новому и выполнять пятилетний план, сверстанный по-старому. Сейчас традиционно затратный пятилетний план — это лобовая броня механизма торможения. За этой броней и надеются отсидеться наиболее умные противники перестройки. Патология госзаказов 1988 года — наглядное свидетельство тому.
Где ключ, позволяющий хотя бы обоснованно формулировать ближайшую и среднесрочную перспективу, и есть ли в наличии такой ключ? Общество устало в экономическом и некоторых иных смыслах стоять на голове. Это и опасность, и шанс одновременно. Пример Китая показывает, как благодарно отозвался народ на дозволение ему прекратить бить поклоны маоизму и взяться вплотную за работу, хотя нам следует настраиваться на то, что поднять советское хозяйство — объективно более сложная задача, ибо процесс насильственного раскрестьянивания деревни и подавление всякой индивидуальной инициативы зашел у нас гораздо глубже, чем у любого из соседей.
Со всеми оговорками тем не менее можно констатировать, что нельзя восстановить нормальное экономическое кровообращение в СССР, минуя рынок или в обход рынка, как невозможно учесть в плане все многообразие запросов и вкусов, все тенденции научного, технического и эстетического развития, так в еще более ограниченной степени можно загодя рассчитать потребительский спрос или пытаться втянуть его в карточную, по существу, систему распределения товаров и услуг, даже если формально карточки выступают у нас в виде денег.
Ленинский призыв «учиться торговать» обретает таким образом второе дыхание. При В.И. Ленине этот призыв был обращен в первую голову к коммунистам. Теперь он касается всех и каждого, поскольку речь идет об обучении хозяйствованию в узком и широком смысле, о соотнесении личного вклада каждого в общее богатство страны и ожиданий на получение своей доли от общественного пирога. На социалистическом рынке бесчисленное множество удовлетворенных потребностей переплавится в мандат доверия партии и строю, придаст фундаменту нашего общества необходимую сейсмоустойчивость.
Отсюда вывод — нынешние нелады на рынке есть сигнал тревоги. Это не просто неудобство, каждодневно портящее людям настроение, а честным руководителям предприятий — здоровье. Нет, все гораздо серьезней, т. к. рынок превратился в решающий партийный форум. Независимо от того, нравится нам это или нет.
Наша государственная торговля в нынешнем виде — это собранные в букет пороки царского государственно-феодального интендантства. Приписочное, списочное, утрусное, усушное, обвесно-обманное воровство — это личный и корпоративный императив подразделений Министерства торговли СССР и казенной Промкооперации. Нет правил без исключения: и в торговле есть честные люди, но они погоду не делают.
Продукт в товар у нас превращает не личный интерес «труженика» прилавка, а план, который давно и прочно стал скелетом и мускулами приказной системы. План выполняется любой ценой, но прежде всего за счет потребителя: абсолютная монополия государства делает его абсолютно беззащитным.
Для чего нужен план, разверстанный до магазина, ларька, грязнохалатной полупьяной бабы, стоящей за передвижным лотком? Для команды. Планирование в нынешнем уродстве есть прямая и обратная связь затратной административно-командной системы. За выполнение плана, т. е. за исполнение команды, — получка, «пронормированная» Госкомтрудом, премия, награды, но не заработная плата. «Зарабатывают» воровством: клубнику — списывают, реальную и мнимую гниль — сортируют, продают, покупателя надувают и т. д.
План-команду уважают: правила игры стараются соблюдать, держат дефицит, в конце месяца подбрасывают его несправляющимся с заданиями магазинам. Дальше действует интерес. Корыстный. Принцип интендантской торговли — «не обманешь — не продашь», «не украдешь — не проживешь» — не знает сбоев. Безотказна и «трудовая селекция» подбора кадров госторговли: из 58 проверенных в августе продавцов розничной сети Главмосплодоовощторга 57 занимались обсчетом или обвесом.
«Боссы» заготконтор, транспортировки, складирования и реализации занимались саботажем перестройки. До августа 1988 года Москва овощами и фруктами снабжалась значительно хуже, чем за соответствующий период 1987 года. Сотни тысяч тонн скоропортящейся продукции были превращены в гниль. Сгнили даже импортные бананы, хотя наши «спецы» закупают продукт таких кондиций, что, казалось бы, нарочно не истребишь.
«Ситуация на овощных базах становится неконтролируемой», — заявил начальник московского управления БХСС тов. Сельдемидов. По его данным, за шесть месяцев 1988 года в системе Главмосплодоовощпрома выявлено 373 корыстных преступления, т. е. их резкий рост. «Во многих случаях, — сказал тов. Сельдемидов, — нами выявлены устойчивые преступные группировки». Это и есть антиперестроечная мафия, хорошо организованная и кем-то оберегаемая.
После реформ Петра I, заложивших основу тотальной государственности, украсть у государства для многих людей — от крепостного до губернатора — стало делом доблести. Сталин, строя не по Марксу, а по Петру нынешнюю государственность, постоянно принуждал народ ловчить. Августовский Указ 1932 года, паспортизация и беспаспортные зоны фактически ввели в стране крепостное право с той только разницей, что вместо реального феодала появился анонимный — государство.
Народ принудили красть. Несмотря на средневековую жестокость августовского Указа, воровство стало самосовершенствоваться, стало ремеслом и искусством: никуда от этого не деться. При Хрущеве Ларионов, приписочно укравший звезду Героя, застрелился. В конце жизни Брежнева воровство сделали наукой и профессией. Появились менеджеры воровства, «медвежатники» — потрошители казны на миллиарды рублей, сформировались кланы, поделившие страну на свои сферы влияния.
Они, неразоблаченные мафиози и приспешники разоблаченных, не обязательно в первых рядах антиперестройщиков, но всегда их глубокий тыл и опора, чтобы выжить или хотя бы продлить свой час; мафия старается подсыпать в буксы перестроечного локомотива песочек застоя: на каком-то перегоне колеса загорятся; мафия использует свои господствующие, непоколебленные нынешними реформами позиции в системе снабжения и услуг. И нам пожара не избежать, если мы, говоря ленинскими словами, отдадим «себя во власть «социализму чувства» или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к торговле» (Ленин имел в виду свободу торговли, рынок, товарно-денежные отношения, создание валюты).
«Торговля — вот то «звено» в исторической цепи событий, в переходных формах нашего социалистического строительства... «за которое надо всеми силами ухватиться» нам, пролетарской государственной власти, нам, руководящей коммунистической партии. Если мы теперь за это звено достаточно крепко «ухватимся», мы всей цепью в ближайшем будущем овладеем наверняка. А иначе нам всей цепью не овладеть, фундамента социалистических общественно-экономических отношений не создать».
В общем, без торговли нет социализма. Истинно и пророчески глаголено, и от того еще горшё...
Торговля — главное и на сей час самое слабое звено перестройки. Нормальная торговля — это нормальный обмен трудовыми эквивалентами. Исключительно на основе закона стоимости, а не на основе циркуляров Госкомцена. И тут надо сказать о самом страшном метастазе сталинизма (наряду с «презумпцией виновности» человека) — об антирыночных настроениях. Печально, что заразой антирыночности подвержены и высшие наши руководители.
Какой толк от еды, если в организме неправильный обмен веществ? В политике, как и в шахматах, ходы путать нельзя. Главмосплодоовощпром более чем успешно превратит в гниль любую арендную и подрядную прибавку к нашему столу. Прежде чем добавлять, надо научиться перерабатывать, сохранять, доводить до человека уже созданное. Доводить без потерь. Резонно и логично для каждого, кроме мафии, паразитирующей на планировании потерь всех видов и разновидностей.
Кронштадт-21 Ленин называл «политическим выражением экономического зла». Это, пожалуй, самое крепкое выражение Ленина о марксистской утопии безрыночного социализма. Для Ленина было жестоко мучительно осознавать, что Маркс и Энгельс ошиблись в моделировании нетоварного, безрыночного способа производства. Гипотеза не прошла проверку жизнью, «военный коммунизм» был ошибкой, ложной политикой, следствием принудительной безтоварной марксистской утопии.
Ленин шаг за шагом, переживая и мучаясь, отказывался от старых, дорогих ему воззрений, которым был он верен всю свою жизнь. А жизни-то у него оставалось всего год с небольшим.
Парализованный, едва восстановив речь, он диктует свои исповеди-завещания. Кому? Куйбышев предлагал «Правду» с ленинскими статьями печатать в одном экземпляре — для «старика».
Бухарин? Может быть. Бухарину Владимир Ильич сказал, что другой политэкономии, кроме Марксовой, не знает, политэкономии социализма нет. Что это? Возврат к постулату синей тетради, исписанной в шалаше в Разливе, что социализм — это буржуазное общество, но без буржуазии. А остальное все остается: рынок, закон стоимости, оплата по труду, — но нет дохода по капиталу, нет рантье, «кто не работает, тот не ест» — экономическое принуждение?
Да, великую трагедию пережил Ленин в канун надвигающейся кончины. Старых друзей, кроме Кржижановского, не осталось, новых — не заимел.
Де-факто продразверстку отменили тамбовский и кронштадтский бунты, письма крестьян, суть которых сводилась к следующему: декларируете «по труду», а фактически — равенство в нищете, поделенной на пайки разных категорий.
Бунты — «политическое выражение экономического зла». Бестоварность, «экономическое зло» — причина, голод, бунты, враждебность рабочих и крестьян — следствие. Победили контрреволюцию и интервентов, а оказались на краю пропасти. Полгода, год — и выстрел «Авроры» мог бы исторически оказаться зряшным.
Политический кредит полностью исчерпан, никакая ВЧК продлить его уже не может. Значит, гражданскую войну срочно надо менять на гражданский мир. Как? Установлением нормального рыночного обмена трудовыми эквивалентами, решительной демилитаризацией жизни, радикальным смягчением режима осажденной крепости, смычкой города и деревни, смягчением цензуры, налаживанием торговли и других форм обмена с внешним миром, учебой у капиталистов, нарабатыванием культурности.
Ленин физически начал ощущать, как тошненько ему от сладенькой квазикоммунистической болтовни, а ее, по мере роста чиновничества, становилось все больше и больше. Как обуздать бюрократизм? Словарь Гранат оповестил: в 1913 году в России, которая из уютной Европы виделась эталоном бюрократического идиотизма, на одного чиновника приходилось 14,6 рабочих, в 1921 году — 6,1.
Почему же удельный вес государства в послеоктябрьском обществе так быстро вырос? Социалистическое государство, безусловно, должно быть крепким, способным обуздать любую стихию, отразить нашествие. Но где предел его роста? Почему оно уродливо растет в сторону чиновничества, под его дудку? Качество, учил Гегель, есть непознанное количество: коммунистический университет не заменит одного Маркса, тысяча рапповцев — одно Пушкина.
Что делать? Легче отвечать на вопрос, когда цель ясна, когда надо было рушить царизм; 17-й год с апреля до октября Ленин провел виртуозно, в исторических монографиях, наверное, каждый момент опишут, конечно, и ошибки найдут, но вектор был выбран правильно. Но было легче: здоровье было, жизнь была. А тут грузинское дело — рукоприкладство Серго, покрывательство Дзержинского. Почему оно его так взволновало? До инсульта, до паралича. Хлеще выстрелов Каплан.
Очень много проблем предстоит решить одновременно, но главная из них — свобода торговли. Что даст она? И Ленин делает набросок: «Свобода торговли а) для развития производительных сил крестьянского хозяйства, б) для развития мелкой промышленности, в) для борьбы с бюрократизмом» (т. 43, с. 386).
В подполье, в революцию и гражданскую войну социализм воспринимался как голая антибуржуазность, как отрицание всякой буржуазности.
Это в корне неверно, ибо тогда нет места распределению по труду. Сколько раз он читал «Критику Готской программы», густо процитировал эту работу в «Государстве и революции», и вдруг через паек — сразу к коммунистическому распределению. Итог: голод, холод, тифозная вошь.
Суд истины — превыше всего. Ясно: надо отступить, не по тому пути пошли, необходимо вернуться назад, к товарному производству.
«Пробуржуазность» Ленина впервые мелькнула в его работе «О продовольственном налоге». «Мы часто сбиваемся все еще на рассуждение: «Капитализм есть зло, социализм есть благо», — писал Ленин. — Но это рассуждение неправильно, ибо забывает всю совокупность наличных общественно-экономических укладов, выхватывая два из них. Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капитализм есть благо по отношению к мелкому производству, по отношению к связанному с распыленностью мелких производителей бюрократизму.
...капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный продукт мелкого производства и обмена, и постольку мы должны использовать капитализм (в особенности направляя его в русло государственного капитализма), как посредствующее звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, прием, способ повышения производительных сил...»
А несколькими страницами до цитированных слов Ленин спрашивает: «Как же быть? Либо пытаться запретить, запереть совершенно всякое развитие частного, негосударственного обмена, т. е. торговли, т. е. капитализма, неизбежное при существовании миллионов мелких производителей. Такая политика была бы глупостью и самоубийством той партии, которая бы испробовала ее. Глупостью, ибо эта политика экономически невозможна; самоубийством, ибо партии, пробующие подобную политику, терпят неминуемо крах.
...либо (последняя возможная и единственно разумная политика) не пытаться запретить или запереть развитие капитализма, а стараться направить его в русло государственного капитализма. Это экономически возможно, ибо государственный капитализм есть налицо — в той или иной форме, в той или иной степени — всюду, где есть элементы свободной торговли и капитализма вообще».
Эволюция взглядов Ленина после 1921 года все время двигалась к постепенному признанию того, что социализм — это не антибуржуазное, а постбуржуазное общество с товарным производством, рынком, конкуренцией, валютой, демократией и т. д. Ленин обратился к Фурье, к работам Чаянова и других экономистов. И в своей, может быть, самой гениальной работе «О корпорации» писал: «В мечтаниях старых кооператоров много фантазии. Теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью».
Почему кооперация? Почему трудовой коллектив, особенно на селе, должен стать кооперативом кооперативов?
Потому, что именно кооперация — та система координат, где можно совмещать, гармонизировать личный интерес с коллективным, коллективный — с государственным, государственный — с общественным. И наконец, решить главное, убрать камень преткновения — распределение, добиться социальной справедливости — оплаты по труду. Именно в кооперативе и в кооперативе кооперативов, т. е. трудовом коллективе любой величины, реально перейти к оплате по труду: без этого строительство социализма — утопия, без этого общество, человек, отчужденные от собственности и власти, неминуемо становятся придатком государства, его рабами, что, к несчастью, и произошло.
Государство — тотальный собственник и властелин — через свой чудовищный бюрократический аппарат реанимирует и утверждает рефеодальную форму производства, обмена и распределения, порождает главный антагонизм — отчуждение человека от собственности и власти.
Повторим: отчуждение человека от собственности и власти — главный антагонизм нашего общества, главный результат антиоктябрьского переворота 1928—1932 гг., совершенного Сталиным и его приспешниками. Государственный социализм, где всем — от ржавого гвоздя до космической станции — распоряжается государство через чиновника, никогда не пойдет дальше лозунга. Ибо форма собственности, по Марксу, «скрытая основа всякого общественного строя» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 354).
Речь идет не об «ошибках» и «деформациях», а о контрреволюционном перевороте через действие закона Сатурна («революция пожирает своих детей»). Суть не в злодее — Сталине (это для почитателей «Детей Арбата»), а в злодействе лишения человека собственности и власти, превращения его в «винтик» государственной машины, что неизбежно коронует Сталина, Мао, Полпота такой реальной властью, какой ни у одного феодала, кроме, может быть, Чингисхана и в помине не было.
Трудовая деятельность людей вечно триадна: производство — обмен — распределение. Причем звено «производство — обмен» надэпохально и надклассово с тех пор, как дикарь-охотник менял мясо на рыбу с дикарем-рыболовом.
Распределение — исторично: раб, как скотина, получал пропитание, крепостной — побольше, уже имел хозяйство, наемный пролетарий получал по труду, но ровно столько, сколько обеспечивало его работоспособность и физическое воспроизводство. Сейчас, когда развитой капитализм динамично нарабатывает социалистичность, что исторически закономерно[26], буржуазия изощренно эксплуатирует интеллект: информация стала главным товаром мировой торговли, идеи ценятся превыше всего.
Говорится все это к тому, что пора раз и навсегда вымыть из людских голов, в том числе и из руководящих, ложь о несовместимости социализма и рынка. Безрыночный социализм — это глубоко больное общество, в коем расстроен обмен трудовыми эквивалентами. Звено «производство — обмен» социалистично. В той же мере, как оно и буржуазно, и феодально, ибо оно вечно: закон стоимости — это печень экономического организма любой формации. И сколько бы, к примеру, ни произносилось пламенных речей о ресурсосбережении и охране природы, положение тут может лишь ухудшаться, пока мы не перейдем к оптовой торговле, пока люди не будут платить за все — воду, землю, даже чистый воздух.
Что же касается третьего, завершающего звена трудовой деятельности людей — распределения, то тут нас всегда будет подстерегать опасность принять одно из последствий закона стоимости (фетишизацию вещей) за его суть. В любой форме обмена, даже в такой идеальной, как обмен веществ в человеческом организме, неизбежны шлаки. Какую б пищу мы ни употребляли.
Можно, конечно, не замечать вселенскую антисанитарию наших вокзальных или городских нужников, но стоило на Павелецком вокзале перевести туалеты на закон стоимости, сдать их в аренду кооператорам, — и ситуация очеловечилась. Конечно, до японских и финляндских туалетов с их стерильностью хирургической палаты далеко, и все же кооперативные туалеты — уже цивилизованность.
Мы привели пример, с точки зрения гоголевских дам и трубадуров соцреализма, «нецензурный», однако живую жизнь не зацензуришь. Не менее педагогичны с позиций закона стоимости наши строительные площадки (дом строим, два закапываем), заводские свалки, городские помойки, дворы, подъезды и лестничные клетки большинства жилых домов. Технологически антисанитарны наши автомобили и трактора, телевизоры и холодильники: любое наперед заданное изделие мы делаем минимум на порядок ниже японцев. Народу недоступны ксероксы, компьютеры, практически все средства информатики. Миллионы матерей мучительно размышляют, чем им завтра накормить детей, как одеть и обуть их, где купить зелень, как достать гречку и т. д.
Зачем мы надели на себя эти вериги? Ведь ясно (и без Маркса, и без Ленина), что Сталин превратил социализм из учения в веру, из метода — в набор догм и инструкций. Он растворил общество в государстве и сделал его беспомощным: государственная собственность, бесконтрольно управляемая бюрократическим аппаратом, анонимна и беззащитна от покушений со всех сторон.
Не проще ли остраказировать «мыслителей и деятелей», образованность коих завершилась вызубриванием «Краткого курса» и «Экономических проблем социализма в СССР»? Мы неоднократно уже говорили и будем говорить всегда, что в обществе должны стать Законом три нормы:
1. Нормальный обмен трудовыми эквивалентами, который возможен только на рынке и который реально может ликвидировать абсурд затратности;
2. Нормальный обмен информацией, который возможен только в условиях демократии и гласности: информационная автаркия, засорение и зауживание догмами, авторитарностью информационных потоков неминуемо ведут социализм к сталинизму, а западные демократии — к фашизму;
3. Нормальная система обратных связей, которая приоритетом закона гасит авторитарность: обществом могут справедливо править только законы, а не люди. Когда этого нет, общество становится аномальным.
Необходимо принудить и чиновника, и догматика принять эти три истины. Ибо перестройка погибнет без демократии и гласности, погибнет от беззаконности, погибнет без свободы торговли. Вместе с перестройкой погибнет и социализм: шанс нам дается последний.
Нас обходят уже Бразилия и даже Индия. Развитой капитализм обогнал нас экономически на целую постиндустриальную эпоху и стремительно уходит уже в следующую — информационную эпоху. Это — жестокая реальность.
Государство рационально торговать не может по той причине, что оно всегда живет за счет общества. Государство может вместе с тем стать цивилизованным прокурором торговли, регулировщиком финансовых потоков, контролером оплаты по труду. Само же государство оплату по труду ввести не может: это чистой воды утопия. Госкомтруд надо закрыть, сделать там в назидание потомкам музей издевательства над трудом.
В средствах массовой информации необходимо без передыху сечь антитоварников. А логично говорить о товарном характере социалистического способа производства и одновременно пугать людей «рыночным социализмом».
Ленин в 1921 году кронштадтский бунт подавил, но корень познания из него извлек. Мы также обязаны подавить бунт Главмосплодоовощпрома-88, но не правом силы, а силой права. И отменить интендантско-казенную торговлю «по довольствию», заменить ее свободой торговли.
Все московские плодоовощные базы надобно сдать в аренду кооператорам-оптовикам. Пусть люди торгуют. Одновременно они должны получить и право на подбор и разгон кадров по методу трудовой селекции: вор и пьяница — вон, лодырь — за ворота, труженик — зарабатывай без потолка, хоть 10 тысяч в месяц.
За 60 лет, после слома нэпа, государство так и не накормило москвичей нормальной пищевой, а не технической картошкой, овощами, фруктами, зеленью. И никогда не накормит: это не его функция. Кооператоры-торгаши в смычке с кооператорами-арендаторами накормят. А если арендатор цивилизуется в фермера, он страну завалит продовольствием.
Не надо мудрить: нэп Ленина и нэп Дэн Сяопина начались со свободы торговли, с нормализации обмена трудовыми эквивалентами. Пора, наконец, равенству в нищете убежденно и последовательно предпочесть неравенство в процветании.
Что напрашивается уже сейчас, сегодня, завтра? Разрешить и поощрить создание Всесоюзного общества защиты потребителей — добровольного, с мощной юридической службой. Это позволит даже на базе нынешней законности разорвать преступный синергизм отраслевого монополизма. Пример: министерство торговли, вопреки правилам, меняет пожароопасный, бракованный телевизор после пяти «гарантийных» ремонтов: далеко не все люди — стоики, многие из них не выдерживают «хождения по мукам». Налицо — обираловка.
Когда общество защиты потребителей вызовет министра торговли и его команду в суд и выиграет дело, тогда создание правового государства перейдет от лозунгов и митингования в плоскость практических дел.
Юридическая служба — суд присяжных, прокуратура, следствие, адвокатура — лаборатория и мастерская правотворчества перестройки. Суд, где в нормальном обществе вердиктуется истина, у нас в силу сталинского «народовластия» ассоциируется с бериевским лагерем. Народ предстоит приучать к норме: суд — не палач, а защитник от любой формы произвола, от лжи, клеветы, торгового и иного обмана. Партийное руководство юридической службой целесообразно сдвинуть на ступень выше: районное звено политически и морально руководится обкомом, а не райкомом, областное - ЦК КПСС.
Исполнение закона ни при каких обстоятельствах не может быть безнравственным. Наши моряки, получающие минимум в 10 раз меньше своих зарубежных коллег, везут домой всяческие западные штучки типа видеомагнитофонов, сдают их в комиссионные магазины, где с них берут 7% от стоимости проданного товара. Работники БХСС переписывают фамилии законно поступающих моряков и передают списки «спекулянтов» в парткомы пароход ств.
Разве так можно? Только абсолютный произвол в загранвыездах («презумпция виновности» человека — песнь песней сталинизма) не позволяет морякам подать в суд на БХСС. Разве у сотрудников БХСС свой закон? Другое дело, что действующие правила, видимо, несовершенны. Но коль они действуют, коль люди их выполняют, то не может быть «закона БХСС», «закона министерства», «закона администрации», равно как, по Ленину, рязанских, казанских и пошехонских законов.
Примерно так же действуют сейчас и службы Внешэкономторга в отношении кооперативов: вдруг обогатятся. Из 3000 московских кооперативов только шесть получили право выхода на мировой рынок.
Почему? Разгадка проста. Государство — точнее, его чиновники — абсолютно неконкурентоспособно по сравнению с кооперативами. И монопольно душит их, продавая «частникам» сырье и ресурсы в 6 раз дороже, чем государственным предприятиям. И несмотря на этот экономический разбой, кооперативы живут, а некоторые из них даже процветают.
Как? У кооперативов только одно, но решающее преимущество — подбор кадров по методу трудовой селекции. Лодырей, неумех, пьяниц не перевоспитывают, а гонят взашей. Уже этого достаточно, чтобы бить казенный сектор.
Кооператоры, вне сомнения, тому же государству заработают не меньше валюты, чем Внешторг. Ныне доля СССР в мировой торговле продукцией машиностроения в 10 раз, на порядок (!), ниже, чем Японии. И это с включением сэвовских товарообменов и индийского, финляндского клиринга. Если же взять Запад, то там наших товаров высокой технологии минимум в 100 раз меньше, чем японских! Куда дальше?
Продавать почти 200 миллионов тонн нефти, десятки миллиардов кубометров газа, круглую древесину, руды и иные божьи дары ума не надо. Да он чиновнику и не нужен: подписал раз в год контракт по 3—4 позициям и спи спокойно.
Товарной «мелочевкой» казенные службы не занимаются, не умеют, не хотят. Тут риск, сметка, самостоятельность решений. Вот пусть кооператоры этим и займутся. Продают за рубеж нехитрые и хитрые поделки, пусть учатся торговать.
Может быть, за тыквенные семечки кооператоры и наменяют нам бананов, накормят ими детей[27], будут перерабатывать сырье, шить модницам индивидуальные наряды, угостят скандинавов, а то и англичан уральским груздем, возьмут заказы на переводы, на составление программ для ЭВМ, откроют гомеопатические аптеки и т. д. Кому это мешает? Люди будут учиться культуре западного труда, учиться торговать по-европейски, о чем мечтал Ленин.
Намордник на внешнюю торговлю кооператоров — еще одно свидетельство того, что нам, как воздух, нужен Закон об общенародной собственности. Этот закон должен уравнять в правах все виды собственности — от государственной до личной. Пока партия, а это только ей под силу, не обуздает государство, не начнет действительное обобществление государственной собственности и власти, перестройка будет буксовать.
Теперь о главном товаре мировой торговли — информации. Ее производство и продажа стремительно растут, стоимость информации уже намного обогнала стоимость всех энергоносителей.
Человечество, к сожалению, не наша его социалистическая часть, буквально врывается в информационный век. Он уже брюхат, причем заметно, психологической революцией, которая увеличит КПД человеческого мозга, может быть, в 10 раз, в 2 раза — наверняка. Замаячило что-то невероятное. И на какой обочине окажемся мы? Не последней ли телегой в обозе?
Медлить нельзя. На Западе идет стремительный процесс формирования информполисов по типу технополисов. Традиционная печать обзаводится электронными средствами массовой информации. Журнал «Штерн» и газета «Асахи» уже купили и искусственные спутники для телепередач.
В космосе над северным полушарием уже 18 телепрограмм. В Японии миниатюрные параболлические антенны доступны каждой семье. Лазерные диски с цифровой звуко- и видеозаписью становятся предметом первой необходимости.
А что мы? По-прежнему страдаем от нехватки убогой газетной бумаги, 70 лет правим величайшей страной, а «Правда» — все та же листовка, до «Униты» и «Юманите» не доросла. По Гостелевидению одна на всю страну информпрограмма, убеждающая, как после взрыва в Арзамасе, что во всем виноват стрелочник.
При капитализме информация — главный товар. У нас — информация все еще, несмотря на перестройку и гласность, главное зло для государственного чиновника внутри, голая пропаганда — вовне. Пропаганда — вещь сытая: пиши, что «Запорожец» лучше «мерседеса», а в Вологде — сытнее, чем в Стокгольме, и за рубеж поедешь, если «правильных» мыслей оттуда пришлешь: разлагаются, негров линчуют, не сегодня-завтра перевешают или перетопят.
Но пропаганда ведь в любом виде, в самой профессиональной упаковке, почила в бозе: информатика хлеще арзамасского взрыва разнесла ее в куски. Началась эпоха информационной работы. Это — удел профессионалов. Чтобы быть хотя бы на среднем уровне, надо жестко перейти на кадровую политику по методу трудового отбора. Народные деньги надо оправдывать, да еще и с наваром.
Короче: информацию надо продавать. Это — главный вектор прорыва в нашей внешнеторговой деятельности вообще, учитывая закрытость нашего общества и монополию на информацию.
Если продажу информации поручить государству — пиши пропало. Нужен общественно-государственный концерн, подчиняющийся только Центральному Комитету. Это, по замыслу, должен быть кооператив кооперативов — АПН, ТАСС, Гостелерадио, Госкомиздат, Госкино, Союз журналистов, «Знание», Внешторг и т. д. У концерна в каждой республике и в Ленинграде должны быть дочерние фирмы.
Незнание, неумение торговать, барско-антиинтеллектуальное отношение к торговле обходятся очень дорого. Взять акт милосердия нашего руководства — освобождение М. Руста. Разреши АПН за сутки (всего за сутки) взять интервью у Руста — видео и газетное, сделать фото, и мы бы только в ФРГ положили в тощую казенную казну нашу минимум 200 тысяч долларов. Эту сумму АПН целевым назначением перечислило бы, к примеру, Запорожскому автозаводу для закупки остродефицитного оборудования, а трудовой коллектив ЗАЗа совместно с АПН передал бы инвалидам-афганцам 200 «Запорожцев».
Разумеется, социалистическим, дружеским развивающимся странам компрессе информация по-прежнему предоставляется бесплатно.
Поскольку информация — главный товар мировой торговли, впервые появилась реальная возможность проводить коммерческо-пропагандистские акции. Допустим, сувенирно продавать списанную военную форму (БУ — бывшую в употреблении) или корпуса ракет «СС-20», порезанные на сувенирные плакетки с яркой наклейкой «Перестройка — Советы разоружаются», Пропагандистский эффект, к примеру, в Западной Европе и США превзошел бы все ожидания. Плюс немалые деньги для ЦК. Продавать же это пока может только АПН, информационное агентство советской общественности.
Рискнем? Переведем миллионы долларов на милосердие и за немалый политический навар?
ЦК КПСС пришел черед задуматься над созданием своего партийного телевидения, теле«Правды». Плюс мировой видеослужбы на русском языке: ЦК дает ракету, скажем, АПН находит партнера, который покупает спутник. Эфирное время — пополам. Разбогатеем, свои спутники запустим.
ЦК взял ленинский курс на кооперацию, на аренду, на правовое общество, т. е. на народизацию собственности, на постепенное преодоление отчуждения человека от собственности и власти. Даже в порядке партийной дисциплины коммунисты обязаны личным примером и личным участием возглавить кооперативное движение, на деле осуществить завет Ленина о превращении каждого трудового коллектива в «кооператив кооперативов».
Без свободы торговли, конкуренции[28] мы никогда не перейдем к оплате по труду: ее может начислять только закон стоимости, а не чиновники. В перспективе, но самой ближайшей, было бы полезно, если б ЦК из общепартийной кассы выкупил у Гостелерадио старенький — и физически, и морально — Шаболовский комплекс и передал его в аренду сопернику ГТР. Появилась бы конкуренция, сдвинулась бы и рекламная деятельность, которая у нас находится на пещерном уровне. А ведь мы вроде бы (пока в благих намерениях теории) начинаем «учиться торговать».
Мир полон парадоксов. Японцы-самураи и немцы-тевтоны стали лучшими на свете торгашами, а евреи — воинами. Мы, коммунисты, если хотим управлять действительно великой и процветающей державой, обязаны стать торгашами. Станем — тогда раскрепощенная энергия народа сдвинет горы.
Г. Писаревский, В. Фалин
................................................
ИЗ ИНТЕР
Фалин Вал. Мих, род. 1926г
В 1988—1991 годах заведующий Международным отделом ЦК КПСС. Секретарь ЦК КПСС в 1990—1991 годах.
В 1992 году переехал в Германию, где по приглашению известного немецкого политика Эгона Бара работал профессором истории в Институте изучения проблем мира и безопасности (нем. Institut f;r Friedensforschung und Sicherheitspolitik) при Гамбургском университете.
В 2000 году вернулся в Россию, продолжает читать лекции в МГИМО. Живёт в Москве. В 2010 году ему была объявлена благодарность Президента Российской Федерации
.
15 октября 2011 возглавил экспертный совет международного комитета движения «Интернациональная Россия»
Данных о Г.В.Писаревском в интернете нет
Свидетельство о публикации №117020402688