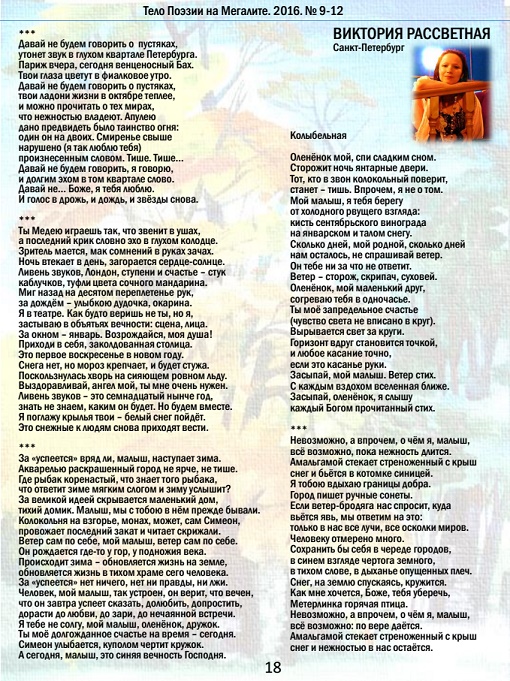Виктория Рассветная-Ровно три ливня света-2-ТП9-12
(Санкт-Петербург, Париж, Прага)
РОВНО ТРИ ЛИВНЯ СВЕТА
(поэма)
***
Когда последний луч скользнет по гнутым ставням
и маленький сверчок продолжит свою речь,
в семнадцатой главе к нам молча выйдет Гамлет
и спросит, что беречь, ну что ещё беречь.
Споткнувшись о строку, я вымолвлю устало,
что от полынь-травы нет проку никому.
Ресницы опустив, мой музыкант сначала
начнёт играть не в такт мелодию свою.
Закончатся хлопки, погаснут в небе рампы,
иллюзия и жизнь пройдут, касаясь нас,
появятся ещё великие эстампы,
они для тихих глаз, они для тихих глаз.
Задумчиво глядит разбуженная нежность.
Осенних красок мне уже не превозмочь,
в них чувство глубины и поздняя неспешность,
кармина звёздный край и в бесконечность ночь.
***
Зима сковала сумраком мосты и лица,
дома и дни,
а я опять иду к тебе довоплотиться,
ноябрь продлить.
Мой Бог, мой свет и ангел, мой янтарный вечер
(горит свеча),
крыло и лёгкий день мне опусти на плечи.
Как горяча
щека твоя. За мной мерцает белым лотос,
кудель прядёт,
и кажется, ещё секунда, будет вспорот
весь небосвод
сияньем розы алой, её жемчужным сном.
Дыши-дыши.
Я выверена мерой света, верной самой –
поглубь души,
поглубь реки, поглубь ресниц (что реки, Боже!) –
дрожит закат.
Янтарный вечер словно на запястья брошен:
бездонен взгляд, –
запястья музыки. Так Моцарт за свирелью –
горит свеча.
Зима сковала сумраком, дождём, метелью.
Как горяча
любовь твоя: забвение, что по спирали,
сулит ключи.
За серпантином клавиш, по дороге рая
к тебе идти.
***
С неба падает снег хрустальными хлопьями,
тает в ладонях,
из глаз твоих катятся слёзы
жемчугом белым,
реками глубокими, без дна.
Мне хочется плакать вместе с тобой,
вместо тебя,
с Богом,
который держит тебя бережно в своих объятиях.
Говорить о северном сиянии, о спутнике Ромула,
о том, что доброе сердце спасёт...
нет, не мир – человека в самом человеке.
Невозможно постичь, как возможно
стать нужным кому-то:
время замедлило бег,
течёт плавно,
и прожитый день измеряется мерой участия:
глубже – любви.
Столько белого – больно смотреть:
это ангелы мир обнимают.
С неба падает снег.
***
Давай не будем говорить о пустяках,
утонет звук в глухом квартале Петербурга.
Париж вчера, сегодня венценосный Бах.
Твои глаза цветут в фиалковое утро.
Давай не будем говорить о пустяках,
твои ладони жизни в октябре теплее,
и можно прочитать о тех мирах,
что нежностью владеют. Апулею
дано предвидеть было таинство огня:
один он на двоих. Смиренье свыше
нарушено (я так люблю тебя)
произнесенным словом. Тише. Тише...
Давай не будем говорить, я говорю,
и долгим эхом в том квартале слово.
Давай не... Боже, я тебя люблю.
И голос в дрожь, и дождь, и звёзды снова.
***
Время неумолимо.
Сердце у пилигрима
занято белым светом.
Время неумолимо:
встреча – проходим мимо.
Кажется, всё успеем.
Зорко одно лишь сердце.
Боже, позволь согреться.
Вновь обниму колени.
Вместе под абажуром,
письма читая Мура:
дерево – светотени.
Сонмы ресниц сметая,
сердцем в ворота рая –
рано ещё – живите!
Нежный мой оленёнок,
первенец мой, ребёнок,
Господи, Нефертити.
Капли пронзают землю,
я сейчас тебе внемлю:
берег – шаги – босая.
Ровно три ливня света
жду твоего ответа
у колокольни мая.
Время неумолимо.
Время стремится мимо.
Души друг друга рады
видеть. Смеётся ветер.
Боже мой, всё на свете
стуком одной громады –
той, что зовётся сердцем.
Нет, никуда не деться
от натяженья нитей,
нежный мой оленёнок,
первенец мой, ребёнок,
Господи, Нефертити.
***
Ты Медею играешь так, что звенит в ушах,
а последний крик словно эхо в глухом колодце.
Зритель мается, мак сомнений в руках зачах.
Ночь втекает в день, загорается сердце-солнце.
Ливень звуков, Лондон, ступени и счастье – стук
каблучков, туфли цвета сочного мандарина.
Миг назад на десятом переплетенье рук,
за дождём – улыбкою дудочка, окарина.
Я в театре. Как будто веришь не ты, но я,
застываю в объятьях вечности: сцена, лица.
За окном – январь. Возрождайся, моя душа!
Приходи в себя, заколдованная столица.
Это первое воскресенье в новом году.
Снега нет, но мороз крепчает, и будет стужа.
Поскользнулась хворь на сияющем ровном льду.
Выздоравливай, ангел мой, ты мне очень нужен.
Ливень звуков – это семнадцатый нынче год,
знать не знаем, каким он будет. Но будем вместе.
Я поглажу крылья твои – белый снег пойдёт.
Это снежные к людям снова приходят вести.
***
За «успеется» вряд ли, малыш, наступает зима.
Акварелью раскрашенный город не ярче, не тише.
Где рыбак коренастый, что знает того рыбака,
что ответит зиме мягким слогом и зиму услышит?
За великой идеей скрывается маленький дом,
тихий домик. Малыш, мы с тобою в нём прежде бывали.
Колокольня на взгорье, монах, может, сам Симеон,
провожает последний закат и читает скрижали.
Ветер сам по себе, мой малыш, ветер сам по себе.
Он рождается где-то у гор, у подножия века.
Происходит зима – обновляется жизнь на земле,
обновляется жизнь в тихом храме сего человека.
За «успеется» нет ничего, нет ни правды, ни лжи.
Человек, мой малыш, так устроен, он верит, что вечен,
что он завтра успеет сказать, долюбить, допростить,
дорасти до любви, до зари, до нечаянной встречи.
Я тебе не солгу, мой малыш, оленёнок, дружок.
Ты моё долгожданное счастье на время ¬– сегодня.
Симеон улыбается, куполом чертит кружок.
А сегодня, малыш, это синяя вечность Господня.
Колыбельная
Оленёнок мой, спи сладким сном.
Сторожит ночь янтарные двери.
Тот, кто в звон колокольный поверит,
станет – тишь. Впрочем, я не о том.
Мой малыш, я тебя берегу
от холодного рвущего взгляда:
кисть сентябрьского винограда
на январском и талом снегу.
Сколько дней, мой родной, сколько дней
нам осталось, не спрашивай ветер.
Он тебе ни за что не ответит.
Ветер – сторож, скрипач, суховей.
Оленёнок, мой маленький друг,
согреваю тебя в одночасье.
Ты моё запредельное счастье
(чувство света не вписано в круг).
Вырывается свет за круги.
Горизонт вдруг становится точкой,
и любое касание точно,
если это касанье руки.
Засыпай, мой малыш. Ветер стих.
С каждым вздохом вселенная ближе.
Засыпай, оленёнок, я слышу
каждый Богом прочитанный стих.
***
Невозможно, а впрочем, о чём я, малыш,
всё возможно, пока нежность длится.
Амальгамой стекает стреноженный с крыш
снег и бьётся в котомке синицей.
Я тобою вдыхаю границы добра.
Город пишет ручные сонеты.
Если ветер-бродяга нас спросит, куда
вьётся явь, мы ответим на это:
только в нас все лучи, все осколки миров.
Человеку отмерено много.
Сохранить бы себя в череде городов,
в синем взгляде чертога земного,
в тихом слове, в дыханье опущенных плеч.
Снег, на землю спускаясь, кружится.
Как мне хочется, Боже, тебя уберечь,
Метерлинка горячая птица.
Невозможно, а впрочем, о чём я, малыш,
всё возможно: по вере даётся.
Амальгамой стекает стреноженный с крыш
снег и нежностью в нас остаётся.
Свидетельство о публикации №117020100757