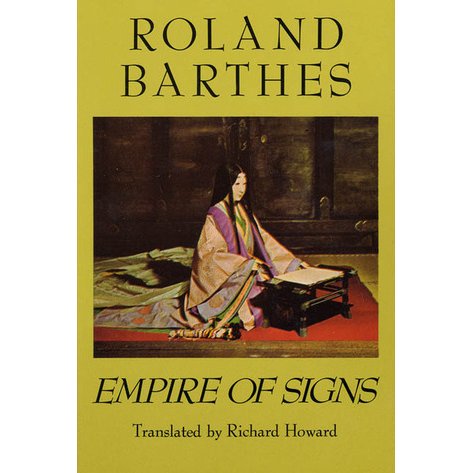Ролан Барт о Хокку- без комментариев в ожидании..
Ролан Барт
Барт Р. Империя знаков. М., 2004, с. 87-109. Пер. с франц. Я. Г. Бражниковой
У хокку есть одна несколько фантасмагорическая особенность: все время кажется, что его легко написать самому. Что, говорят, может быть более доступным спонтанному письму, чем подобные строки (Бусона);
Осень, вечер,
все мои мысли
лишь о родителях моих.
Хокку пробуждает зависть: сколько западных читателей мечтали так прогуливаться по жизни с блокнотиком в руке, отмечая здесь и там некие «впечатления», краткость которых была бы гарантией совершенства, а простота — критерием глубины (и все благодаря мифу, состоящему из двух частей, одна из которых — классическая — делает лаконизм измерением искусства, другая — романтическая — в импровизации усматривает правдивость). Будучи абсолютно понятным, хокку при этом ничего не сообщает, и именно благодаря этому двойному условию оно, кажется, преподносит себя смыслу с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми
87
вашими привязанностями, ценностями и символами; это «отсутствие» хокку (в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) чревато соблазном и падением — одним словом, сильным вожделением смысла. Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна (то есть случай и деньги), хокку, свободное от метрических правил (по крайней мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; можно сказать, что в хокку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего — от силы несколько слов, картинка, ощущение — там, где нашей литературе потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная мысль — одним словом, долгий риторический труд.
Похоже, хокку предоставляет Западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, говорит хокку, быть пустым, кратким, банальным; просто замкните то, что вы видите и чувствуете, узким горизонтом слов — и вы увлечете; у вас есть право самим обосновать (и исходя из вас самих) собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит символ, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете полноты письма.
88
Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам; в самом деле объекты языка (созданные посредством речи) подобны новообращенным: первичный смысл языка метонимически апеллирует ко вторичному смыслу — смыслу дискурса, — и эта апелляция имеет смысл всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора или силлогизм. Хокку с его простыми, расхожими, одним словом приемлемыми (как говорят лингвисты), выражениями перетягивается в ту или иную из этих двух смысловых империй. Поскольку оно является «стихотворением», его помещают в ту часть общего кода эмоций, которую называют «лирическим переживанием» (у нас Поэзия обычно связывается с чем-то «расплывчатым», «невыразимым», «чувствительным», словом с классом неклассифицируемых ощущений; обычно говорят о «насыщенном переживании», о «запечатлении особо значимого мгновения» и особенно — о «молчании» (которое всегда является для нас знаком полноты
90
языка). Если кто-нибудь (Йоко) пишет:
Сколько людей
под осенним дождем
прошли по мосту Сета! —
то встает образ убегающего времени. А когда другой (Басе) пишет:
Иду по тропинке на гору.
О! Как чудесно!
Фиалка! —
то объясняют, что это он встретил буддийского отшельника, ибо фиалка считается «цветком добродетели»; и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом. Или еще непременно усмотрят в трехстишии хокку (три строки: из пяти, семи и еще пяти слогов) схему силлогизма (две посылки и умозаключение):
Старая заводь.
В нее прыгает лягушка.
О! шум воды
(в этом странном силлогизме заключение удается с трудом: чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка впрыгивала в более сильную). Разумеется, если отказаться от метафор и силлогизмов, комментарий становится невозможным: говорить о хокку значит просто повторять его. Что и делает —
91
неосознанно — комментатор Басе:
Уже четыре...
девять раз поднялся я
чтобы луной полюбоваться.
«Луна настолько прекрасна, — говорит он, — что поэт встает снова и снова, чтобы созерцать ее из своего окна». Дешифрующие, формализующие или тавтологичные пути интерпретации, которые у нас предназначены для того, чтобы проникнуть в смысл, то есть завладеть им посредством совращения — а не вырвать его и отбросить в сторону, как зуб практикующего Дзен, твердящего абсурдный коан — все эти интерпретации могут лишь обходить хокку, ибо они тормозят язык, а не провоцируют его, последнее же — сложная задача, необходимость которой была очевидна и для самого мастера хокку. Басе:
Достоин восхищенья тот,
кто не подумает: «Жизнь быстротечна», —
при виде вспышки.
. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЫСЛА
Весь Дзен направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удается избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание, ибо он рекомендует всегда избегать четырех возможных утверждений: это есть А — это не есть А — это есть одновременно и А, и не-А — это не есть ни А, ни не-А. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика (А — не-А; ни А, ни не-А (нулевая степень); и А, и не-А (сложная степень)); иначе говоря, буддистский путь — это путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда Шестой патриарх дает указания относительно мондо, упражнения вопроса — ответа, он советует, чтобы лучше запутать парадигматическую функцию, в момент, когда термин задан, обратиться к термину, ему противоположному («Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о не-бытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, заводите речь о мудреце, и т. д.») — так, чтобы выставить нелепыми парадигматическую замкнутость и механический характер
93
смысла. То, к чему стремятся (посредством ментальной техники, точность, выдержанность и утонченность которой показывают, до какой степени восточная мысль считает трудным прерывание смысла), то, что является целью, так это само основание знака, а именно классификация (майя). Будучи противоположным классифицированию в собственном смысле слова, то есть тому, что совершается посредством языка, хокку стремится к достижению гладкого языка, где ничего не оседает на накладывающихся друг на друга пластах смысла (что неизбежно присутствует в нашей поэзии), которые можно было бы назвать «наслоением» символов.
Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басе к истине Дзен, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басе нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или символического подъема всех чувств, но скорее предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз на этом беззвучном разрыве зиждется и истина Дзен, и краткая, пустая форму хокку. Отрицание «разворачивания» носит здесь радикальный характер, ибо нет речи о том, чтобы останавливать язык на моменте тяжелой, глубокой, мистической тишины или в пустоте души. открывающейся для общения с Богом (в Дзен нет Бога); то, что полагается, не должно разворачиваться ни
94
в речи, ни в конце речи; то, что полагается, непрозрачно, и нам остается лишь повторять это вновь и вновь. Именно это и рекомендуется практикующему, который работает над коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): нужно не разгадать его, как если бы он имел скрытый смысл, и даже не проникнуться его абсурдностью (которая все еще остается смыслом), но бесконечно его пережевывать, «до тех пор пока не сплюнешь зуб». Таким образом весь Дзен, литературным ответвлением которого является искусство хокку, предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас. даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзен называется сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешенность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это не-языковое состояние предстает освобождением, то потому, что в буддистском опыте размножение мысли (мысль о мысли), или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых — круг, моделью и носителем которого
95
является сам язык — предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной несказанного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов, атакуется сам символ как семантическая операция.
В хокку ограничение языка является предметом непостижимой для нас заботы, ибо цель не в том, чтобы быть лаконичным (то есть сократить означающее, не уменьшая объема означаемого), но, напротив, — в том, чтобы, воздействуя на само основание смысла, убедиться, что этот смысл не растекается, не замыкается в себе, не упрощается, не отрывается и не расплывается в бесконечности метафор, в сферах символического. Краткость хокку не является формальной; хокку не есть некая богатая мысль, сведенная к краткой форме, оно есть краткое событие, которое вмиг находит единственно возможную форму выражения. Мера в языке — то, что наименее свойственно Западу: не то чтобы его язык был слишком долгим или кратким, но вся его риторика накладывает на него обязательство делать означающее и означаемое не соответствующими друг другу, — либо «отметая» второе под напором болтовни первого, либо
96
«углубляя» форму в направлении срытого содержания. В точности хокку (которое отнюдь не является точным изображением действительности, но есть как раз соответствие означающего означаемому, устранение полей, помарок и пробелов, обычно пронизывающих семантическое отношение), в этой точности есть, по-видимому, что-то музыкальное (что-то от музыки смыслов, а не звуков): в хокку есть та же чистота, сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте. Возможно, именно поэтому хокку необходимо повторять дважды, как эхо; проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз — значит привязать смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести ее множество раз — значит постулировать, что смысл еще необходимо раскрыть, намекнуть на глубину; между тем и другим — эхо, не единичное, но и не слишком долгое, подводит черту под пустотою смысла.
СЛУЧАЙ
Западное искусство превращает «впечатление» в описание. Хокку же никогда не описывает: это искусство антидескриптивно, ибо всякое состояние вещи оно немедленно, неотступно и победоносно превращает в хрупкую сущность появления: это мгновение — в буквальном смысле «неуловимое», — когда вещь, которая уже является всего лишь языком, начинает превращаться в речь, переходить из одного языка в другой, — и предстает нам как воспоминание об этом будущем, тем самым упреждая его. В хокку существенно отнюдь не только событие:
Увидел первый снег.
И этим утром
лицо умыть забыл, —
но также и то, что, как нам кажется, является скорее призванием живописи, небольших картинок, каких много в японском искусстве. Так, например, хокку Шики:
С теленком на борту
кораблик небольшой плывет по речке
сквозь дождь вечерний —
98
становится своего рода абсолютной интонацией (подобно Дзен, принимающему таким образом всякую вещь, пусть даже ничтожную), складкой, которая легким и точным движением ложится на страницу жизни, шелк языка. Западному жанру описания в духовном плане соответствует созерцание, методическое воображение форм, присущих божественности, или же эпизодов из евангельского текста (у Игнатия Лойолы опыт созерцания по существу своему имеет описательный характер); хокку же, напротив, произносится на фоне метафизики без Бога и субъекта и соответствует буддистскому Му и дзенскому сатори, а это отнюдь не просветляющее нисхождение Бога, но пробуждение перед фактом, схватывание вещи как события, а не как субстанции, достижение того изначального предела языка, который граничит с беззвучием (впрочем, ретроспективным и восстановленным беззвучием) самого случая (что относится скорее к языку, нежели к субъекту).
С одной стороны, количество и распространенность хокку, а с другой — краткость и замкнутость в себе каждого из них, похоже, делят и упорядочивают мир до бесконечности, создавая пространство чистых фрагментов, пылинки событий, которые ничто, даже если устранить означение, не может ни собрать, ни выстроить, ни направить, ни завершить. Ибо время хокку лишено субъекта: чтение не имеет другого я, кроме всей совокупности хокку, где это я бесконечно
99
преломляется и есть не более чем место чтения. Согласно образу, предложенному доктриной Хуа-Йен, можно было бы сказать, что коллективное тело хокку — жемчужная нить, где в каждой жемчужине отражаются все остальные и так далее до бесконечности, где нет возможности нащупать центр, первичный источник излучения (для нас же наиболее подходящим образом, воплощающим это изобилие переливов смысла, не имеющее ни начала, ни двигателя, ни опоры, может служить словарь, где каждое слово определяется только с помощью других слов).
На Западе зеркало является по сути своей нарциссическим объектом; человек не мыслит зеркало иначе, как предмет, который необходим ему, чтобы смотреть на себя; на Востоке же зеркало, похоже, пусто: оно символически отражает пустоту самого символа («Ум совершенного человека, — говорит учитель Дао, — подобен зеркалу. Он ничего не схватывает, но ничего и не отталкивает. Он принимает, но не удерживает»; зеркало ловит лишь другие зеркала, и это бесконечное отражение есть сама пустота (которая, как известно, есть сама форма)). Таким образом хокку заставляет нас вспомнить о том, чего с нами никогда и не случалось; в нем мы узнаём повторение без начала, событие без причины, память без личности, речь без сцеплений.
101
То, что я говорю о хокку, можно сказать обо всем, что случается (advient) в той стране, которую мы называем здесь Японией. Ибо там — на улице, в баре, поезде или магазине — всегда что-то случается (advient). Это что-то — этимологически уже приключение1 (aventure) — является совершенно незначительным: несообразность одежды, анахронизм культуры, свобода поведения, алогизм путеводителя и т. д. Попытаться обозреть эти события — взяться за сизифов труд, ибо они могут проблеснуть лишь в тот момент, когда их считывают, посреди живого письмасамой улицы, кроме того, западный человек не смогбы озвучить их иначе, чем нагрузив их смыслом собственной отстраненности: следовало бы превратить их в хокку, в язык, который нам недоступен. Добавить можно лишь то, что в этих незначительных приключениях (которые, накапливаясь в течение дня, приводят к своего рода эротическому опьянению) нет ничего ни живописного (японская живописность нам безразлична, ибо никак не связана с тем, что составляет особенность Японии, с ее современностью), нироманического (они никогда не поддаются той болтовне, что мигом превратила бы их в рассказы илив описания); то, что они позволяют прочесть (ибо ятам читатель, а не посетитель), так это точную линию моего пути — без следа, обочин и отклонений.
-----------------------------
1. Р. Барт обращает внимание на этимологическую связь французских advient (случается) и aventure (приключение). Такая связьесть и между русскими словами случай и приключение. — Прим.перeв.
102
Множество незначительных деталей (от одежды до улыбки), которые у нас, вследствие неискоренимого нарциссизма западного человека, — не более чем знакинапыщенной самоуверенности, у японцев становятся просто способом пройти или миновать какую-нибудь неожиданность на улице: ибо уверенность и независимость жеста здесь связаны не с самоутверждением (или с «самодостаточностью»), но лишь с графическим способом бытия; таким образом, спектакльяпонской улицы (вообще любого общественного места), волнующее порождение многовековой эстетики, лишенной какой бы то ни было вульгарности, никогда не подчиняется театральности (истерии) тел, ноподчинен раз и навсегда тому письму alla prima, для которого одинаково невозможны и набросок, и сожаление, и маневры, и исправления, ибо сама линия освобождается от стремления пишущего создать о себевыгодное впечатление; она не выражает что-либо, нопросто наделяет существованием. «Покуда идешь, —говорит дзенский учитель, — довольствуйся тем, чтоидешь. Когда сидишь, — тем, что ты сидишь. Но ничем не занимайся слишком долго!» — кажется, именно об этом по-своему свидетельствуют и молодой велосипедист, держащий в высоко поднятой руке поднос с пиалами, и юная девушка, которая склоняется перед штурмующими эскалатор клиентами магазина в столь глубоком, столь подчиненном ритуалу поклоне, что тот теряет всякую услужливость,
103
или играющий в Пашинко, заправляющий, проталкивающий и получающий свои шарики тремя чередующимися жестами, сама координация которых представляет собой рисунок, или же денди в кафе, который ритуальным ударом — резким и мужским жестом — срывает целлофановую пленку с теплого полотенца, которым он вытрет руки, прежде чем выпить свою кока-колу: все эти случаи и образуют материю хокку.
ТАК
Задача хокку заключается в избавлении от смыслапосредством легко понятной речи (в отличие от западного искусства, которое избавляется от смысла, делая речь непонятной), и, таким образом, хокку не кажется нам ни эксцентричным, ни банальным, оно напоминает все и ничего: поскольку оно легко читается, то кажется нам простым, близким, хорошо знакомым, приятным, изысканным, «поэтичным» — словом, полностью удовлетворяющим набору успокоительных определений; но, будучи при этом ничего незначащим, оно противится нам и в конце концов теряет все те прилагательные, которые окружали его минуту назад, и впадает в состояние смысловой подвешенности, которая кажется нам наиболее странной, ибо она делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий. Что можно сказать об этом:
Весенний бриз.
Лодочник потягивает трубку.
105
Или вот об этом:
Полная луна,
на циновках
тень от сосны.
Или же вот об этом:
В хижине рыбака
запах сушеной рыбы
и жара.
Или еще (но ни в коем случае не «наконец», ибо примеры здесь могут быть бесконечны):
Дует зимний ветер.
Мерцают
кошачьи глаза.
Подобные черты (это слово очень подходит хокку,которое является чем-то вроде легкой прорези, прочерченной во времени) составляют то, что можно было бы назвать «видением без комментариев». Но это видение (слово, которое остается еще слишком западным) в основе своей является совершенно устраняющим; но уничтожается не собственно смысл, но самаидея целесообразности; хокку не подходит ни для одного из возможных назначений литературы (которые и так ничего не стоят): как, ничего не означая (что достигается посредством техники остановки смысла),оно могло бы научать чему-то, что-то выражать или развлекать? И хотя некоторые школы Дзен и
106
сохраняют практику сидячей медитации как упражнение, нацеленное на достижение буддоподобия, другие отказываются приписывать ей даже и такую цель (на первый взгляд, чрезвычайно важную): нужно оставаться в положении сидя «только для того, чтобы оставаться сидящим». Возможно, и хокку (как и бесчисленныеграфические жесты, которыми означена самая современная, самая социальная жизнь Японии) пишут«только для того, чтобы быть пишущим».
В хокку отсутствуют две фундаментальные черты нашей тысячелетней классической литературы: во-первых, описание (трубка лодочника, тень сосны, запах рыбы, зимний ветер здесь не описываются, то есть не украшаются разного рода значениями или моралью, которые, на правах знаков, вовлекаются в делораскрытия истины или чувства: реальности отказанов смысле; более того, реальное лишено даже смыслареальности); во-вторых, определение; оно не толькопереводится в жест, пусть даже графический, но возводится к своеобразному эксцентричному распадению объекта, как это прекрасно выражено в дзенской притче, где учитель устанавливает первичное определение (что такое веер?) не посредством немой иллюстрации, чисто функционального жеста (раскрыть веер), но изобретая целую цепочку побочных действий (сложить веер, почесать им шею, вновь открыть, положить на него пирог и подать учителю). Не описывая и не определяя, хокку (так я буду называть в конечном
107
счете всякую краткую черту, всякое событие японской жизни, каким оно предстает моему чтению) истончается, сводясь в конце концов к одному лишь чистому указанию. Вот это, вот как, вот так, говорит хокку. Или же еще лучше: так! — выражает оностоль мгновенной и короткой чертой (без отклонения, без единой помарки), что всякая связка покажется излишней и навсегда устраненной, как сожаления по поводу невозможности определения. Смысл здесь лишь вспышка, световая прорезь: «When the light of sense goes out, but with a flash that has revealed the invisible word» 1 — писал Шекспир; однако вспышка хокку ничего не освещает, не выявляет; она подобна фотографической вспышке, когда фотографируют оченьстарательно (в японском духе), забыв, однако, зарядить аппарат пленкой. И еще: хокку (черта) воспроизводит указательный жест маленького ребенка, который на что угодно показывает пальцем (хокку непривязано к субъекту), говоря: это! таким непосредственным движением (то есть лишенным всякойопосредованности: знанием, именованием, обладанием), что указание выявляет тщетность какой бы то ни было классификации объектов: ровным счетом ничего особенного, говорит хокку, в согласии с духом Дзен:событие не относится ни к какому виду, особенностьего сходит на нет; подобно изящному завитку, хокку сворачивается вокруг себя самого, след знака, который, казалось, намечался, стирается: ничто не достигнуто, камень слова был брошен напрасно: на водной глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби.
----------------------------------
1. Когда меркнет свет смысла, является вспышка, открывая невидимый мир {англ.). — Прим. перев.
Е.М. Дьяконова
Поэзия японского жанра трехстиший (хайку):
происхождение и главные черты.
В книге:Труды по культурной антропологии. М., 2002, с. 189-201.
От вака к хайкай и хайку
Происхождение японского жанра трехстиший (первоначальное название хокку, затем хайкай и с конца XIX в. - хайку) искусственного характера и представляет собой исключение из правил. Трехстишия хайку всего в 17 слогов произошли из японских классических пяти- стиший танка, или вака, в 31 слог посредством еще одного жанра, и именно «связанных строф» - рэнга.
Вака (букв. «японская песня») - это общее понятие, которое включает в себя главным образом пятистишия танка (букв. «короткая песня») и некоторые другие формы (шестистишие сэдока и «длинную песню» нагаута), но часто употребляется в узком смысле как синоним танка. Поэзия вака возникла в древности и широко представлена в первой поэтической антологии японцев «Собрание мириад листьев» (Манъёсю, VIII в.).
Хокку (букв. «начальные строки»)- мост, соединяющий поэзию вака и поэзию хайку, т.е. два наиболее распространенных жанра японской поэзии. Другие поэтические жанры хотя и существуют, но не могут идти ни в какое сравнение с танка и хайку по степени распространенности и влияния на жизнь японцев. Первоначально хайку, носившие название хайкай, были всегда юмористическими, это как бы комические куплеты полуфольклорного типа на злобу дня. Позже характер их совершенно изменился.
Впервые жанр хайкай (шуточные стихи) упоминается в классической поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокинвакасю, 905 г.) в разделе Хайкай ута («Шуточные песни»), однако это еще не был жанр хайку в полном смысле слова, а лишь первое приближение к нему. В другой известной антологии, «Собрание горы Цукуба» {Цукубасю, 1356 г.), появились так называемые хайкай-но рэнга, т.е. длинные цепочки
189
стихотворений на заданную тему, сочиненные одним или более авторами, в которых особенно ценились первые три строки - хокку. Первая антология собственно хайкай-но рэнга - «Собрание безумных песен Тикуба» (Тикуба кёгин-сю) была составлена в 1499 г. В то время выдающимися поэтами нового жанра почитались Аракида Моритакэ (1473-1549) и Ямадзаки Сокан (1464-1552). Возникновение жанра хайку датируется ХУ-ХУ1 вв.
Начальное трехстишие пятистишия танка, носившее название хокку, получило самостоятельное значение и начало развиваться как отдельный жанр.
Хокку-это первые три строки длинной цепочки стихотворений рэнга, своеобразной амебейной формы, создаваемой обычно двумя и более поэтами, своего рода поэтическая перекличка голосов по три и две строки на заданную тему. Рэнга- это по сути дела пятистишие танка в 31 слог, разделенное на две части (доцезурную и послецезурную), своеобразный зачин и продолжение, которые повторяются заданное число раз. Сущность стихотворения состоит не столько в самом тексте, сколько в едва уловимой, но все же ощущаемой связи между стихотворениями, которая по-японски называется кокоро (букв, «душа, сердце, сущность»). Связь между первой и второй частью стихотворения, т.е. трехстишием и двустишием, описывалась, например, словом ниои («запах», «аромат»).
Рэнга - цепочка трехстиший и двустиший (17 и 14 слогов), иногда бесконечно длинная, до сотни и более строк, построенная по одному метрическому закону, когда просодической единицей является строфа, состоящая из групп в пять и семь слогов (5-7-5 и 7-7) в строке. Пятистишие делилось на две части: «верхнюю» ками-но ку (по 5-7-5, слогов в строке) и «нижнюю» симо-но ку (по 7-7 слогов в строке). Существовали и рэнга с инверсионным построением строф - сначала двустишие, затем трехстишие.
Часто рэнга сочинялись экспромтом на встречах поэтов, которые могли длиться днями. Все трехстишия и двустишия связаны общей темой, но не имеют общего сюжета. Каждое из них, представляющее собой самостоятельное произведение на тему любви, разлуки, одиночества, вписанное в пейзажную картину, может без ущерба для его смысла быть вычленено из общего контекста стихотворения (примеры такой формы известны в восточной поэзии, например цепочки панутнов, исполнявшиеся двумя полухориями, в малайской поэзии). Но в то же время каждый стих связан с предыдущим и последующим: это как бы цепь слабо выраженных вопросов и ответов, где в каждом последующем трехстишии или двустишии ценен поворот темы, неожиданная трактовка слова. Жанр рэнга возник в XII в. как приятная забава, литературная игра, затем развился в изощренное серьезное искусство со множеством сложных правил.
190
В конце XIII в. в историческом памятнике «Нынешнее зерцало» (Има кагами), в котором описано рождение этого жанра, появился термин кусари рэнга («стихотворные цепочки»), В зависимости от длины такие «цепочки» носили названия: танрэнга («короткие рэнга»), касэн («тридцать шесть строф», по названию «тридцать шесть гениев японской поэзии»- сандзюроккасэн), хякуин («стострофные»), и др. «Цепочки» могли сочиняться несколькими людьми, превращаясь в своеобразный диалог, в котором должно было возникнуть художественное единство. Необходимо было ориентироваться только на предшествующий куплет. В зависимости от того, сколько человек принимали участие в создании «цепочки», они подразделялись на докугин (букв. «один человек»), рёгин (букв. «двое») и сангин (букв. «трое»). Существовал канон тем (дай) для сочинения рэнга: луна, цветы, ветер. Между отдельными стихами нужно было поддерживать особого рода непрямую связь. Наиболее ценились рэнга школы Микохидари, в которую входил, например, лучший поэт Фудзивара Тэйка (1162-1241). Рэнга также делились и на «имеющие душу» (усин рэнга), т.е. серьезные, и шуточные, «не имеющие души» (мусин рэнга).
Первый большой сборник рэнга - это составленная Нидзё Ёсимото и Кюсэй (1284?-! 378?) антология Цукубасю («Собрание [горы] Цукуба», 1357г.). В XV в. стали говорить о «Семи мудрецах рэнга», так назвал их известнейший поэт Соги Синкэй (1406-1475). Одному из мудрецов принадлежит теоретический трактат о рэнга Сасамэгото («Шепот», 1488 г.), в котором он разъяснил смысл основных эстетических категорий. Лучшей в истории жанра японские критики считают Синсэн Цукубасю («Вновь составленное собрание [горы] Цукуба»),
Искусство сложения рэнга состоит не только в создании совершенных строф, но и мастерском контрапункте и композиции цепочки в целом: тема должна отличаться оригинальностью, должны быть соблюдены правила и каноны и вместе с тем не должно быть противоречия в гармонии целого.
В цепочках рэнга могли найти относительно более полное выражение приемы, разработанные в поэзии вака (энго, ёдзё и т.д.). Больший объем рэнга в целом и сохранение в то же время стихотворной формы танка и многих ее свойств позволяли разворачивать набор ассоциаций на сравнительно более широком материале 1.
----------------------------------
1 Минасэ сангин хякуин («Сто строф трех поэтов в Минасэ») - наиболее высоко ценимое сочинение в жанре рэнга, написанное ранней весной 1488 г. в Минасэ тремя поэтами - Соги (хокку), Сёхаку (ваки) и Сотб (дайсан, агэки). «Цепочка» в сто строф была создана для подношения в храм императора и поэта Готова, известного покровителя поэзии. Зачин (хокку), сочиненный Соги, представляет собой аллюзию на знаменитое стихотворение Готоба о весеннем вечере в Минасэ. Стиль Соте японскими критиками оценивается как близкий к стилю классической вака и считается сентиментальным. Строфы Сёхаку и Соги они полагают образцовыми для данного жанра, особенно выделяя строфы 1-8 и 51-78.
191
Подобный поэтический диалог восходит к песням-перекличкам из антологии Манъёсю (мондо). Постепенно трехстишия, входившие в состав рэнга, приобрели самостоятельное значение и стали функционировать как произведения нового поэтического жанра хайку, а жанр рэнга со временем потерял самостоятельное значение. Уже в XVI в. он фактически перестал существовать. Крупнейший поэт хайку и лучший теоретик и историк жанра рубежа Х1Х-ХХ вв. Масаока Сики (1867-1902) полагал, что жанр рэнга сыграл свою формообразующую роль и прекратил существование с выходом в свет сборника Сокана «Собрание Собачьей горы Цукуба» (Ину цукуба сю, 1523 г.), антологии шуточных хайку - хайкай. Юмор, шутка были на первых порах теми конструктивными элементами, которые вдохнули новые силы в угасающий жанр, поэтому самые ранние трехстишия хайкай носят исключительно шутливый характер.
Первые шуточные трехстишия появляются уже в XII в., раздел трехстиший есть в антологии Сэндзай вака сю («Тысячелетнее собрание японских песен», ок. 1188 г.), составленной Фудзивара Сюндзэй (1114-1204). До этого еще в антологиях Манъёсю и Кокинвакасю отмечены стихи танка, написанные двумя авторами, первые три строфы (ками-но ку - 5-7-5) писал один поэт, а вторые две строфы (симо-но ку - 7-7) - другой, в чем отразилось китайское влияние. Еще в поэзии эпохи Шести династий (Лючао) (1У-У1 вв.) были известны групповые стихотворения ляньцзуй.
Появление нового жанра
У именитых поэтов был распространен обычай после поэтических встреч и состязаний бросать на прощание стихотворную шутку в 17 слогов - хайкай. Свое наиболее яркое воплощение новый жанр получил в собрании Синсэн ину Цукубасю («Заново отобранное Собачье собрание [горы] Цукуба», ксилографическое издание 1615 г.), составленном Ямадзаки Сокан (род. в 1464 или 1465 г.); в него вошли 562 куплета (463 цурэку - двустрофные и 102 хокку - трехстрофные). Позже хокку (т.е. начальные три строфы рэнга в 17 слогов, стоящие при инверсионном порядке рэнга на втором месте) отделились от «цепочек» рэнга, приобрели самостоятельное значение и серьезный характер. Шуточные хокку ушли в прошлое с появлением на литературной сцене лучшего поэта жанра Мацуо Басе (1644-1694). Хокку превратился в самостоятельный серьезный жанр и занял наряду с вака главенствующее место в японской поэзии и в творчестве таких поэтов, как Ёса Бусон (1716-1783), Кобаяси Исса (1763-1827).
192
Термин хайку выдвинул в конце XIX - начале XX в. четвертый великий поэт и теоретик хайку Масаока Сики, предпринявший попытку реформировать традиционный жанр. В ХУП-ХУШ вв. на поэзию хайку оказала влияние дзэн-буддийская «эстетика недосказанности», понуждающая читателя и слушателя участвовать в акте творения. Эффект недосказанности достигался, например, грамматически (тайгэндомэ): так, одно из интонационно-синтаксических средств хайку - последняя строчка заканчивается неспрягаемой частью речи, а предикативная часть высказывания опускается.
В поэзии хайку большую роль сыграли сформулированные Басе в форме бесед с учениками и записанные ими эстетические принципы саби («печаль») и ваби («простота», «опрощение»), каруми («легкость»), ториавасэ («сочетаемость предметов»), фуэкирюко («вечное, неизменное и текущее, нынешнее»).
Исчезновение рэнга и расцвет хайку
Исторически первые три строки рэнга, носящие название хокку и зачастую стоящие на втором, инверсионном, месте после двустишия, - предшественники трехстиший-хойлу.
С исчезновением с поэтической сцены рэнга жанр трехстиший хайку выступает на первый план и становится наиболее чтимым и массовым в японской поэзии наряду с танка. Это экстремально короткая поэтическая форма всего в 17 слогов, казалось бы, уязвимая для влияний и деформации. На первый взгляд неустойчивая, обремененная целой системой обязательных формантов, она оказалась гораздо более жизнеспособной. Жанр рэнга в данном случае сыграл роль инициатора, с его помощью танка, прежде существовавшая как единая форма (хотя и имевшая тенденцию к разрыву), получала с введением двухголосия возможность разделиться на обе части. Центробежную роль сыграла возможность использовать обе части танка как обособленные самостоятельные части стихотворения, и первая часть, трехстишие, стала существовать самостоятельно. Затем, исполнив свою формообразующую роль, жанр рэнга сошел со сцены. (Отметим, что произведения жанра рэнга чрезвычайно трудны для перевода, поэтому они почти не переводились на русский язык.)
Одна из самых известных «цепочек» рэнга - сочиненные Ёса Бусоном совместно с его учеником и последователем Такай Кито Момосумомо (пишется не только иероглифами, но и слоговой азбукой канай, тогда это палиндром: «Персик и слива»; оба эти дерева ассоциируются с весной).
193
Вака как амебейная форма с тенденцией к разрыву
Хайку произошли от стихотворений вака, пятистиший, первые из которых запечатлены еще в «Записях о деяниях древности» (Кодзики, 712 г.) В хайку и вака есть много общих формальных свойств; медленные на протяжении нескольких столетий происходившие изменения - выделение трехстишия из пятистишия, перемены в лингвистическом составе, внутреннем рисунке и конфигурации - в определенный момент взорвались резким превращением. Искусство вака складывалось на протяжении столетий и имело строго разработанную поэтику, основы которой были заложены знаменитым поэтом и теоретиком Фудзивара Тэйка, установившим связь между кокоро (букв. «сердце, душа, сущность») и котоба («словами»).
Вака - стихотворение в 31 слог с делением на слоги 5-7-5-7-7, причем первая строка (строка-зачин) носит название «голова», вторая и третья - «туловище», четвертая и пятая - «хвост». Кроме того, первые строки носили название хокку («зачинные строки»). Л.М.Ермакова пишет, что для большинства японских авторов «эволюция поэтической формы танка выглядит следующим образом: вначале первая часть стихотворения (5-7 слогов) и вторая часть (5-7-7) были независимы друг от друга. В первой чаще всего изображалось состояние природы, задавался некий пейзаж, во второй - конкретные человеческие проявления: поздравление, любовь, шутка и пр. Со временем обе части стали сочиняться одним человеком, связь исполнения с обрядовыми песнопениями ослабла и началось формирование пятистишия как жанра литературной поэзии, в котором на уровне композиции доныне сохраняются следы исполнения двумя полухориями» [Ермакова] Таким образом, становится понятно, что с самого начала амебейный характер стихотворения танка подразумевал разрыв, смысловую и интонационную цезуру. Поэтому появление амебейного жанра рэнга на основе танка можно считать закономерным явлением, в природе этой формы заложено стремление к устному исполнению на два голоса. Позже, как это показано выше, разрыв прошел в другом месте - после третьей, а не второй строки.
Произошло не механическое уменьшение числа слогов в стихотворении с 31 до 17, а поворот в мировоззрении, в принципах поэтики. Теоретик поэзии хайку Уэда Макото писал, что о причинах столь резкого структурного изменения поэтической формы, ее ужимания с 31 слога до 17 судить трудно, однако очевидно, что уменьшение почти вдвое числа слогов повлекло за собой кардинальное изменение самой природы стиха.
194
«Сезонное слово» - центр хайку
Стихотворение хайку состоит из одной или нескольких фраз, которые вмещены в 17 слогов, внутренне разделенных на 5-7-5 слогов В строке. Традиционно по-японски оно записывалось в одну строку. При переводе на европейские языки записывалось и как четверостишие, и как двустишие, и как трехстишие. В переводах на русский язык всегда записывалось трехстишием.
Основное свойство хайку как стихотворения состоит в том, что оно драматически коротко, короче, нежели пятистишие-танка, и такая сжатость пространства создает особый тип вневременнбго поэтико-лингвистического поля. Главная тема хайку- природа, круговорот времен года, вне этой темы хайку не существует. Квинтэссенцией этой темы является так называемое киго - «сезонное слово», эмблематически обозначающее время года, его-присутствие в 17-сложном стихотворении ощущается носителем традиции как строго обязательное. Нет «сезонного слова» - нет хайку. «Сезонное слово» - нервный узел, который вызывает у читателя ряды определенных образов. Приведем классический образец хайку, принадлежащий перу первого поэта жанра Мацуо Басе, в переводе символиста Константина Бальмонта (по подстрочнику Ямагути Моити):
На мертвой ветке
Чернеет ворон.
Осенний вечер.
Один классик жанра писал, что тема поэзии хайку- «поэт и его пейзаж», а ее цель - «создать многочисленные образы, человеческие и данные небом, связанные со сменой времен весны, лета, осени и зимы» [Масаока Сики сю, т. 4, с. 14]. Поэты хайку изображали «цветы и птиц, ветер и луну» (кате фугэцу - формула главных тем хайку), однако признавали: «Говорим о цветах и птицах, и в глазах запечатлевается пейзаж; слагаем стихи, и в сердце возникает восклицание»; «хотя изображаем одну травинку, но в ее тени невозможно скрыть трепещущие чувства творца». «На поверхности [хайку] - не чувства, а цветы... Чувства скрыты в глубине и влагой, звуками, мелодией проступают на поверхности стихов» - так писал о поэзии хайку выдающийся поэт XX в. Такахама Кёси [Такахама Кёеи, с. 16]. И еще одна хрестоматийная цитата из Басе: «Учись у сосны, что такое сосна, учись у бамбука, что такое бамбук» [Басе кодза, с. 135].
195
В хайку представлен мир без предыстории, его, так сказать, «географический» образ. История присутствует в хайку как история времен года, история круговорота, совершающегося в природе, причем смена времен года, которую японцы, по всеобщему признанию, ощущают с необычной остротой, пристально следя за малейшими сезонными изменениями, не доступными нетренированному глазу, вовлекает в движение все предметы и события, названные в стихотворении, и принимает космический характер 2. Конкретные вещи, относящиеся к миру хайку (о номенклатуре таких вещей будет сказано ниже), включены в череду бесконечных изменений, в повторяемость явлений природы, так же как и конкретные однократные события, имеющие место в каждом стихотворении. Каждое из четырех времен года - весна, лето, осень, зима - подразделено еще на два подсезона; японцы явственно видят отличие одного от другого.
В стихотворении всегда присутствуют два плана - всеобщий, космический, и ближний, конкретный, взаимодействующие по принципу фуэки рюко. Всеобщий, космический план соотносит хайку с миром природы в самом широком смысле. В подобном соотнесении главную роль выполняет «сезонное слово» киго, обязательное для каждого стихотворения. Это по сути дела намек на принадлежность хайку к круговороту природы. О киго - смысловом центре стихотворения - японцы говорят, что оно «воскрешает забытое и рождает ассоциации» [Масаока1 Сики сю, т. 4, с. 15]. «Сезонные слова» образуют своеобразные «формулы времени года», или «темы» (дай), почти автоматически воссоздающие определенные картины природы и вызываемые ими чувства. Филолог Мацусэки Сэйсэй приводит, например, обширный каталог тем, употребляемых в хайку (горная сакура, белая роса, сумерки года, тысяча птиц, поющие цикады- всего несколько сотен), и прослеживает их происхождение от Манъёсю и Кокинсю [Мацусэки Сэйсэй, с. 25-28].
Даже в редком для жанра «человеческом» - нингэнтэкина (в противоположность «данному небом»—тэндзитэкина, по номенклатуре Масаока Сики) хайку крупнейшего поэта Ёса Бусона на смерть жены имеется обязательное «сезонное слово». Масаока Сики считал это стихотворение революционным, а такое направление имеющим большое будущее.
Холод до сердца проник:
На гребень жены покойной
В спальне я наступил.
Пер. В. Марковой
Слова «Холод до сердца проник» указывают, пишут комментаторы, на позднюю осень. Интересно, что это стихотворение было написано в 1780 г., за много лет до смерти его жены Томо, которая умерла в 1814 г.
--------------------------------
2 В Японии и сейчас очень популярны издания типа сайдзики - это книги, где стихи хайку расположены по разделам - временам года, каждому стихотворению соответствует фотография или картина, рисующая сезонные изменения.
196
Другой план хайку - конкретный, предметный, осязаемый мир четко обрисованных (вернее, названных) вещей; классики жанра считали, что в стесненном пространстве трехстиший простое называние вещей может произвести сильное впечатление. «В хайку не место лишним словам о предметах и явлениях: они привлекают человеческие сердца простыми звуками» [Масаока Сики сю, т. 3, с. 7]. Известна и максима Басе: «Нужно говорить обыденными словами, но так, как будто говоришь древними» [Басе кодза, с. 266].
Формульность жанра хайку
Формульность поэзии хайку позволяет с наибольшей эффективностью использовать малое пространство стиха; формулы скрывают в себе несколько смыслов, цепь ассоциаций, мгновенно и автоматически возникающих в сознании читателя. Еще до создания стихотворения поэт «выбирает» из каталога тем, например, образ «поющие цикады»; для носителя традиции немедленно разворачивается цепь ассоциаций: осень-печаль-белый цвет, поскольку цикады особенно пронзительно поют осенью, это пение навевает грусть особого толка (конец лета, конец жизни, наступление холодов), белый цвет связан с предзимним увяданием трав, выбеленностью камней, травы, белесыми туманами, «белым» холодным ветром (японцы различают ветры по цветам) и т.д. На этом примере очевидно, что мир образов хайку существует как набор очевидных всем носителям традиции ассоциаций вне или, вернее, до текста стихотворения. Выявление полного смысла отдельных формул, составляющих узлы в конструкции трехстишия, связано с глубоким осознанием традиции, свободным существованием в ней, ее «пониманием». Понять формулы - значит понять традицию. Это одна из причин, почему поэзия трехстиший не на японской почве, а в Европе, Америке или в России, лишаясь культурного контекста, теряет целые гроздья смысла3.
-------------------------------------------
3 В русском контексте возможно было бы появление, например, такого трехстишия, нами искуственно сконструированного:
Солнце, брызги,
Крики на реке,
Жаркий полдень.
В таком стихотворении не нужно ничего объяснять, всякому хорошо знакомы с детства подобные картины летнего дня. Ассоциации разворачиваются сами собой.
197
Ретроспективная поэтика хайку
Теория хайку никогда не была сформулирована в трактатах, слова учителя Мацуо Басе, крупнейшего поэта этого жанра, изустно передавались поколениями учеников; говорят, у Басе их было более двух тысяч. Ретроспективную поэтику жанра создал на рубеже Х1Х-ХХ вв. последний из четырех великих хайкаистов Масаока Сики. До него смена поколений поэтов хайку происходила плавно, по существу, без критической оценки формул и поэтических приемов. Этому способствовал институт учителей хайку, передававших канон без изменений, а также известная анонимность жанра, объясняемая, кроме общей стертости авторской индивидуальности, свойственной средневековому искусству, еще и всеобъемлющим характером темы «природа» и отработанностью клише, описывающих ее.
Еще одна особенность жанра хайку, связанная с его анонимностью, - наличие имплицитного автора, т.е. автора, как бы единого для всех произведений жанра, и такого же читателя.
«Единое природное поле» как основа хайку, унаследованная от вака
Чтобы объяснить, каким образом осуществлялась связь поэзии вака с поэзией хайку, приведем примеры, подтверждающие существование так называемого, по нашей терминологии, «единого природного, поля», объединяющего все предметы и явления: растения, животных, человека, стихии.
Возьмем несколько трехстиший-хайку и пятистиший-танка.
Листья «петушьего гребня»
С прилетом диких гусей
Пуще краснеют.
Басе. Дополнение к Соломенному
плащу обезьяны (Дзоку сарумино)
В данном случае слово нао переводится как «еще более»; есть и значение нао «подобно тому как...», т.е. буквальный смысл хайку: «Петуший гребень краснеет так (или настолько), насколько прилетают дикие гуси».
Басе связывает растение кэйто («петуший гребень»), необычной формы листья которого краснеют осенью, с прилетом диких гусей в Японию из Сибири. Исследователь Ямамото Кэнкити пишет, например, что это известное стихотворение не слишком высоко оценено критиками. Дело в том, что поэт просто расшифровывает название растения, которое имеет китайское название янь лай хун (букв. «краснеющее с прилетом диких гусей»), так что здесь в поэтической форме просто парафразировано китайское название [Ямамото, с. 16]. Другие критики оценивают это стихотворение совершенно иначе: Басе был, конечно, осведомлен об этимологии этого слова, но, увидев, как растение краснеет осенью, как раз во время прилета птиц, не смог сдержать восхищения
198
перед тем фактом, что легенда, закрепленная в этимологии, явила себя еще раз. Басе не просто устанавливает достаточно очевидную связь между двумя феноменами: прилетом птиц и покраснением листьев, он стремится показать глубинное взаимодействие, всеобщую связанность, паутину, охватывающую все объекты на фоне сменяющихся времен года. Вопреки мнению английского япониста Б.Чемберлена, получившему некогда широкое распространение, о том, что одна из особенностей японской поэзии - это отсутствие олицетворения, оно здесь все же имеет место, однако очевидно, что персонификация в японском духе «зиждется на качественно ином характере взаимоотношений субъекта и природы» [Воронина, с. 4]. Речь идет о таком полном слиянии предметов, явлений в «едином природном поле», что олицетворение не воспринимается японцами как литератур-ный прием. Не случайно и сам термин «персонификация»—гидзин (букв. «подражание человеку») появляется только в новое время.
В первой поэтической антологии Манъёсю (кн. 10, №2276) есть стихотворение:
Услышав первый крик
Вернувшихся гусей,
Расцвел у дома моего,
Осенний хаги4.
Приди, мой друг, полюбоваться на него.
Пер. А.К. Глускиной
Очевидно, что Басе следовал определенной традиции, сложившейся еще в древности и отразившейся в антологии Манъёсю (кн. 10, № 2212):
Со дня того, когда раздались крики
Гусей далеких в вышине,
Гора Микаса
В Касуга, где клены
Покрылись ярко-алою листвой.
Пер. А.Е.Глускиной
Японское слово ю означает то протяженное время, когда крик гусей воздействовал на краски растительности на горе Микаса в Касуга. Здесь явственно указание на то, что листья на деревьях стали краснеть потому и после того, как «услыхали» крик гусей. В переводе ю звучит не совсем точно: «со дня того», но смысл ясен.
В антологии есть еще несколько стихотворений со словами ю и нао, которые обозначают момент, когда начинают изменяться цвета листьев или осенних трав (кн. 10, № 2191, 2208, 2195).
----------------------------
4 Хаги - небольшой куст, цветущий по осени небольшими белыми или розовыми цветами.
199
Видный японский литературовед Наканиси Сусуму полагает, что служебные слова ю и нао указывают в данном случае на то, что люди эпохи Маньёсю считали крики гусей и покраснение листьев в горах или трав в лугах не просто явлениями, совпадающими по времени, но и вытекающими одно из другого. Хотя стихотворение Басе и подвергалось критике, но очевидно, что поэт обладал столь широкой палитрой красок, что мог предложить и другие вариации этой темы. И всеже он настаивал на своей версии, продолжая очень древнюю традицию улавливания глубинных связей между разнородными природными феноменами. Басе в описании «петушьего гребня» оказался близок к традиционному неметафорическому изображению природы, сложившемуся в древности и представленному в Маньёсю. Рассматривая генезис такого отношения к природе, Наканиси Сусуму вводит понятие «космическая общность природных объектов»: в представлениях поэтов Маньёсю и последующих поколений птицы и растения, например, одухотворены единой общностью, позволяющей им ощущать природные связи, натянутые между ними, словно нити.
«Петуший гребень» и гуси в стихотворении Басе - не самостоятельные величины, а части невидимого целого, всплывающие на поверхность и подтверждающие своей взаимозависимостью само существование этого целого, которое априори известно собирательному читателю хайку. Таким образом, приведенные танка из Маньёсю и хайку Басе пунктирами намечают причинно-следственные связи между явлениями и предметами природы, указывающими на существование общего природного пульсирующего поля. «Эти предметы связаны между собой кровеносными сосудами и нервами, как сосуды и нервы человеческого тела» [Наканиси Сусуму, с. 4]. В такой системе координат неудивительно, что листья «отвечают» на крик гусей изменением цвета. Природное поле захватывает, разумеется, гораздо более широкий круг вещей, нежели гуси и листья.
Повторение тем вака в поэзии хайку не должно вводить в заблуждение. Кроме формальной особенности - непременного присутствия в стихотворении «сезонного слова» (киго), хайку неизменно проникнуто особым духом (хайьи), облеченным в соответствующие слова (хайгон). Один из учеников Басе, Хаттори Рансэцу (1654-1707), записал за учителем его суждение о различии вака и хайку. Он приводил такие примеры: тема «дерево ивы под легким весенним дождиком» принадлежит миру вака или рэнга, а тема «ворона бросается на змею на заболоченном поле» - это несомненно тема хайку.
В самом общем виде можно утверждать, что именно такое различие в темах и их словесном воплощении существует: природа, представленная в хайку, ближе к повседневности, обыденности, вместе с тем она более гротескна, парадоксальна. Природа в хайку не должна быть понята, узнана и описана, а некоторым образом «схвачена» в определенный момент существования,
200
«застигнута», так сказать, на месте непосредственным опытным путем. Поэтому прямое наблюдение, нахождение непосредственно на сцене, где разворачиваются события, необычайно высоко ценилось в искусстве хайку. Писать хайку следует, по словам одного поэта, так, словно мечом разрубают дыню.
К проблеме генезиса жанра хайку русская японистика почти не обращалась, данная работа - лишь первые шаги на этом пути, сравнение же двух главных жанров традиционной японской поэзии, существующих и в наши дни, - тема для будущих исследователей.
Литература
Басе кодза (Лекции о Басе). Т. 1. Токио, 1956.
Вада Сигэки. Масаока Сики нюмон (Введение в творчество Масаока Сики). Токио, 1992. г
Кидо Сэйдзо. Рэнга сиронко (Теория стиха в «связанных строфах»). Т. 1-2. Токио, 1993. ;
Котэн бунгаку кансё дзитэн (Словарь критических разборов произведений классической литературы). Токио, 1999.
Котэн бунгаку риторикку дзитэн (Словарь риторики классической японской литературы). Токио,1993.
Масаока Сики сю (Собрание сочинений Масаока Сики). - Гэндай нихон бунгаку
дзэнсю (Полное собрание произведений современной японской литературы). Т. 3,4. Токио, 1961.
Мацуи Тосихико. Ясасии хайку нюмон (Введение в изящную поэзию хайку). Токио, 1982.
Мацуо Басе сю (Собрание сочинений Мацуо Басе). - Нихон котэн бунгаку дзэнсю (Полное собрание японской классической литературы). Т. 41. Токио, 1972. .
Мацусэки Сэйсэй. Кикан-но ханъин-но кэнкю (Изучение сферы времен года). -
Хайку кодза (Лекции о хайку). Т.З. Токио, 1961.
Наканиси Сусуму. Котоба-ни химэрарэта ооинару сидзэн (Великая природа, сокрытая в словах). - Тюо корон, 1990, т. 105, № 6, с. 23-56.
Наканиси Сусуму. Манъёсю-о манабу хито-но тамэ-ни (Для тех, кто изучает
«Манъёсю»). Киото, 1992.
Нобуо Хори. Томодзи Мурамацу хэн (под ред. Ноити Имото, Нобуо Хори, Томодзи Марумацу). Токио, 1972.
Сайдзики то киго-но гэндай (Круглый стол на тему «Записи сезонных изменений и современное бытование "сезонного слова"»). - Хайку кэнкю (Изучение хайку). 1998, № 2, с. 74-95.
Сасаки Юкицуна. Манъбсю-о ему (Читая «Манъёсю»). Токио, 1998.
Такахама Кёси. Хайку токухон (Хрестоматия хайку). Токио, 1973.
Ямамото Кэнкити. Басе дзэнхокку (Полное собрание хокку Басе). Т. 2. Токио, 1974.
Воронина И.А. Природа в японской классической литературе. (Неопубл. рук.)
Ермакова Л.М. От голоса к знаку: японское поэтическое слово до и после VIII в. - происхождение лирики. (В печати.)
Свидетельство о публикации №117011111341