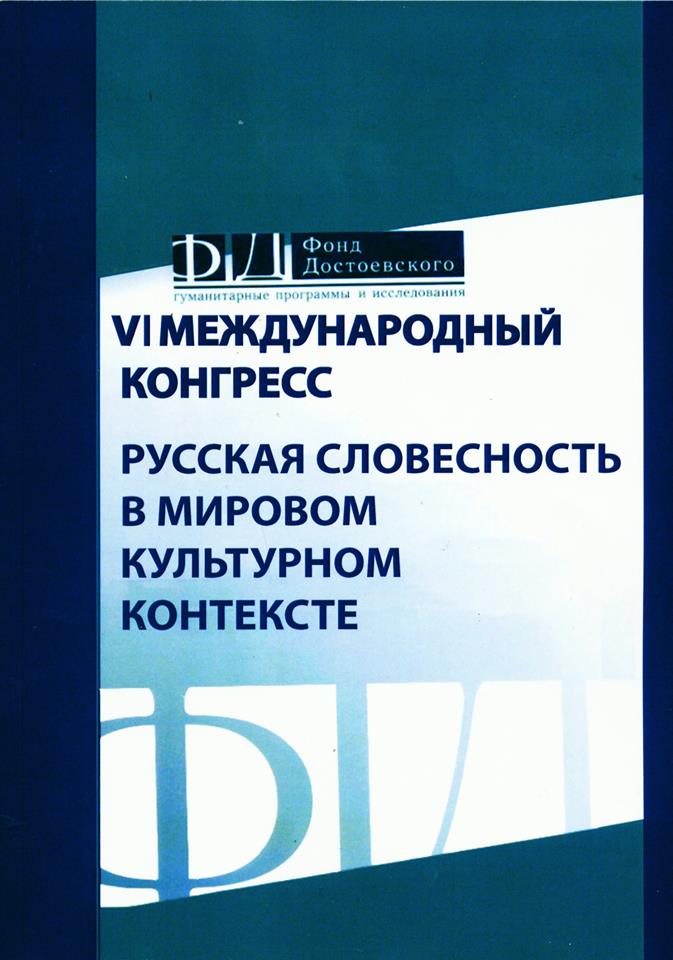Метаметафора в мировом контексте
·
В книге "VI Меэждународный конгресс "Русская словесность в мировом культурном контексте". Под общ. ред. И.Л.Волгина. - М., Белый ветер, 2016. - 529 стр.
Константин Кедров
Метаметафора в мировом контексте
Метаметафора как обратная перспектива в слове сформировалась в 1960 году, когда у меня возникли строки:
я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушел ПОД
воздвигая НАД
Для геометра, космолога, физика нет ничего удивительного в модели такого пространства. Это есть и в топологии, и в геометриях Лобачевского-Римана, и просто в разного рода моделях мироздания такого рода. Но для поэта это новое метафизическое пространство и его особое душевное состояние, когда относительны не только правое-левое, верх-низ, большое-малое, гипербола и литота, но, прежде всего, внутреннее и внешнее.
Общая теория относительности Эйнштейна, недавно блистательно подтвержденная, пойманным наконец гравитационным излучением, вернее, рябью гравитационных волн, тогда ещё не была подтверждена. Но поэтически мне и не нужно было никакого подтверждения. Сама мысль, что наше четырехмерное пространство-время не прямое, а искривленное, и что это искривление, как при скольжении с горы, создает гравитацию, приводила меня в восторг.
Я стал искать это у своих любимых поэтов – моих единственных заочных учителей – у Хлебникова, Маяковского, Элюара. Но не нашел ничего подобного. Не было этого и у просочившихся битников типа Аллена Гинзберга. Зато это явно присутствовало в живописи моего двоюродного деда Павла Челищева, умершего в 1957 году в Италии под Римом как раз тогда, когда была опубликована первая подборка моих стихов. Павел Челищев, чьи картины теперь и в Третьяковке, и в Русском музее, и в Нью-Йорке в музее MOMA, назвал это в письме к моей тётушке «внутренней перспективой».
Внешняя перспектива:
Человек – это изнанка неба.
Внутренняя перспектива:
Небо – это изнанка человека.
Одним словом – «выворачивание» – это не обозначить. И мне пришлось к слову «метаметафора» придумать ещё и слово «инсайдаут».
Вот например метаметафорическое выворачивание-инсайдаут при вкушении Адамом яблока с Древа познания.
Адамово яблоко
Червонный червь заката
путь проточил в воздушном яблоке
и яблоко упало
Тьма путей
прочерченных червем
все поглотила
как яблоко Адам
То яблоко
вкусившее Адама
теперь внутри себя содержит древо
а дерево
вкусившее Адама
горчит плодами –
их вкусил Адам
Но
для червя одно –
Адам и яблоко и древо
На их скрещенье
червь восьмерки пишет
Червь
вывернувшись наизнанку чревом
в себя вмещает яблоко и древо
1978 г.
Такого рода пространственные рокировки внутреннего и внешнего пронизывают живопись Павла Челищева, Пабло Пикассо, Сальватора Дали, не говоря уже о графике Эшера. В математике расцвел целый раздел – топология, где есть теорема выворачивания. В жизни это и выход цыпленка из яйца, и выворачивание цветка из бутона или колоса из зерна, и просто любое рождение. В поэзии это выворачивание слова наизнанку, именуемое анаграмма. Например: свет – весть. Я поставил перед собой цель создать анаграммную систему стиха, для выражения своего главного ощущения жизни. Так в 1976 году было написано «До-потоп-Ноя Ев-Ангел-ИЕ»:
Я судия небесный
мера мертвых
весы сева весь
небесная высь
грады и веси
то ты еси...
Сто лет тому
А кому сто лет?
Кто тот кому сто лет?
Тот – это смерти бог
тотен-тотем
мета атом
Атум
Атон-Эхнатон
ноты пел в тон
Тонет Эхнатон
в Лете теней-тенет
ТОТ стал ЭТОТ
смерть мертва
атома немота...
Тогда ещё ни Авалиани, ни Гершуни не работали с анаграммой как с новой тотальной рифмой. Все мои попытки увлечь анаграммным стихосложением близких мне по духу Парщикова, Ерёменко, Жданова успехом не увенчались, но у Парщикова всё же появилась анаграммная рифма, «Аввакума с вакуумом». То есть стих стал обретать некую внутренне-внешнюю и внешне-внутреннюю звуковую перспективу. Впрочем, неожиданно нагрянувший неоклассицизм Бродского и минимализм с простеньким концептом смешал все карты. Не в моём направлении двинулась вся поэзия, но я не мог приказать себе единственному маршировать с толпой в ногу.
Так возник ещё один смысловой вариант текста, исчезающего на глазах у читателя, как бы уходящего в первоатомный микромир. Это поэма 1988-го года «Утверждение отрицания».
Этот мир есть лучший из миров
этот мир есть лучший
этот мир есть этот мир
этот мир есть
этот мир
этот
.............................
Мы не можем ждать милости от природы
мы не можем ждать милости
мы не можем ждать
мы не можем
мы не
мы...
Само собой стало напрашиваться некое апофатическое стихосложение с неким воплощением мирового вакуума, некой пустоты, из которой всё возникает и в которой всё исчезает. В том же 1988-ом я написал «Комментарий к отсутствующему тексту»:
Этот текст является комментарием к отсутствующему тексту. Хотя отсутствующий текст является комментарием к этому тексту.
В отсутствующем тексте множество гипербол, метафор, синекдох, метафизических аллюзий, но все они могут быть истолкованы и в обычном смысле.
Обычный смысл второстепенен, но в то же время именно он – главный.
Но нет обратного хода от второстепенного-главного к главному-второстепенному.
Речь изобилует намеками на обстоятельства, известные и понятные только узкому кругу лиц иди даже одному лишь автору. Но и сам автор не знает, о чем он пишет, хотя отсутствие текста спасает дело и несколько сужает многозначность смысла.
Текст иронизирует над этим комментарием, пародирует его, и в то же время он не ироничен и не пародиен и скорее исповедально-лиричен, но лирика здесь не в общепринятом и общедоступном смысле, а в каком-то другом, не общедоступном значении.
Здесь наиболее тонкий ход, поскольку слово отсутствует даже в отсутствующем тексте, и произвол комментатора очевиден.
Однако у комментатора нет другой возможности обозначить отсутствие означаемого в том, что является главным стимулом всей игры, отнюдь не игрового субстанционального свойства.
Перегруженность философской терминологией еще более увеличивает расстояние между интерпретируемым и интерпретатором.
Здесь легко впасть в самоиронию, чего не следует делать, или поддаться метафизической эйфории, что еще более пагубно для изначального смысла, если он есть.
Текст построен таким образом, что искажения, вносимые самим высказыванием, оставляют нам как бы ядро и первооснову. В этом видна особая тонкость. Само отсутствие текста делает искажения минимальными.
Семантическая вибрация похожа на инстантонные колебания физического вакуума, порождающего виртуальные смыслы.
Религиозная, культурная и физическая символика все время отвлекает от основного значения, и только отсутствие культуры, неортодоксальность веры и не научность физической парадигмы отчасти спасает дело.
Теперь нужно сосредоточиться. Именно в атом месте давление отсутствующего текста достигает максимального напряжения изнутри и минимальной тонкости снаружи (раздувание мильного пузыря или модель «раздувающейся вселенной» идеально отражает возникшую семиотическую коллизию).
Аналогия цыпленка, проклевывающего прозрачную прокладку внутри яйца, или матери, чувствующей из чрева толчки младенца как некое щекотание, вплоть до опасности прободения, – вот что ожидает неосторожного читателя в этом месте.
Ему уже кажется, что он все понял, что отсутствующий текст вырвался наружу, что лопнули обручи комментария, что отсутствующий автор отсутствующего текста имеет в виду мировое ничто, нирвану, нечто, дзэн, мировой звук, инь-ян, апофатическое богословие, нигилизм, прозрение, вдохновение, любовь к ближнему как самого себя, любовь в общепринятом (каком?) смысле слова, просто поэзию или, на худой конец, теорему Геделя о неполноте («если высказывание верно, оно не полно» или «в языке содержатся недоказуемые высказывания») – все это было бы верно, если бы отсутствующий текст был; но его нет или как бы нет, и в этом главная закавыка.
Не надо думать, что комментатор знает о тексте больше читателя. Он – комментатор – в положении Буриданова осла: справа сено, слева вода. Сено – смысл, вода – абсурд, но в отличие от осла автор не погибает от голода или жажды из-за невозможности выбора, а ест и пьет, не задумываясь о закономерностях чередования.
Тут спасительный структуральный или диалектический цинизм только усугубляет дело, поскольку и автору, и комментатору цинизм и структурализм противны до тошноты.
Поэтические симпатии автора несомненны. Хлебников, Хармс или, на крайний случай, Элиот могли бы многое прояснить в данной каблограмме, если бы опять же она была, но кабалистика Нагаруджуны и дзэн Кузанского мало что выявляют в амбивалентности текста и описания.
На помощь приходит Борхес или спасительная «Игра в бисер», но все мы понимаем, что это путь наименьшего сопротивления, уводящий в смысловой ад.
Вычурность и занудность этого комментария слегка уже отдает концептуальной тягомотиной, а этого я хочу избежать, если можно.
Вот здесь-то и возникает проблема финала. Отсутствующий текст двусмыслен при чтении – это полбеды, но он еще и бесконечно длинен, хотя и краток.
Вульгарные антитезы не спасают от поражения в духе кантовских антиномий или блудливых диалектик, поэтому я как комментатор полностью признаю свое поражение и возлагаю все надежды на дальнейшее отсутствие текста.
Таким образом, метаметафору не следует сводить к простому внутренне внешнему выворачиванию – инсайдауту. Здесь открывается множество новых метафизических перспектив. Именно об этом писал я в первом прорвавшемся в печать манифесте ещё в 1983 году: «Привыкайте к метаметафоре – она безгранично расширит пределы вашего метафизического зрения».
Разумеется, никто на этот призыв не откликнулся, но после полугодового молчание в «Литературной газете» появилась статья Сергея Чупринина «Что за сложностью?», где мой манифест из первого номера «Литучебы» № 1 за 1984 год был почти полностью процитирован с соответствующими ссылками и кавычками.
Дальше началась чехарда перенаименований, из которых, кроме пресловутого метареализма, стоит ещё упомянуть и не менее пресловутую полистилитику. Тот же товар, но в другой обёртке. Но интересно, что выворачивание-инсайдаут естественно ускользали из поля зрения вольных или невольных перехватчиков, и всё превращалось в привычную структурально-филологическую игру в стиле постмодернизма и концептуализма.
Новизна метаметафоры как таковой стала для меня особенно очевидна, когда «Компьютер любви» стали переводить на множество мировых языков. Например, в английском нет просто «изнанки» – есть неправильная сторона, внутренняя сторона, обратная сторона. А на идиш наизнанку – «на левую сторону». А перелицевать на левую сторону совсем не то же самое, что вывернуть наизнанку. Не могу судить, что получилось при переводе на японский язык моей докторской монографии «Поэтический космос». В СССР она успела в 1989-ом году выйти в «Советском писателе» тиражом 20000 и тотчас попала в список «минусинск» – минус семь крупных городов: Москва, Киев, Ленинград, Красноярск т. д. В Японии книга выдержала тираж в 3500экз. с последующей допечаткой по заказу читателей – ещё 300, что для такой сложной и весьма специфической темы большой успех.
Что касается выхода метаметафоры на мировую арену, отмечу вторую ласточку после издания в Японии «Поэтического космоса». В 2013-ом году впервые мне, единственному русскому и пока единственному европейскому поэту была вручена весьма престижная премия Манхэ во дворце Спустившееся небо под Сеулом. Причем, внимание награждающих привлек именно манифест метаметафоры «Компьютер любви». Не жду быстрого понимания в США и в Европе, где царит неоклассицизм Бродского и всё тот же постмодернизм с концептуализмом, а это вещи абсолютно несовместимые с метаметафорой. Новая поэтическая метафизика без всяких санкций и анти-санкций пока сугубо наше российское достижение.
Сегодня список научных трудов и эссе весьма ярких авторов, пишущих о метаметафоре, достаточно обширен. Список можно удвоить и даже утроить, но дело не в нарастающем количестве докторских и кандидатских диссертаций, а в нарастающем понимании, что во второй половине прошлого века и в начале третьего тысячелетия сегодня в русской поэзии происходит нечто новое, важное и значительное, чего не было ещё у символистов и футуристов, что несомненно появилось бы раньше, если бы процесс не был прерван насильно.
Свидетельство о публикации №116122908707