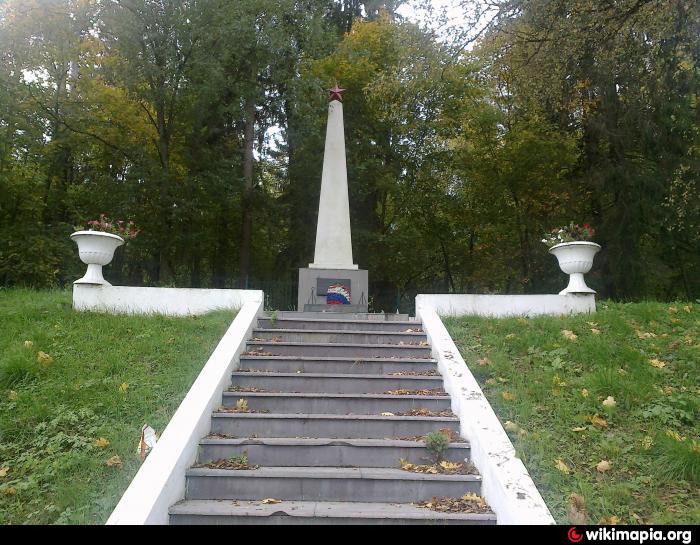20 декабря 1941 года 182 день
Нигде врагу не оставляя сантиметра начинаний,
Похоронив надежды уцепиться в край страны,
Верховной волей самых больших ожиданий.
Разбить в дороге отходящие дивизии пока,
Они не спохватились в вечном покаянье ,
Вложить в упор последствия огромного рывка,
В Вердена память , возвращаясь в назиданье.
Стремительность удара вознося в великий смысл,
Единственной возможности исхода,
Отрезать «Центр» и разбить посыл,
Единого восточного подхода.
Нарушив прочность флангов и опор,
Срезая инициативу немцев с расстоянья,
Не дав остановить у Красной Армии напор,
Нацелив части ,выбить Дух немецкого призванья.
Держаться из последних сил,
Не отходить и вспоминая клятву рода,
На знак от Фридриха Великого взвалить ,
Ответственность за дух «восточного похода».
Уничтожавшего в России кровного врага,
Не поддающегося планомерному исходу,
И угрожавшему в итоге декабря,
План жизни изменить немецкому народу.
И немцы воодушевились , обретая в Родине надёжный тыл,
Спасавшей духом радости признаний,
И получив от фюрера «любви» посыл,
Стояли насмерть , подтверждая Дух величия призваний.
Происхождением и верой укрепляя «право сапога»,
Взойти на пьедестал крови у рода,
В чужой земле попрать Бессмертие Врага,
И право жизни у Великого Народа.
Собравшегося с силой Веры и Мечты,
Отбросить полчища в Московской Битве,
Пресечь свободу их коричневой чумы,
Распостранившейся на Мир в молитве.
В штате вермахта было 480 капелланов по 2 на дивизию в офицерском звании гауптмана (капитана)прим . автора.
Памятник в г. Руза
После смерти короля-отца 31 мая 1740 года 28-летний Фридрих получает не просто корону Пруссии, но сильную армию и не растраченную на пустые придворные развлечения казну. Хотя король перед смертью сделал распоряжение похоронить его как можно проще, сын не выполнил этого. Погребение Фридриха Вильгельма было пышным и достойным короля. Гроб Фридриха Вильгельма I был покрыт тканью с вышитыми на нём знаками «мёртвой головы» (нем. Totenkopf). Этот символ впоследствии станет эмблемой «чёрных гусар», а в XX веке его примут в качестве атрибутики войска СС.
20 декабря -почитание Амвросия как святого началось вскоре после его смерти, о чем свидетельствуют его латинские и греческие жития, написанные в V веке[1]. В Католической церкви память святого Амвросия совершается 7 декабря, в Православной церкви — 7 (20) декабря.
День Авмросия.Этот день подводил черту зимним праздникам года: «Пришёл Авмросий — праздники отбросил». Девушки принимались за шитьё на грядущее житьё. «Красная шелчинка по серебряному полю снуёт — девка на житьё шьёт»
20 декабря 1941 года - 182 день войны
СНК СССР принял Постановление «О сокращении телеграфной переписки». В целях обеспечения нормального прохождения правительственной и особо важной телеграфной корреспонденции с 20 декабря 1941 г. вводилось ограничение количества слов в телеграммах. Временно прекращался также прием телеграмм-«молний» от частных лиц.
Южнее Ладожского озера советские войска освободили ст. Войбокало.
Советские войска в ходе кровопролитных боев освободили г. Волоколамск.
Отправлен на фронт первый эшелон с танками Т-34.
Хроника блокадного Ленинграда
Началась еще одна попытка деблокировать Ленинград. Перед войсками 55-й армии, перешедшими в этот день в наступление, поставлена нелегкая задача — отбить у врага Красный Бор и Ульяновку, а затем продолжать двигаться навстречу войскам, наступающим с востока.
Нашим частям удалось добиться некоторого успеха и продвинуться до северной окраины Красного Бора. Чтобы спасти положение, враг перебросил сюда новые силы, и войска 55-й армии, ослабленные в предыдущих боях, вынуждены были перейти к обороне.
Сегодня литейщики Кировского завода оказались в труднейшем положении: в момент разливки стали по формам внезапно прекратилась подача электроэнергии. Вручную передвигая тележку мостового крана, кировцы продолжали разливку металла, полностью сохранив его для выполнения фронтового заказа.
Остался в этот день без электроэнергии и завод подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова. Но пока был запас деталей, рабочие собирали мины вручную.
Снабжение ленинградских предприятий электроэнергией все более ухудшается. Кое-где спешно монтируются силовые установки, способные дать хотя бы минимум необходимой электроэнергии. Все шире применяется ручной труд. Когда на заводе имени С.П. Воскова остановились станки, рабочие стали выпиливать детали к автоматам вручную. Не приостановила работу и швейная фабрика «Комсомолка». На саночках работницы привозили из дома в цехи собственные ножные и ручные машины. Выполнение заказов для фронта продолжалось. На заводе «Большевик», чтобы изготовить крайне необходимые детали, к небольшому токарному станку присоединили ножную педаль. На Государственном оптико-механическом заводе станок работал с помощью велосипедной передачи...
Председатель совета пионерской дружины 47-й школы Калиста Ком-ева сделала сегодня в своем дневнике такую запись: «В школе холод. Занимаемся в столовой. Наши шефы, моряки, принесли дрова. Мальчики таскали бревна в помещение, девочки пилили. Учатся все очень хорошо».
Воспоминания Давида Иосифовича Ортенберга,
ответственного редактора газеты "Красная звезда"
С начала нашего контрнаступления прошло две недели. Времени не так уж много, но у войны свои измерения. За пятнадцать дней многое увидено, многое осмыслено и переосмыслено. Вот напечатана еще одна статья Коломейцева — «Бой на окружение». Вроде бы продолжение старой темы. Тема-то старая, а опыт новый. Автор высказал немало ценнейших в данный момент соображений.
Обрадовал Высокоостровский: прислал из 10-й армии статью командующего генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова «Фланговый удар по войскам Гудериана». Она созвучна недавней нашей передовице. Автор свидетельствует:
«Опыт первых дней наступления научил нас многому. Он прежде всего показал, что наступающие войска должны по возможности избегать лобовых атак. Надо умело находить фланги противника, стыки между его частями и смело устремляться туда. Это позволяет не просто теснить противника, но обходить его, окружать и уничтожать полностью. Немцы очень чувствительны к охватам. Они воюют преимущественно вдоль дорог, имеют большое количество автотранспорта и других подвижных средств, зависящих от дороги, и поэтому крайне болезненно воспринимают выход даже небольшого нашего отряда на их коммуникации».
Среди других острых проблем в статье был освещен извечный вопрос — о месте штаба в бою:
«Практика первых дней наступления еще раз подтвердила необходимость максимального приближения штабов к своим войскам. Это облегчает связь с частями, ставит штабы в центр всей боевой деятельности, дает возможность правильно и своевременно учитывать обстановку. У нас был случай, когда командование одной части не поняло этого важнейшего требования наступательного боя. Что же получилось в итоге? Подразделения этой части вплотную подошли к важному населенному пункту, но приказа о взятии его из штаба не поступало. Как потом выяснилось, штаб оторвался от своих наступающих подразделений. Растерявшийся вначале противник уже начал было приводить себя в порядок и подтягивать резервы для контратаки. Пришлось действовать через голову штаба части...»
Генерал Голиков из-за скромности умолчал, что «действовать через голову штаба части» пришлось ему. Об этом нам рассказал Высокоостровский, который был рядом с командармом во время той баталии. Рассказал нам спецкор, что то был штаб не части, а дивизии, а подразделения — полки. Но решили ничего не менять, оставить так, как написал Голиков...
Должен сказать, что каждая статья командующего фронтом или командарма расценивалась у нас как «гвоздь» номера. Мы знали, что эти статьи принимались в войсках с вниманием и интересом. Это знали и они, и нет сомнений, что поэтому считали выступления в газете своим долгом, а быть может, и делом чести.
Статьи столь авторитетных авторов не залеживались. Вот сегодня мы получили статью Голикова, и завтра, 21 декабря, ее уже будут читать в войсках. Сегодня же мы получили еще одну статью командарма, и она тоже ушла в набор для завтрашнего номера газеты.
Сразу после освобождения Ростова-на-Дону корреспонденту по Южному фронту Лильину было дано задание: просить у командующего 56-й армии генерал-лейтенанта Ф.Т. Ремизова статью об опыте Ростовской наступательной операции. Ремизов согласился, но предупредил, что напишет не вдруг: надо, мол, поразмыслить. Получили его статью через неделю. Называлась она не больно оригинально: «Поучительная операция». Однако действительно содержала много поучительного.
Жуков, просматривая «Красную звезду», где напечатаны статьи двух командующих армиями, сказал:
— Ишь расписались наши командармы!..
Сказано это было с явным одобрением. Я, воспользовавшись случаем, снова завел разговор о его выступлении в «Красной звезде». Но опять безрезультатно.
В газете по-прежнему туговато со стихами. И нетрудно представить, как мы обрадовались, когда Симонов выложил сразу три стихотворения. Напечатали мы их под общим заголовком «Возвращение». Первое стихотворение — «Товарищ» — хорошо известно. Симонов его сам любил и включал во все свои поэтические сборники и собрание сочинений. Сюжет был навеян трагическим событием, с которым столкнулся Симонов в августе, когда вместе с членом Военного совета 51-й армии корпусным комиссаром А.С. Николаевым оказался на Арабатской стрелке. Напомню, что ночью туда внезапно высадились немцы и уничтожили нашу стрелковую роту, оборонявшую эту узенькую полоску советской земли. Не у кого было даже спросить, как здесь все происходило. Всматриваясь в поле недавнего боя, показывая на павших, Николаев сказал:
— Эти лежат лицом вперед, на Запад. Приняли смерть в бою, сражались до конца...
Его слова глубоко запали в душу поэта и вот вылились в стихи:
На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ к Западу лицом.
Прочитав эти стихи, я спросил Симонова:
— Это оттуда, с Арабатской стрелки?
— И оттуда, и отсюда,— ответил он.— Везде, в каждом бою так...
Второе стихотворение — «Дорога» — является как бы второй частью его знаменитого «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», но только —
Дорога стала не такой.
Какой видал ее в июле,
Как будто сильною рукой
Мы вспять ее перевернули.
Эти стихи навеяны наступлением на Михайлов — Богородицк армии генерала Голикова. В них есть и тот самый эпизод с двумя факельщиками, поджигавшими деревню и расстрелянными по приказу командарма. Его, как, наверное, помнит читатель, я вычеркнул из очерка Симонова. А вот в стихах ему нашлось место. Стихи — не «документ»!
Третье стихотворение, тоже хорошо известное,— «Майор привез мальчишку на лафете...». В «Красной звезде» оно имело заголовок «Воспоминание» и начиналось строфой, которой в книгах нет:
Сейчас, когда по выжженным селеньям
Опять на Запад армия пошла,
Я вижу вновь июньские сраженья,
Еще не отомщенные дела.
Снял Симонов и последние два четверостишия:
За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верил — мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.
Но если нет — когда придется свято
Ему, как мне, идти в такие дни,
Вслед за отцом, по праву, как солдату,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.
Много лет спустя я спросил Симонова, почему он отказался от этих строк. Ответ последовал такой:
— Понимаешь, в художественном отношении они не того...
Я пожал плечами:
— На войне они были вполне... того!..
— Спорное суждение,— возразил Симонов. Но спорить ему явно не хотелось, и он добавил, улыбнувшись: — Словом, это право автора...
Очередная статья Ильи Эренбурга выдержана, я бы сказал, в едко-саркастическом тоне:
«Мы не зря пережили тяжкую осень. Мы не зря узнали горечь отступления. Мы закалились. Мы научились бить немцев... Не все им кататься в танках, не все пировать... Завоеватели Парижа удирают из Ливен. «Герои» Фермопил теряют штаны в Алексине. Затаив дыхание, весь мир смотрит, как «непобедимая» германская армия откатывается от Москвы... У немцев не только танки, у них есть пятки, и эти пятки красиво сверкают...
Они пишут: «Русские просто заняли пункты, очищенные нами по соображениям высшей стратегии». Нет, мы не «просто» заняли Ростов и Тихвин. Пришлось предварительно перебить десятки тысяч немцев. Да и немцы не «просто» очищали наши города. Они пробовали удержаться. Их выгнали из Клина. Их выбили из Калинина. «Высшая стратегия»? Объяснение для... остолопов. Когда выполняют стратегические операции, не бросают орудий, орудия не окурки, не теряют танков, танки не булавки... Гитлер может выдать фельдмаршалу Рунштедту орден за очищение Ростова. Он может подарить золотую шпагу фельдмаршалу Леебу за бегство из Тихвина. Он может осыпать бриллиантами мундир фельдмаршала фон Бока за Клин, за Калинин, за Сталиногорск. Он может сказать, что климат Ростова вредоносен для немцев, что гитлеровцы, поглядев в бинокль на Москву, нашли ее малопривлекательной, он может сказать, что зимний ветер дует в спину, это приятней, чем когда дует в лицо. Битый еще может хорохориться...»
У нас в редакции говорили, надо быть Эренбургом, чтобы так разделать главарей третьего рейха, пытающихся скрыть от своих же соотечественников и всего мира масштаб декабрьского поражения!
Имелись в этой статье и такие строки, над которыми редактору следовало бы, пожалуй, призадуматься: «Скоро черед Харькову», «Ленинград, кольцо вокруг тебя разжимается», «Близится час облавы»... .Да и сама статья озаглавлена «Близится час». Но... все мы люди-человеки. Все порой увлекаемся сверх меры — и писатели, и редакторы, и даже стратеги...
Однако восторги восторгами, увлечения увлечениями, а и в трезвости Илье Григорьевичу отказать нельзя. В той же статье он предупреждает:
«Мы знаем, что впереди еще много испытаний... Путь наступления — долгий путь: деревня за деревней, дом за домом. Немцы понимают, что их ждет. Они будут отчаянно защищаться. Они, возможно, еще не раз попытаются прорвать наш фронт и перейти в контрнаступление... У немцев еще сотни дивизий. У немцев еще тысячи и тысячи танков...»
С Западного фронта вернулся Василий Гроссман. Он был в прославленной 1-й гвардейской стрелковой дивизии, у генерала Руссиянова. Об этой дивизии и в дни наступления, как и в дни обороны, можно было писать без конца. В номер газеты Гроссман не успел написать, да его и не подгоняли. Мы знали, как он работал. Хотя он приучил себя писать в любой обстановке, в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях — в блиндаже у коптилки, в поле, лежа на разостланной постели или в набитой людьми избе,— писал он не торопясь, упорно вкладывая в этот процесс все силы без остатка. По-другому он просто не мог.
Для сегодняшнего номера Василий Семенович принес очерк «Гвардия наступает». Конечно, это еще не было тем широким художественным полотном, которым писатель одарил нас на втором году войны. Вернее говоря, это еще репортаж, но и в нем просматривалось искусство большого мастера портретных характеристик, пейзажа, деталей. Вот начальные строки очерка:
«Поздно ночью пришли мы в штаб дивизии — генерал сидел с начальником штаба за картой. Лицо генерала горит от ветра. Он недавно приехал из полка, глаза улыбаются — и лицо его, и голубые, улыбающиеся глаза удивительно напоминают те лица и глаза, что мы видели в снежной метели,— твердые, уверенные, довольные».
А вот и концовка очерка:
«Гвардейцы идут вперед. Суровый зимний ветер воет над степью, белые облака снега заполняют воздух, земля дымится от поземки — днем и ночью движутся, преследуя врага, гвардейцы Руссиянова, одетые в меховые шапки со спущенными ушами, в большие яловые сапоги, в теплые, пухлые рукавицы. Их молодые лица раскраснелись от ветра, они улыбаются — светлоглазые, белозубые, вдруг выходящие из светлого облака».
Снимки Бернштейна и Темина из 10-й армии появились в газете с опозданием на три дня. За это мы им обоим «выдали». Они пробовали оправдать задержку многими причинами: самолет был неисправен, непогода. Но им сказали:
— А как же Симонов?..
Вину свою Бернштейн и Темин несколько искупили тем, что привезли хорошие снимки. На фотографиях внушительно выглядит та самая дорога на Запад, о которой писал Симонов. И еще была одна репортерская находка: на сани, в которые впряжена лошадь, погружен малолитражный автомобиль. Под снимком этим подпись: «Зимний тягач» последнего немецкого образца, брошенный при отступлении немцев из г. Епифань».
Сайт «Огонь войны»
Моя первая отставка
«Монах, монах, как труден твой путь!» Эти слова, в применении к нашей обстановке, мне все чаще и чаще приходилось слышать от своих сослуживцев, когда я сообщил им о своем решении отправиться к Гитлеру. Мне и самому было ясно, как нелегко будет добиться, чтобы Гитлер принял мою точку зрения. Однако в то время я все еще верил, что наше верховное командование в состоянии здраво оценить обстановку, если об этом будет доложено фронтовым генералом. Эта уверенность сохранялась у меня на всем пути, когда я на самолете летел от фронтовой линии, проходившей севернее Орла, до далекой Восточной Пруссии, где находилась благоустроенная и хорошо отапливаемая верховная ставка фюрера.
20 декабря в 15 час. 30 мин. я высадился на аэродроме Растенбург (Растемборк), после чего имел пятичасовую беседу с Гитлером, прерванную лишь дважды, каждый раз на полчаса; один раз — на ужин, а второй — для просмотра еженедельной кинохроники, которую Гитлер всегда сам просматривал.
В 18 часов я был принят Гитлером в присутствии Кейтеля, Шмундта и нескольких других офицеров. Ни начальник генерального штаба, ни какой-либо другой представитель главного командования сухопутных войск не присутствовали во время моего доклада главнокомандующему сухопутными войсками, каковым Гитлер назначил себя после смещения с этого поста фельдмаршала Браухича. Как и 23 августа 1941 г., я предстал в единственном числе перед верхушкой верховного командования вооруженных сил. Когда Гитлер поздоровался со мной, я впервые заметил его отчужденный и враждебный взгляд, который он устремил на меня, свидетельствовавший о том, что он уже имеет предубеждение против меня. Тусклое освещение небольшой комнаты усиливало неприятное впечатление.
Доклад начался с моего изложения оперативной обстановки в районе 2-й танковой армии и 2-й полевой армии. Затем я доложил свое намерение отвести войска обеих армий от рубежа к рубежу до линии рек Зуша, Ока, о чем я еще 14 декабря докладывал в Рославле фельдмаршалу фон Браухичу и на что было получено его согласие. Я был убежден, что об этом было в свое время доложено Гитлеру. Как велико было мое удивление, когда Гитлер, вспылив, воскликнул: «Нет, это я запрещаю!» Я доложил ему, что отход уже начат и что впереди указанной линии вдоль рек Зуша и Ока отсутствуют какие-либо рубежи, которые были бы пригодны для организации длительной обороны. Если он считает необходимым сохранить войска и перейти на зиму к обороне, то другого выбора у нас быть не может.
Гитлер: «В таком случае вам придется зарыться в землю и защищать каждый квадратный метр территории!»
Я: «Зарыться в землю мы уже не можем, так как земля промерзла на глубину в 1-1,5 м, и мы со своим жалким шанцевым инструментом ничего не сможем сделать».
Гитлер: «Тогда вам придется своими тяжелыми полевыми гаубицами создать воронки и оборудовать их как оборонительные позиции. Мы уже так поступали во Фландрии во время первой мировой войны».
Я: «В период первой мировой войны каждая наша дивизия, действовавшая во Фландрии, занимала фронт шириной в 4-6 км и располагала двумя-тремя дивизионами тяжелых полевых гаубиц и довольно большим комплектом боеприпасов. Мои же дивизии вынуждены каждая оборонять фронт шириной в 20-40 км, а на каждую дивизию у меня осталось не более четырех тяжелых гаубиц с боекомплектом в 50 выстрелов на каждое орудие. Если я использую свои гаубицы для того, чтобы сделать воронки, то с помощью каждого орудия я смогу только создать 50 мелких воронок, величиной в таз для умывания, вокруг которых образуются черные пятна, но это ни в коем случае не составит оборонительной позиции! Во Фландрии никогда не было такого холода, с каким мы столкнулись здесь. Кроме того, боеприпасы мне необходимы для того, чтобы отразить атаки русских. Мы не в состоянии вбить в землю шесты, необходимые для прокладки телефонных линий, и для этого вынуждены использовать взрывчатые вещества. Где же нам взять необходимое количество подрывных средств для создания оборонительной полосы такого большого масштаба?»
Однако Гитлер продолжал настаивать на выполнении своего приказа — прекратить отход и остановиться там, где мы находились в тот момент.
Я: «В таком случае мы вынуждены будем перейти к обороне на невыгодных для нас позициях, как это было на Западном фронте в период первой мировой войны. Нам, как и тогда, придется вести сражения за счет использования техники и иметь исключительно большие потери, не имея возможности добиться успехов. Придерживаясь такой тактики, мы уже в течение этой зимы вынуждены будем пожертвовать лучшей частью нашего офицерского и унтер-офицерского корпуса, а также личным составом, пригодным для его пополнения, причем все эти жертвы будут напрасными и сверх того невосполнимыми».
Гитлер: «Вы полагаете, что гренадеры Фридриха Великого умирали с большой охотой? Они тоже хотели жить, тем не менее король был вправе требовать от каждого немецкого солдата его жизни. Я также считаю себя вправе требовать от каждого немецкого солдата, чтобы он жертвовал своей жизнью».
Я: «Каждый немецкий солдат знает, что во время войны он обязан жертвовать своей жизнью для своей родины, и наши солдаты на практике доказали, что они к этому готовы. Однако такие жертвы нужно требовать от солдат лишь тогда, когда это оправдывается необходимостью. Полученные мною указания неизбежно приведут к таким потерям, которые никак не могут быть оправданы требованиями обстановки. Лишь на предлагаемом мной рубеже рек Зуша, Ока войска найдут оборудованные еще осенью позиции, где можно найти защиту от зимнего холода. Я прошу обратить внимание на тот факт, что большую часть наших потерь мы несем не от противника, а в результате исключительного холода и что потери от обморожения вдвое превышают потери от огня противника. Тот, кто сам побывал в госпиталях, где находятся обмороженные, отлично знает, что это означает».
Гитлер: «Мне известно, что вы болеете за дело и часто бываете в войсках. Я признаю это достоинство за вами. Однако вы стоите слишком близко к происходящим событиям. Вы очень сильно переживаете страдания своих солдат. Вы слишком жалеете их. Вы должны быть от них подальше. Поверьте мне, что издали лучше видно».
Я: «Я, безусловно, считаю своей обязанностью уменьшить страдания своих солдат, насколько это в моих силах. Однако это трудно сделать в условиях, когда личный состав до сих пор еще не обеспечен зимним обмундированием и большая часть пехотинцев носит хлопчатобумажные брюки. Сапог, белья, рукавиц и подшлемников или совершенно нет, или же они имеются в ничтожном количестве».
Гитлер вспылил: «Это неправда. Генерал-квартирмейстер сообщил мне, что зимнее обмундирование отправлено».
Я: «Конечно, обмундирование отправлено, но оно до нас еще не дошло. Я проследил его путь. Обмундирование находится в настоящее время на железнодорожной станции в Варшаве и уже в продолжение нескольких недель никуда не отправляется из-за отсутствия паровозов и наличия пробок на железных дорогах. Наши требования в сентябре и октябре были категорически отклонены, а теперь уже слишком поздно что-либо сделать».
Вызвали генерал-квартирмейстера, который вынужден был подтвердить верность моих утверждений. Результатом этой беседы явилась кампания зимней помощи по сбору теплых вещей, начатая Геббельсом к рождеству 1941 г. Однако в течение зимы 1941/42 г. солдаты ничего из этих вещей не получили.
Затем мы перешли к обсуждению вопросов, касающихся боевого состава войск армии и состояния продовольственного снабжения. Ввиду больших потерь в автотранспорте, которые мы понесли в период распутицы, а также из-за больших морозов ни в войсках, ни в специальных транспортных подразделениях недоставало необходимого автотранспорта для подвоза предметов снабжения. Не получая никакого пополнения взамен выбывшего из строя автотранспорта, войска вынуждены были использовать местные транспортные средства, а именно — крестьянские телеги и сани, имевшие незначительную вместимость. Для того, чтобы заменить недостающие грузовые машины, требовалось очень большое количество местных транспортных средств и многочисленный обслуживающий персонал. Гитлер требовал резкого сокращения частей снабжения и тылов войсковых частей, которые, по его мнению, слишком разбухли, с тем чтобы освободить личный состав для фронта. В той мере, насколько это не вредило делу снабжения, такое сокращение, конечно, уже было сделано. Более значительных результатов можно было добиться путем улучшения других транспортных средств, особенно железнодорожного транспорта. Однако было трудно убедить Гитлера в этой несложной истине.
Далее мы перешли к вопросу об условиях расквартирования войск. Несколько недель тому назад в Берлине была открыта выставка, отражавшая мероприятия главного командования сухопутных войск по обеспечению войск в условиях зимы. Фельдмаршал фон Браухич не поленился лично показать Гитлеру эту выставку. Выставка была изумительно красива, и ее даже показывали в кинохронике. Но, к сожалению, войска не имели ни одной из этих красивых вещей. Из-за непрекращающейся маневренной войны невозможно было что-нибудь построить, а страна давала нам очень мало. Поэтому условия размещения наших войск были исключительно плохими. Об этом Гитлер также не имел ясного представления. Когда мы беседовали на эту тему, присутствовал министр вооружения доктор Тодт, человек умный и здравомыслящий. Под впечатлением моего рассказа об обстановке на фронте Тодт подарил мне две окопные печи, которые он намеревался показать Гитлеру, а затем в качестве моделей отправить в войска, которые должны были производить такие печи, используя для этого местные средства. Его подарок явился, пожалуй, единственным положительным результатом этой длительной беседы.
Во время ужина я сидел рядом с Гитлером и, воспользовавшись этим обстоятельством, рассказал ему некоторые подробности относительно фронтовой жизни. Однако это не произвело на него того впечатления, на которое я рассчитывал. Очевидно, Гитлер, как и его приближенные, считал, что я сильно преувеличиваю.
После ужина беседа была возобновлена, и я внес предложение о том, чтобы на работу в верховное командование вооруженных сил и главное командование сухопутных войск были поставлены офицеры генерального штаба, имеющие фронтовой опыт. Я сказал: «Судя по отношению работников главного командования сухопутных войск, у меня сложилось впечатление, что наши донесения и доклады оцениваются неправильно, а вследствие этого и вас часто неверно информируют. Поэтому я считаю необходимым на должности офицеров генерального штаба назначать в верховное командование вооруженных сил и главное командование сухопутных войск офицеров, имеющих достаточный фронтовой опыт. Необходимо произвести «смену караулов». В обоих штабах, на самых высших должностях, находятся офицеры, которые с самого начала войны, т. е. в продолжение двух лет, ни разу не видели фронта. Эта война настолько отличается от первой мировой войны, что фронтовой опыт того периода сейчас не имеет никакого значения».
Мои слова попали в самый центр осиного гнезда. Гитлер с негодованием возразил: «Я не могу сейчас расстаться со своим окружением».
Я: «Вам нет необходимости расставаться со своими личными адъютантами; не об этом идет речь. Важным является замена руководящих офицеров, занимающих должности в генеральном штабе, офицерами, обладающими фронтовым опытом, особенно опытом боевых действий в зимних условиях».
Эта моя просьба была также категорически отклонена. Беседа закончилась неудачно. Когда я выходил из помещения, где делал доклад, Гитлер сказал Кейтелю: «Этого человека я не переубедил!» Тем самым в отношениях между нами образовалась трещина, которая в дальнейшем уже никак не могла быть ликвидирована.
На следующее утро, прежде чем отправиться в обратный путь, я еще раз позвонил по телефону начальнику штаба оперативного руководства вооруженных сил генералу Иодлю и вторично заявил, что нынешние методы действий неизбежно приведут к исключительно большим человеческим жертвам, которые ничем не оправдываются. Необходимы резервы, причем незамедлительно, для того, чтобы, оторвавшись от противника, закрепиться на тыловой оборонительной полосе. Этот мой призыв не возымел никакого действия.
Г.Гудериан Воспоминания солдата.
20 декабря 1941 года, 182-й день войны
Обстановка на фронте. В целом положение по-прежнему очень напряженное.
Группа армий «Юг». Наши войска продвигаются у Севастополя. На остальных участках фронта — все спокойно.
Группа армий «Центр». Противник атаковал правый фланг 2-й армии и добился небольшого успеха. Атаки противника на участке вклинения у Верховья успеха не имели. В районе разрыва фронта западнее Тулы противник прорвался в наш тыл и оттуда своими лыжными и кавалерийскими частями вышел в район южнее Калуги. В это же время частям 43-го армейского корпуса удалось успешно отразить атаки противника перед своим фронтом. На остальных участках фронта противник предпринимал сильные атаки, однако наши части отошли лишь на некоторых участках.
Группа армий «Север». На ряде участков положение критическое. Части 1-го армейского корпуса отходят. Отход, по-видимому, идет довольно организованно.
Доклад фюрера. Обоснование необходимости удерживать фронт.
Каждый солдат должен оборонять тот участок, на котором он стоит. Не отходить с тех участков, за которыми нет подготовленных рубежей. Удерживать кольцо окружения у Ленинграда. Танки перебросить в Африку.
Высказывания фюрера 20 декабря 1941 года:
Отходить на Тим — только после предварительной подготовки.
Опорные пункты, располагающиеся в промежутках между населенными пунктами, должны отапливаться. Обеспечить защиту от подразделений противника, просачивающихся в наш тыл. Войсковым частям — сформировать истребительные команды.
(Гитлер): «Мы должны научиться ликвидировать прорывы». Сознание своего долга. Не думать об отступлении, если того не требует обстановка. (Только в том случае), когда поступит донесение, что у Тима что-то подготовлено (укрытия для личного состава, меры по защите от мороза). Охранные подразделения создавать, используя тыловые службы (и части снабжения). Организация заградотрядов. Любая полевая хлебопекарня должна уметь организовать оборону своего объекта. Вбить в сознание каждого фронтовика необходимость сопротивления. Военно-воздушные силы планомерно (направлять) на населенные пункты (занятые противником). Воздействовать артиллерийским огнем. Сжигать населенные пункты!
Противник не располагает превосходством в силах: это приказ! Гудериан должен держаться. Передать в его распоряжение 24-й моторизованный корпус.
Почему отход? Говачево.
«Русская зима» — изжить это выражение! Офицеры (командиры) должны убедиться, каково положение с дорогами и т. п. Распределение дорог и транспорта.
Клюге должен остановить правый фланг 4-й армии. 4-й армии нельзя отступать.
Рихтгофен (командир 8-го авиакорпуса) должен уничтожить населенные пункты и небольшие лесные участки.
Непрерывное обслуживание эшелонов на всем пути к фронту. Организация службы на железных дорогах (начальнику военно-транспортной службы). 7-й армейский корпус: никаких возражений (против частичного отвода войск), если боевая техника также будет эвакуирована. Опорные пункты в промежутках между населенными пунктами. Отапливаемые опорные пункты! (Разрешение на отход) при условии, что тыловая позиция оборудуется заранее и гарантируется ее удержание. Ничто из матчасти и запасов не должно попасть в руки противника. Уничтожать все без остатка.
Рубеж по Старице. Что оборудуется? Войска не должны отходить на него, пока он не будет окончательно оборудован. Дорога на Старицу должна остаться позади оборонительного рубежа. Этот рубеж расположить в 10 км впереди дороги. Оборудовать рубеж окончательно к весне 1942 года.
Группа, армий «Север». Сделать все возможное, чтобы выдержать натиск противника, в том числе и в районе «бутылочного горла». Чаще посещать войска! Массировать артиллерию.
Двойная опасность на рубеже Волхова и в районе «бутылочного горла». Сосредоточить танковые части. Усиленные танковые соединения для нанесения контрудара. 12-я и 203-я пехотные дивизии. Использовать в полном объеме все возможности для обороны; использовать установки «Небельверфер». Подготовить жесткую оборону на обе стороны. Усилить войска артиллерией!
Оголить ленинградский участок (для отражения удара русских по обе стороны «горла»). Взаимодействие с авиацией. Железная дорога у Тихвина. Разрушение отдельных участков железной дороги. Противник должен жить на подножном корму (не допускать никакого строительства противником железнодорожных линий). Если создается впечатление, что противник осуществляет планомерное сосредоточение войск, наши войска должны путем высылки патрулей точно установить, что там происходит в действительности. Максимально использовать для этого авиацию. Запасы боеприпасов для войск на участке «бутылочного горла». Сооружение и оборудование огневых позиций артиллерии. Использование трофейной артиллерии. (Генерал-инспектору артиллерии!)
Быть достаточно сильными, чтобы мешать развертыванию крупных сил вражеской артиллерии. Оборудование артиллерийских огневых позиций в условиях оттепели. Наиболее важно для войск:
а) отопительные приборы (печи);
б) применение взрывчатки для земляных работ (генерал-инспектор инженерных войск); окопы-укрытия создавать с помощью артобстрела фугасными снарядами замедленного действия (Грейфенберг);
в) ускорение транспортных перевозок (железные дороги), для чего выделять офицеров, ответственных за отдельные участки железнодорожной линии, а также средства для утепления паровозов, для налаживания работы паровозных депо, для обеспечения углем, водой и т. п. Ответственный за проведение мероприятий на железных дорогах — Борк;
г) организация подвоза, которую должны наладить офицеры с диктаторскими полномочиями (генерал-квартирмейстеру!);
д) никаких «контрактных» взаимоотношений (то есть таких, когда солдат выполняет обязанности не по долгу); каждый пекарь должен уметь оборонять свой опорный пункт, каждый должен обороняться там, где он находится, а для этого глубокое эшелонирование, неукротимая энергия;
е) создание резервов (будет обсуждаться в ближайшие дни).
Авиационные части должны быть также привлечены для действий вплоть до первой линии обороны. Населенные пункты — сжечь. У местного населения отобрать теплую одежду. На повестке дня только одна задача — забота о немецком солдате! (Грейфенбергу и генерал-квартирмейстеру);
ж) (записи нет);
з) собрать воедино танковые экипажи (танки лучше всего отправить в Германию!);
и) вопрос о моторизованной дивизии (обсудить завтра);
к) задачи на финском участке театра военных действий [7-я горнопехотная дивизия, Финляндия, другие — легкие пехотные — на Восточный фронт; Неаполь: танки и снова танки, противотанковая оборона, отсутствие артиллерии береговой обороны.
Высказывания фюрера на совещании 20 декабря 1941 года:
(неоконченные записи по ходу совещания, аналогичные предыдущим):
Воля к сопротивлению должна быть внедрена в каждую воинскую часть (требование Гитлера).
I. а) Войска должны учиться «противостоять прорывам». Вырабатывать психологическую невосприимчивость к просачиванию отрядов противника в немецкую оборону. Твердое управление войсками. Нельзя думать об отходе, если для этого не созданы условия.
б) Гарнизоны во всех населенных пунктах комплектовать за счет тыловых частей и служб. Любое убежище (укрытие), даже если оно находится далеко от передовой, должно быть превращено в опорный пункт. Коменданты в населенных пунктах!
в) Подвоз и распределение поступающего пополнения в личном составе должны осуществляться централизованно! Насколько возможно, пополнение подтягивать как можно ближе к передовой.
г) Относительно возможностей использования дорог никакой ясности нет. Штабы армий должны произвести офицерские рекогносцировки и получить ясную картину состояния дорог.
д) Действия авиации против населенных пунктов и лесов (отдельных участков лесистой местности).
е) Расширить строительство оборонительных сооружений далее в тыл. Что предпринимается в этом отношении и как обстоит дело?
П. (Никаких записей).
Телеграмма ОКВ относительно задач, поставленных Гитлером перед сухопутными войсками и высказанных Гальдеру на совещании 20 декабря 1941 г.
Ниже приводится перечень задач, которые были объявлены Гитлером начальнику генерального штаба для сухопутных войск на ближайшее время{344}.
1. Держать оборону и сражаться до последнего. Добровольно не отступать ни шагу назад. Прорвавшиеся подвижные части противника уничтожать непосредственно в тылу.
2. При этом добиваться выигрыша во времени для осуществления следующих мероприятий; а) улучшения работы транспорта; б) подтягивания резервов: в) эвакуации вышедшей из строя ценной боевой техники, которую можно отремонтировать и восстановить; г) оборудования опорных пунктов на тыловом оборонительном рубеже (после рекогносцировки этого рубежа).
3. Использовать энергичных офицеров для выполнения следующих задач: а) ускорения формирования эшелонов на конечных станциях и более полной загрузки этих эшелонов; б) организации эвакуации; в) сбора военнослужащих, отколовшихся от своих частей, и отправки их на передовую; г) оборудования баз снабжения в качестве опорных пунктов.
4. Все имеющиеся в распоряжении части, находящиеся на родине и на Западе, направить на Восточный фронт:
— в распоряжение группы армий «Север» — 81-ю пехотную дивизию, парашютный полк (Ленинград), 9-й полк СС из Хельсинки, 5-ю легкую пехотную дивизию (южнее озера Ильмень);
— в распоряжение группы армий «Юг» — 88-ю пехотную дивизию и одну пехотную дивизию из Сербии;
— в распоряжение группы армий «Центр» все остальные силы. Дополнительно командование ВВС выделяет несколько батальонов. Кроме того, из Кракова будет переброшен 4-й полк СС.
5. У пленных и местных жителей безоговорочно отбирать зимнюю одежду. Оставляемые селения сжигать.
6. (Записей нет).
7. Истребительные отряды для борьбы с партизанами обеспечить на родине хорошим зимним обмундированием, а также соответствующей материальной частью и вооружением.
8. Подготовить танковые экипажи для вновь поступающей танковой техники.
9. Там, где фронт стабилизировался, моторизованные дивизии использовать как пехотные, а автомашины передать в танковые дивизии групп армий «Север» и «Юг».
10. Через 10–14 дней группе армий «Север» начать наступление крупными силами. До его начала фронт должен быть стабилизирован. Подвижные резервы (203-й танковый полк должен быть слит с боеспособными частями 8-й и 12-й танковых дивизий) держать в боевой готовности на угрожаемых направлениях. Разведкой боем своевременно выявить намерения противника. Военно-воздушным силам наносить массированные удары по пунктам размещения войск противника, используя при этом также и тяжелые бомбы. Необходимо иметь резервы у Новгорода.
11. Для использования в Финляндии предусматривается лишь 7-я горнопехотная дивизия, позже — 5-я горнопехотная. Кроме того, в распоряжение ОКХ для использования на Востоке выделяются легкие пехотные дивизии.
12. Италии, Венгрии и Румынии будет предложено своевременно выставить крупные силы на 1942 г., с тем чтобы они прибыли к месту назначения до начала весенней распутицы, откуда маршевым порядком вышли бы к линии фронта.
Многократные разговоры с фон Клюге (командующий группой армий «Центр»). Во всех просьбах об отходе ему отказано. Гудериану, который вознамерился планомерно отходить, отдан контрприказ. Разговор фюрера с Гудерианом. Затем мой доклад фюреру.
Генерал Кейтель (управление кадров) докладывает об очень напряженном положении с офицерским составом. В связи с комплектованием дивизий на родине (акция «Валькирия») и необходимостью пополнять дивизии, перебрасываемые на Запад, резервы офицерского состава иссякли. Новые резервы офицерского состава будут подготовлены только в апреле. К 5 января можно будет подсчитать, какой резерв офицерского состава мы будем иметь.
17.00 — Фельдмаршал фон Браухич прощается со своим штабом. 18.49 — отъезд фон Браухича специальным поездом из расположения штаба.
Вечерние данные об обстановке. В общем — без изменений. По сведениям, противник подтягивает свежие силы к фронту 2-й армии, 2-й танковой армии и в район разрыва фронта западнее Тулы. Мрачное положение на участке южнее Калуги. Сюда приближается кавалерия противника.
Ф. Гальдер Военный дневник.
Свидетельство о публикации №116071205357