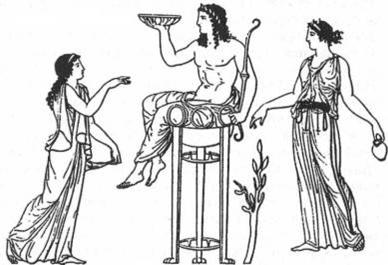Мю
Что сделал Декарт? Он сосредоточил своё внимание, а читай и наше общее, на этом факте - "мыслю" - повсюду "я мыслю", а следовательно, решил он, почему бы не предположить, что это и есть достаточные основания для любой метафизики?!
Где бы мы не мыслили и о чём бы мы не мыслили, мы всегда обнаруживаем в этом мышлении - что "мыслю я" - вот тебе, как говорится и основа. Но давайте же посмотрим, что вместе с такой основой приходит в философию, в сознание человека вообще. Нетрудно догадаться, что один раз зафиксировав это "я мыслю", человеческое сознание уже легко могло обнаружить его повсюду, или же дело обстояло наоборот - наталкиваясь в каждом конкретном акте мышления на свою субъективную способность мыслить вообще, разум приходил к этой способности в её чистом, так сказать, виде, но КАКАЯ РАЗНИЦА? Это был всё тот же один, неделимый континуум схватывания какого-то Бытия, точнее "схватывания" Бытия на каком-то уровне. Распыляли ли мы своё "я" по предметам, или собирали из всех этих предметов в одну огромную точку своё великое и могучее "Я" суть дела от этого не менялась. Континуум отныне представал как "предметность", "объективность" с одной стороны и "субъективность", "действенность" с другой. Причём предметам полагалось быть только мысленными или помысленными, им отводилась полностью пассивная роль, а нам доставалась роль, соответственно, абсолютно активная.
С таким пониманием, не странно, что мы получили тут же всяческие номинализмы, понятия из головы, саму голову, которая якобы и мыслит - получили все родовые, тяжелейшие заболевания нашего времени. Получили Разум, получили Сознание, как таковое, Дух в его абстракции от всего прочего и множество других трудно выводимых логически понятий, которым однако ничто не мешало теперь самим царствовать над Логикой. Все эти приключения длятся и по сей день. И до сих пор учёные ищут мышление в голове, в буквальном смысле препарируя человеческие мозги на анатомическом столе и даже "что-то" там находят, правда никому не понятно что))) Душу также ищут в теле, ну где-то там в области сердца, или приблизительно в груди, но конечно же тоже найти не могут. Не подозревая нисколько, что подобные манипуляции, отнюдь не здоровее и продвинутей, чем поиски ведьм среди людей в Средневековье. Как говорил один шутник - "у каждого времени своё Средневековье..."
Новая эра, открытая Декартом распространялась под флагом науки и научности, именно её, вполне устраивало, что мыслим "мы" - деятельные субъекты, а не какие-то там континуумы, Бытие или человеческое общее. Спонтанность мышления, как нечто независящее от нас, не приветствовалась, приветствовались сознательные, то бишь нами индуцируемые акты рассуждений и лостижения благодаря им определённых наличных целей. Но для того, чтобы действительно понять, что произошло в целом с самим мышлением, нужно отстраниться от этого нового времени, и окинуть беглым взглядом весь его путь ещё раз.
Мы привели три примера, три голоса философов из различных трёх эпох становления мышления, и сделали это не случайно, нас интересовало не столько то, ЧТО говорили эти философы, сколько КАК они это говорили. И мы обнаружили насколько потрясающе различны эти КАК. Первый голос, гераклитовский, можно было бы назвать - полностью поэтизированным, а мы знаем, что именно таковой и была изначальная философия древних греков - поэтической. Этот голос воспевал, славословил и разворачивал полноту Бытия, причём таким образом, что в этом голосе не было место никакому отдельному индивидуальному "я". Наоборот, и боги, и люди, терялись в безграничных пространствах Космоса. Такой тип мышления по полному праву следовало бы назвать - бытийственным. И не случайно, прямо за Гераклитом след в след, Парменид заговорил именно о Бытие. Второй голос, принадлежавший Блаженному Августину - настолько же растерян и подавлен в своём существовании, насколько древнегреческий мощен.
Кажется, что от человека отняли всё то, что он видел и лицизрел воочию и близко, и отдали бесконечно далёкому Богу, который хотя отныне и воплощал в себе все эти совершенства, но был столь недоступен, что ни увидеть его, ни достигнуть, ни понять не представлялось возможным. Как-будто в комнате с ярко горящей лампочкой кто-то резко выключил свет, и ослепительное сияние для человека сменилось мраком - смертности, греховности, нищеты. Как-будто перед человеком сначало было "всё" в своём великолепии блиставшее красками, а затем оно в мгновение ока обратилось в "ничто" - а схоластический Бог так и определялся через множественное "не" - "не то" и "не то" и "не то" - практически полным отрицанием. Мы должны зафиксировать данную пропасть, через которую перескочило человечество, а вместе с ним и его мышление. Ибо между миром антическим, древнегреческим по существу и миром средневековым лежит бездонная пропасть, это вовсе не антагонистические, а абсолютно разные миры - миры, полученные путём разрушения, разрыва и распада связи времён.
Средневековое мышление должно назвать мышлением теологическим, а заглядывая в самую суть - абстрактным по существу. Начавшись с веры и попытки непосредственного слияния с Богом, оно закончилось вполне правомерно самыми "сухими" абстракциями на свете - схоластикой. И мы не удивлены, потому что с таким Богом не было никакой возможности слиться, да что там слиться, даже вступить в контакт. Бог говорил порой верующим, всяческим блаженным и мученикам, но они не были философами, а вот философам он почему-то не говорил. И приходилось поэтому довольствоваться своими же собственными рассуждениями о своих же собственных рассуждениях, что естественно, продвигало вперёд развитие формальной логики, но отнюдь не приблежало к Богу. Значит, второй тип человеческого мышления - абстрактный. И наконец мы подходим к Новому времени - "предметы и субъект" - в данном случае, человеческое мышление начало мыслить конкретный наличный мир, а таковой только и мог состоять из бесконечного числа предметов, и множества субъектов, орудующих с ними. Голос Декарта это бравада человеческого "эго", обнаружившего свою власть над предметным миром. И Космос, и Бог уже должны были в значительной мере пропасть, кануть в небытие, чтобы такая бравада стала возможной и вполне дееспособной. Кто же был призван вершить все дела и царствовать на троне в некосмическом и небожественном мире? - Правильно, Разум, но не космический и не божественный понятно, а людской, и воплощением этого разума и стала наука. Именно наука "вскрывала", "разоблачала" и "вычисляла" свои предметы, а наличный мир затем переделывался в соответствии с открытыми научными достижениями. В таком бравурно-бравадном мире мы и живём до сих пор. Тип мышления нашего мира - научный, выражаясь глубже и по сути - предметный. А отбросив всяческие заигрывания и сантименты, скажем начистоту и прямо - максимально частичный, разорванный тип мышления. Казалось бы с приходом Нового времени человек получил хоть какую-то почву для своего мышления в противоположность схоластическим абстракциям, но какова же была эта почва? Всеобщее исчезло навек - если у древних греков оно было живым и трепещущим, а в средневековье мёртвым и безжизненным, но всё же нависало и довлело, то теперь ему не было места вообще. Я предвижу, что мне тут же возразят, что как раз в это время и разрабатываются всеобщие категории в философии, - боюсь так можно увидеть только если смотреть поверхностно. Весь костяк категорий был разработан ещё Аристотелем, это во-первых, во-вторых же, за категории современные философы только потому и взялись, что они исчезли и из жизни, и из науки, Гегелевские понятия скорее были противовесом торжествуюшему времени, агонией, загнанной в саму себя философии, которой приходилось хотя бы как-то защищаться от повсеместной научности. Что было делать, ведь философия не была наукой, не было наукой и искусство, им обоим приходилось играть роль - играться в научность, подтверждая свою убедительность.
Нередко можно слышать такое высказывание, что философия всегда была служанкой - чей-то там, не важно чей. Но на самом деле это не так, приведённое высказывание основывается лишь на привычке видеть только сегодняшнюю философию, а сегодня и читай со времён Декарта, философия действительно служит - она призвана на службу науке и должна выглядеть наукообразно, иначе её обвинят в слишком большой поэтичности, как например, философию Ницше, и тем самым уже "повергнут в прах". Но предыдущий тип мышления тоже был служанкой, в средневековые времена философия подчинялась теологии, причём так, что вообще-то ею и была. Нынешняя же пребывает непонятно где, непонятно в каком месте и служит. И всё же, самое начало философии было совершенно иным - древнегреческая философия никому не служила и не облекалась ни в чьи чужие одежды, и давайте не будем этого забывать, потому что это те малые крохи истины, которым нас и может научить история. И история нам подсказывает, что философия по своему рождению и происхождению - самодостаточна.
Свидетельство о публикации №116021301366
Марина Артюх 13.02.2016 11:39 Заявить о нарушении