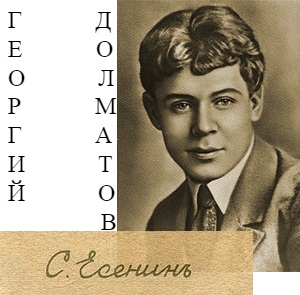Сергей Есенин. Повесть
Глава первая
21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново, Рязанской губернии родился великий поэт земли русской Сергей Александрович Есенин. Представитель новокрестьянской поэзии, лирик и в более поздний период – имажинизма.
… Татьяна еще засветло вернулась с подругой из больницы, вошла в избу, бережно прижимая к себе сопящий комочек в одеяльце. Роды были тяжелыми, однако она и не думала залеживаться , собрав все силы и быстро вернувшись домой. Зайдя за занавеску, уложив и распеленав малыша в люльку рядом с кроватью, она выпорхнула из-за занавески и уткнулась мужу в плечо.
-Ну , будет-будет.- Александр Никитич не любил слезы и разные там нежности. Он просто похлопал слега ее по плечу,- Хоть бы на стол собрала. Праздник ведь, такое дело сын родился! Сергун!
Татьяна чуть не выронила кринку с молоком из рук, она еще с утра думала предложить именно это имя, очень уж оно ей нравилось. Расставляя на столе не хитрое праздничное угощение, она украдкой смахивала слезы счастья, наворачивающиеся на глаза, но все-таки нежелательные для внимания серьезного мужа.
Александр Никитич налил полную чарку подруге, соседке, забежавшей на такое событие и себе, Татьяна закрыла чашку рукой- ей ребенка кормить.
-Ну, за Сергуна! Светлую голову, чтоб он жил- не тужил да наших забот знать не знал!
Все выпили. Ребенок за занавеской заворочался, как будто понял, что говорят о нем, но снова засопел, затих.
...С двух лет «по многочисленности семейства и бедности» был отдан на воспитание деду по матери. В пять лет научился читать и писать, в девять начал сочинять стихи, подражая частушкам…
…В 1904 году Есенин пошел в Константиновское земское училище, по окончании которого начал учебу в 1909 году в церковно-приходской второклассной учительской школе в Спас-Клепиках. По окончании школы, осенью 1912 года, Сергей ушел из дома, прибыл в Москву, где работал в мясной лавке, потом в типографии И.Д. Сытина. В 1913 году поступил вольнослушателем на историко -филосовское отделение в Московский городской народный университет А.Л.Шанявского, где проучился полтора года. Работал в типографии, дружил с поэтами Суриковского литературно- музыкального кружка.
-Я что тебе сказать хочу, друг ты мой сердечный, мне тяжело вспоминать обо всем и, если бы пришлось вспоминать, то надо бы было помянуть лихом.
Прошло семьдесят пять лет с того дня, как И. А. Гончаров покинул училище, а в нем мало что изменилось. Воспитатели за малейшую провинность клали учеников младших классов себе на колени вниз животом и пускала в ход линейку. Старшеклассников поучали, поставив спиной к стене и постукивая по лбу увесистым ключом {8} от дверей класса. Размножались фискалы, процветали доносы. Начальство искореняло крамолу. Все это прикрывалось опекуншей императрицей Марией Федоровной, которой на старости лет иноземные искусники сделали косметическую операцию лица. Огромный портрет этой «неувядаемой» красавицы в аляповатой золоченой раме висел на видном месте в актовом зале. А вокруг по стенам — одетые в военную форму разных веков самодержцы.
Особенный трепет вызывал попечитель училища гофмейстер императорского двора князь Жедринский, напоминавший в своем сплошь вызолоченном мундире начищенный до блеска медный самовар.
Он не одобрил выпущенный старшими классами рукописный журнал «Рассвет». В нем были и мои стишки. Были у меня и другие, и я дал их почитать учителю русской словесности Хитрову.
Дней через пять статский советник П. И. Хитров отдал мне стихи. Под стихотворением «Зимняя ночь», аккуратно было выведено: «Основная тема: поэзия природы»; частная мысль: зимний пейзаж; идея, как вывод: зимой хорошо: путь чистый, но мрачный». И таким образом были разобраны все стихи, впрочем, иногда попадались замечания: «Верно подмечено», «Очень удачно передано»; «Неудачна форма»; «Не верен тон» и т. д., и т. п.
Что было делать? В те далекие годы начинающий литератор не мог нигде получить помощи. К профессиональным поэтам было трудно попасть, посылать в редакцию журналов стихи — бесполезно; печатались ответы на последней странице, петитом, в «Почтовом ящике» в таком изящном стиле: «Ваши стихи сданы в корзину», «Глупостей мы не печатаем», «А знаете ли вы, что за такие стихи в порядочном доме морду бьют?»
По окончании Коммерческого училища я стал готовиться к поступлению в Московский университет и сдал экстерном латинский язык. Одновременно репетировал отстающих учеников и принимал участие в деятельности «Общества бывших воспитанников Московского коммерческого училища». Именно там на заседании (это было в 1915 году, во время первой мировой войны) я увидел высокого сутулого старика в черном сюртуке с копной седых, зачесанных назад волос. Мне сказали, что это {9} известный критик Сергей Глаголь (доктор С. С. Голоушев), который много лет назад тоже учился в Московском коммерческом училище.
После заседания меня представили Сергею Глаголю. Потом я зашел к нему домой (он жил в одном из переулков Остоженки) и занес ему три моих рассказа. Помню, говорили мы о том происшествии, которое случилось в нашем училище в 1912 году (год реакции). Кто-то донес инспектору, что у ученика 6-го класса Гудкова в парте лежат прокламации. Ученика посадили, инспектору дали орден.
— Вот, видите, Вольтер прав, — сказал Глаголь. — «Доносы процветают там, где их поощряют».
Я объяснил, что за Гудкова отомстили: в актовом зале из портрета Николая II вырезали в середине квадрат, и сквозь него была видна желтая стена.
— Это я знаю, — подхватил Сергей Сергеевич, посмеиваясь. — В училище загорелся сыр-бор!..
После этой встречи Глаголь известил меня открыткой о том, что один из рассказов «Предсказание» ему понравился, и он покажет его Леониду Андрееву, который вскоре приедет из Петербурга.
Кто в те годы не читал андреевские: «Рассказ о семи повешенных», «Жили-были», «Бездна» или роман «Сашка Жегулев»? Кто не видел пьес «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Екатерина Ивановна»? А потрясший зрителей в Художественном театре «Анатема»?
Я больше всего любил рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська». В детстве я жил с родителями на Солянке, в М. Ивановском переулке, в двух шагах от Хитрова рынка. На перекрестке этой улицы и переулка стоял городовой, внешне напоминавший Баргамота, все жители и хитрованцы величали его по имени отчеству, и, конечно, он принимал дары от содержателей ночлежек, притонов, домовладельцев, чьи здания были на его участке. Был на Хитровке и «пушкарь — промышленная голова» Гараська, только звали его «Колька-пьяный». Горе было любому человеку, если обижал Кольку: он узнавал силу пудовых кулаков Баргамота...
Вскоре я предстал перед знаменитым писателем. Резкие черты лица, горбатый нос, открывающие большой лоб черные крылья волос, острая черная борода, огромные вспыхивающие черными огнями глаза заставляли {10} надолго запомнить Леонида Николаевича. Одет он был в черную вельветовую куртку с отложным воротником, из-под которого спускался на грудь небрежно повязанный галстук. Писатель поднялся из-за стола и, пожимая мне руку, заглянул в глаза. Потом стал шагать по комнате, а я испытывал нервную дрожь ученика, протягивающего на экзамене руку за билетом.
— Какие вещи Герберта Уэллса вы читали?— спросил меня Андреев, остановившись.
— «Борьбу миров», «Машину времени».
— А «Преступление лорда Артура Савиля»?
— Не читал!
— Поэтому вы и не знаете, что ваш рассказ «Предсказание» похож на этот «Этюд о долге» Уэллса, — и Леонид Николаевич рассказал содержание.
Конечно, мой рассказ по исполнению ни в какое сравнение не шел с «Этюдом о долге», который я вскоре прочитал.
— Вам нужно больше читать, — продолжал Леонид Андреев. — Для чего? Для того, чтобы не повторить то, что уже написано! И не писать так, как это делали до вас! Найдите свою тему, свой стиль, свой язык! Вы где учитесь?
— Собираюсь поступить на юридический.
— Ни один факультет не дает такое познание жизни, как юридический. Я учился и работал судебным репортером. Какие сюжеты! Какие характеры! Фейерверк страстей!
Несколько минут он вспоминал, как тот или иной судебный процесс наталкивал его на золотые темы.
— Не спешите публиковать ваши рассказы,—продолжал Леонид Николаевич. — В литературе очень важны первые шаги. А то шагнут, а авторов не замечают.
Хотя все это говорилось мне гораздо мягче, чем я передаю, но я сидел, чувствуя, что земля разверзлась подо мной, а я лечу в пропасть. У меня только нашлось силы, робко задать мучительный вопрос:
— Выйдет у меня что-нибудь?
— Я не профессиональный хиромант! — проговорил Андреев и улыбнулся. — Прежде чем стать хорошим писателем, надо быть отличным читателем! — сказал он на прощание.
С начала 1914 года в московских журналах появились стихи Есенина. В 1915 году он переезжает в Петроград, приходит знакомится к Блоку. По адресу, взятому у друзей, плохо ориентирующийся в незнакомом городе, Есенин все-таки нашел нужный дом и постучал в дверь. Дворник пустил его внутрь, а дальше уже Есенина встретил с улыбкой и радушно сам хозяин.
-Что же вы, милостивый государь, поэт? Вот ,знакомьтесь, пожалуйста, - поэты Клюев и Городецкий. Два молодых человека встали перед Есениным и поклонились.- Вы почитаете нам что –нибудь? - Блок был одет в кипельно- белую рубашку со стоячим воротом, поверх которого был повязан яркий бант ,на нем были также черные брюки, на ногах мягкие домашние туфли. Есенин именно таким его и представлял себе, видя один раз фотографию- гордого поэта с непокорной буйной кудрявой гривой ; он прочитал один стих, потом второй, думая , что его остановят, но этого не происходило, наоборот слушали со все нарастающим интересом. Он вошел в раж и стал читать отрывки из «Марфы Посадницы», «Русь», «Микола», «Егорий», «Ус», «Иисус- младенец», «Голубень»…Слушатели были в полном восторге и почти все стихотворения были сразу же напечатаны в разных газетах и журналах Петербурга.
В 1916 году Есенина призывают на военную службу. Революция застает его в одном из дисциплинарных батальонах, куда он попал за отказ написать стихи в честь царя. Самовольно покинул армию, примкнул и работал с эсерами(не как партийный, а как поэт) При расколе партии пошел с левой группой, был в их боевой дружине. Октябрьскую революцию принял радостно, но по-своему, «с крестьянским уклоном»
Глава вторая
Август. Издательство Всероссийского центрального комитета. По улице мимо стройными рядами идут латыши. Кажется, что их шинели не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди развивается стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора». К секретарю комитета Мариенгофу подошел паренек в светло- синей поддевке:
-Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?
Под поддевкой на парне была белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно- но очень нарочно- падал на лоб. Этот завиток придавал молодому человеку схожесть с молоденьким и хорошеньким парикмахером из провинции, и только голубые глаза( не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее и завитка , и синей поддевочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.
-Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин. В Москве на Петровке в квартире одного инженера поселилось сразу несколько человек. Инженер боялся уплотнения и пустил молодых людей из страха за свою золоченную мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты, наверное, предков, развешанные по стенам в тяжелых рамах. В эту квартиру приходили многие, стал здесь бывать и Есенин. Было назначено время для встречи на сегодня , во время которого должен был выработаться молодыми людьми манифест о совместном понимании искусства.
Есенин, как всегда опоздал и пришел последним. Он вбежал запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая пот с лица.
-Я вместо Петровки по Дмитровке носился и дом с вашим номером разыскивал все.
Он при этом ослепительно и заразительно улыбался , показывая белые ровные зубы.- А на Дмитровке с таким номером- пустырь! Я бегаю вокруг пустыря и думаю, куда попал? Думал уже, что разыграли меня и нарочно все это подстроили! Без меня хотели выработать манифест!?
В комнате уже находились Шершеневич и Ивнев с Мариенгофом, который и затащил Есенина к себе на квартиру.
Позже Мариенгоф вспоминал про некую мнительность есенинскую, которую даже выделял, как болезненную. По его мнению поэт из «пальца высасывал своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые».
Вот , что еще рассказывает про Есенина Мариенгоф: «Мужика он в себе любил и нес гордо. Но при мнительности его чудилась ему барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения. Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.»
До поздней ночи молодые люди пили чай с сахарином, говорили об искусстве, об образе и его месте в поэзии, о возрождении большого словесного искусства. Есенин настаивал на своей квалификации образов. Он называл статические ,например, заставками, движущиеся, динамические- корабельными, ставя вторые несравнимо выше первых. Он говорил об орнаменте нашего алфавита, об образной символике в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем его , как телегу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и частушках…
Каждый день теперь после знакомства с Мариенгофом и другими часов около двух в издательство прибегал Есенин, садился напротив секретаря и клал на стол, заваленный рукописями, желтый сверточек с солеными огурцами. Из сверточка на стол бежали струйки рассола. На зубах хрустело зеленое огуречное мясо и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин тыкал пальцем по рукописям и начинал:
-Так , с бухты- барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику. Тебе, Мариенгоша, трудно будет в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга, кто этому поверит!? Вот , смотри ,Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, Толик, как я на Парнас восходил?
Весело, по-мальчишески, захохотав, Есенин продолжил, откинувшись на скрипящем стуле:
-Тут , брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев…к нему я , правда, первому из поэтов подошел- скосил он на меня , помню, лорнет, и не успел я еще стишка прочесть в двенадцать строчек, а уж он мне тоненьким таким голоском заливает: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах…»- и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тонюсеньким голосом. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!
Есенин улыбался, он откинулся еще больше на стуле, положив ногу на ногу, рассмотрел свой шнурованный американский ботинок( он уже успел расстаться с поддевкой, с вышитой рубашкой, как полотенце и голенищами в гармошку) и по-хорошему, чистосердечно( а не с деланной чистосердечностью, на которую был мастер) сказал:
-Знаешь, и сапог-то я в жизни никогда таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду в Ригу бочки катать. Жрать , мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки- за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся . К Городецкому с черного хода на кухню пришел: «Не надо ли чего покрасить?» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так –де и так» Явился барин. Зовет в комнаты- Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и кресла –то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин садится предлагает, Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так , стоя перед барином на кухне, стихи и читал.
Есенин помолчал , глаза из васильковых обернулись в злые, серые. Веки покраснели- будто подернутые по краю алой каймой.
-Ну , а потом таскали меня недели три по салонам- похабные частушки пето под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три- в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай… Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!.
Опять в синие и нормальные глаза его обернулись. Хрумкнул огурец на зубах, зеленая капелька рассола упала слезой на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезку, потеплевшим уже голосом добавил:
- Из всех петербуржцев только и люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого - даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала.
Стояли около «Метрополя» с Мариенгофом, яблоками насыщались мимо на извозчике с чемоданами едет художник знакомый,
-Куда , Дид?
-В Петербург.
Бросились друзья к нему через всю площадь во весь дух, на лету вскочили , догнав лошаденку. В Петербургу носились по издательствам, во «Всемирной литературе» Есенин познакомил Мариенгофа с Блоком.
-Как вам у нас в северной пальмире?
Блок всем понравился своей ненарочитостью и обыкновенностью. Он очень хорош был в этом советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями, над большими входящими и исходящими книгами. В этом было много чистоты и большая правда человеческая. На второй день их пребывания Петербург залился вдруг слезами. Мариенгофский пробор блестел, как крышка рояля, а Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Есенин был огорчен до последней степени. Мотались по магазинам, умоляли продать «без ордера» шляпу. В магазине десятом по счету один розовощекий немец сжалился над ними и предложил:
-Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.
Невероятно обрадованные, долго трясли благодарные друзья немцу пухлую руку. А через пять минут весь Невский, особенно молоденькие женщины, потешался над ними , улюлюкая и показывая пальцем. Милиционер даже один раз документы подошел, проверил.
К осени Есенин живет с другом в Бахрушинском доме. Пустил их к себе один поэт, известный только в те времена и то за то, что прославился беспримерным отсутствием покупателя на все свои книги, которые издавал на свои средства и пристраивал лишь, даря с собственным автографом. В те дни случился в Петербурге невероятный падеж лошадей от недоедания и болезней. Человек оказывался крепче лошади, лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Друзья жили на Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных их ошалевшими глазами, раза в три превышало число кварталов до необходимых им Красных ворот. Напротив Почтамта лежали две раздувшиеся туши. На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых глазницах.
Вошли в комнату, не отряхнув , сбросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял. Рыжеволосая красавица, влюбленная то ли в Есенина, то ли в его друга , принесла им маленькую электрическую грелку. Девушка еще очень любила стихи, это и выручило приятелей. Они садились за стихи, запирали на ключ комнату, ставили на стол грелку и начинали священнодействовать. Радовались тому , что писать можно без перчаток и чернила не мерзли в чернильницах. Часа в два ночи за грелкой заявлялся Арсений, он писал книгу «Воплощение» о Есенине, а в доме у него так же мерзли чернила и на калошах не таял снег. Арсений , смеясь говорил, что пальцы без грелки становились , как сосульки- так и норовят поломаться. Электрическими грелками было строго- настрого запрещено пользоваться в то время, друзья совершали преступление против революции, но сколько известно случаев и в 21 веке о запрете пользования электрическими обогревателями под страхом даже увольнения в различных ЗАО, ООО и прочих организациях. Все это рассказано для того, чтобы более внимательно были прочитаны есенинские произведения того времени- «Кобыльи корабли»- замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов», о солнце, «стынущем , как лужа, которую напрудил мерин»; о скачущей по полям стуже и о собаках, «сосущих голодным ртом край земли».
Из Орла приехала жена Есенина- Зинаида Райх, привезла с собой дочурку- показать отцу. Танюшке что-то около года. А из Пензы заявился друг закадычный Михаил Молабух.
Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и Есенин с Мариенгофом- шесть душ в четырех стенах.
А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, "живая была живулечка, не сходила с живого стулечка" -- с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того к Мариенгофу. Только отцовского "живого стульчика" ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость -- все попусту.
Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это "кознями Райх".
А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.
Тайна электрической грелки была раскрыта. Есенин несколько дней ходил подавленный. Часами обсуждали -- какие кары обрушит революционная законность на их головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал это преступление, было устроили пиршество. Знакомые пожимали им руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляли с неожиданным исходом и пили чай из самовара, вскипевшего на Николае угоднике: не было угля, не было лучины -- пришлось нащепать старую иконку, что смирехонько висела в уголке комнаты .. Один из всех, "Почем соль", отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке... Есенин в шутливом серьезе продолжил:
И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...
А зима свирепела с каждой неделей.
Спали с Есениным вдвоем на одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее своим дыханием и теплотой тела.
После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.
Ванну закрыли матрасом -- ложе; умывальник досками -- письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.
Тепло от колонки вдохновляло на лирику.
Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел :
Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.
Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь .
Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами "ванну обетованную". Вся квартира, с завистью глядя на их теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение их, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.
Друзья были неумолимы и твердокаменны.
Гуляют по Харькову - Есенин в меховой куртке, Мариенгоф в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.
В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого -- большого его приятеля.
В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.
Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.
А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:
Утомилась, долго бегая,
Моя ворохи пеленок.
Слышит, кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:
пить, пить -
Прислонивши локоток,
Видит, в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок .
У Повицкого же рассчитывали найти и в Харькове кровать и угол.
Спрашивали у всех встречных:
- Как пройти?
Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец.
- Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.
- Поди.
- Скажите, пожалуйста, товарищ...
Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:
- Сережа!
- А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф -- Повицкий.
Повицкий подхватил их под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.
Миновали уличку, скосили два-три переулка.
- Ну ты, Лев Осипович, ступай вперед и попроси. Обрадуются - кличь нас, а если не очень - повернем оглобли.
Не прошло и минуты, как навстречу выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц .
Повицкий был доволен:
- Что я говорил? А?
Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол.
Было похоже, что знают они каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.
Есть же ведь на свете теплые люди.
От Москвы до Харькова ехали суток восемь -- по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.
Девицы стали укладываться "почивать" в девятом часу, а гости и для приличия не противились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обула веки.
Как они уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не перевернувшись) в первом часу дня.
Все шесть девиц ходили на цыпочках.
В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.
Есенин лежал отвернувшись к стене..
Мариенгоф стал мохрявить его волосы.
- Чего роешься?
- Эх, Вятка , плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.
- Что ты?..
И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.
Любили они в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах - выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.
Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.
Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.
Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.
Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:
По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Полевое, степное "ку-гу",
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.
Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать .
Из Харькова друзья вернулись в Москву не надолго.
В середине лета "Почем соль" получил командировку на Кавказ .
- И мы с тобой.
- Собирай чемоданы.
Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.
Секретарем у "Почем соли" однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.
Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. "Почем соль" железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев - скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона "вне всякой очереди", у дежурного трясутся поджилки:
- Слушаюсь, с первым отходящим...
С таким секретарем совершается путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати - двадцати дней на Ростовском вокзале уже на пятые сутки.
Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.
Есенин и Мариенгоф читают в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала, лекция запрещается.
На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.
Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, "рокамболические" наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.
С "Почем солью" после такой статьи стало скверно.
Отдав распоряжение "отбыть с первым отходящим", он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе - умирать.
Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую "Мадам Бовари". Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.
В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.
Мы высунулись из окна.
По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.
Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из виду.
Есенин ходил сам не свой.
А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм - "Сорокоуст". Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.
В Дербенте проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.
Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в "Сорокоусте":
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
В Петровском Порту стоял целый состав малярийных больных. Пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.
В "Сорокоусте":
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!
На обратном пути в Пятигорске узнали о неладах в Москве: будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка, и "Стойло Пегаса", и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.
У Мариенгофа тропическая лихорадка - лежит пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном.
Глава третья
Есенин с неразлучным Мариенгофом как-то сидели на скамейке в Эрмитаже. Вдруг подходит Жорж Якулов:
-Вы что здесь? Хотите с Айседорой Дункан познакомлю?
-Где она!? Где?- Есенин даже вскочил со скамейки.
И, как ошалелый , схватив Якулова за рукав , начал носиться с ним по Эрмитажу из Зеркального в Зимний зал, из Зимнего в Летний. Ее нигде не было. Пришлось стоять и ловить на выходе, всматриваясь в лица. Публика валила валом с открытой сцены оперетты. Есенин отказывался верить в то , что Дункан ушла, был невероятно раздосадован и огорчен. В этом чувствовалось что-то роковое, в этой необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда в жизни не видел не то что в лицо , даже издалека на сцене. Этой женщине была уготована большая и печальная, может быть , даже роковая роль для поэта. Поэт , как мотылек летел на пламя сам того не осознавая, на красный экзотический огонь , языки пламени которого слегка уже начали дотрагиваться до него, облизывая и маня.
Месяцы спустя, Якулов все-таки свел их вместе, устроив вечеринку у себя в студии. В первом часу ночи появилась Дункан. Красный мягкими складками льющейся хитон, красные с отблесками меди и заходящего солнца волосы, большое чувственное тело, которое притягивало к себе, заставляло додумывать, а иногда и помогало в этом, ступающее легко, изящно и грациозно, будто еще на сцене. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца синего фаянса и остановила их на Есенине. Маленький , нежный рот ее улыбнулся ему. Айседора прилегла грациозно на диван, вытянув на нем ноги, поманила поэта к себе. Есенин устроился у ее ног. Она окунула руку в его кудри:
-Золотая колофа!
Было неожиданно, что она знающая не более десятка русских слов всего, выучила и это. Потом поцеловала его в губы. И вторично ее маленький и красный , как ранка от пули , рот приятно изломал русское слово:
-Анкел!
Поцеловала еще раз и уже почти без акцента выкрикнула:
-Черт!
Хотела еще что-то добавить, но было уже поздно. Есенин не любил долго оставаться в роли статиста, даже в присутствии любопытной публики, которая гудела по –разному: кто-то одобряюще, а кто-то , наоборот, - осуждая. Поэт страстно обхватил танцовщицу:
-Эх, где наша не пропадала! Шампанского давай!- И принялся целовать, на что та только успевала выкрикивать , когда рот ее освобождался от поцелуя:
-Черт!..черт!..
На другой день Есенин был уже у нее дома. Она танцевала для него и нескольких гостей танго «Апаш». Апашем была Айседора, а женщину олицетворял розовый шарф. Танец был прекрасен и страшен одновременно. Узкое и розовое тело женщины- шарфа извивалось в руках танцовщицы, превращаясь в живую плоть. Она ломала этой плоти хребет, сдавливала судорожными движениями пальцев горло. Беспощадно и трагически свисала в ее руках шелковая голова ткани. Дункан закончила танец и распластала на ковре судорожно вытянувшийся труп своей призрачной партнершы. И глаза разбегались от того, что было на что смотреть, тех мгновений, что лежала еще без чувств танцовщица рядом с бесчувственным розовым шарфом , хватило на то , чтобы рассмотреть ее изящную ногу с вытянутыми чувственными пальчиками. Нога, выставленная из накидки в последнем па , казалась непомерно длинной и божественно идеальной. Есенин был возбужден, глаза его горели. Он чувствовал себя ее повелителем и победителем. Она, как собака, целовала ему руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь горела и страсть дикая и даже ненависть к ней. Но все-таки он был только ее партнером, тем , похожим на кусок розовой материи, безвольный и трагический. Она вела, она танцевала этот танец жизни и смерти.
-За что я тебя так полюбила, золотая голова?
-Я не знаю, Изидорочка! Может быть , ты полюбила во мне Россию? Ее бескрайние просторы , снега, поля…- Есенин взъерошил себе кудри.- Вот тебе, Изидорочка, поле русское…
-А вот небо, - танцовщица принялась целовать глаза поэту, потом губы, приговаривая и сравнивая все время его с чем-то истинно русским из природы, он ей , смеясь, помогал в этом.
-А это что?
-Я плохо знаю русский язык.
-Лапочка ты моя!
-Что такое «лапочка»?
-Ну, как тебе объяснить, красавица ты моя! Вот ножки твои,- Есенин провел чувственными пальцами по ногам, - кожа нежная, бархатная, ручки ласковые,- Есенин, закончив целовать ноги , перешел к рукам.
-Я понятно объясняю?
-Нет, не понятно, продолжай…Только за что ты меня полюбил, ты ведь Америки не знаешь совсем?...
-Нежность ты моя, ротик твой чувствительный, завораживающий, хмельной , как вино, и отрезвляющий одновременно…Что мне Америка- ты для меня и Америка и вселенная вся!.. Ты другая просто, не понятная пока, манящая потому…
Есенин продолжал целовать танцовщицу. На ее теле не осталось уже и места, которое бы не покрыл поэт своими жгучими поцелуями. Время от времени он прерывался, подымал голову, наслаждаясь еще вкусом ее кожи:
-Немного понятнее стало, лапочка моя?
-Нет, не понятливая я что-то сегодня, продолжай,- танцовщица не в силах была уже смотреть в его васильковые глаза, словно небо перевернутое, и сама постоянно проваливалась в какие-то отрывочные воспоминания из прошлого, из детства, где все было также хорошо и беззаботно, правда все время на эти воспоминания налезали просторы необъятные, снега… и кудрявая золотая голова, улыбающаяся белозубым ртом. Она звала за собой , манила, кричала все время что-то.
Танцовщица пыталась ей ответить, докричаться в ответ, но не могла не успевала, хотя старалась и громко звала, кричала, кричала…
…Весной 1922 года Есенин и Дункан на одном из первых самолетов- юнкерсов, начавших пассажирские воздушные рейсы Москва- Кенигсберг, улетели за границу.
В последний час Есенин с другом своим неразлучным Мариенгофом обменялись прощальными стихотворениями.
-Я тебе, дурра- ягодка, стихотворение написал.- Есенин читает
Мариенгофу
Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.
Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час…
-И я тебе, Вяточка!
* * *
Какая тяжесть!
Тяжесть!
Тяжесть!
Как будто в головы
Разлука наливает медь
Тебе и мне.
О, эти головы,
О, черная и золотая.
В тот вечер ветреное небо
И над тобой,
И надо мной
Подобно ворону летало.
Надолго ли?
О, нет.
По мостовым, как дикие степные кони,
Проскачет рыжая вода.
Еще быстрей и легкокрылей
Бегут по кручам дни.
Лишь самый лучший всадник
Ни разу не ослабит повода.
Но все же страшно:
Всякое бывало,
Меняли друга на подругу,
Сжимали недруга в объятьях,
Случалось, что поэт
Из громкой стихотворной славы
Шил женщине сверкающее платье...
А вдруг —
По возвращеньи
В твоей руке моя захолодает
И оборвется встречный поцелуй!
Так обрывает на гитаре
Хмельной цыган струну.
Здесь все неведомо:
Такой народ,
Такая сторона.
Оба стихотворения оказались в какой-то мере пророческими.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Март 1915 года, Петроград, зал Дома армии и флота. Литературный вечер, в ту пору они устраивались часто. Война, начавшаяся в 1914, не только не мешала проведению этих вечеров, но скорее способствовала даже, и не только позволяя импресарио наживаться на этом, но и многочисленным общественным организациям и движениям приобщать людей к делу «обороны страны», объявляя , что доходы с вечера пойдут в пользу раненных, на подарки солдатам и прочее.
Есенин объявился на этом вечере неожиданно, но был очень скромен и тих. Только многие заметили, что этот почти еще мальчик скромно одетый в простенький пиджачок и серую рубашку с серым же галстуком, в хрупкости своей и в каком-то внутреннем свечении как-то пронизывает всех своей чистотой и искренностью .
Всем , общавшимся с ним приходил на ум один и тот же вопрос: «А осознает ли этот юноша каким огромным талантом наградила его природа?» Теперь то , понятно, что он уже тогда знал себе цену и искорки в глазах иногда выдавали его , завораживали окружающих, отодвигая скромность куда-то далеко. Скромность эта его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное , ненасытное желание победить всех своим талантом, покорить, смять. Его начальная манера во время чтения стихов перебирать руками концы пиджака была от желания до поры унять руки, которые потом летали над ним свободно и смело, помогая уловить ритм стиха, понять желание сокровенное автора. На этом вечере выяснилось, что Есенин знал наизусть Бальмонта, Брюсова, Городецкого, Гумилева , Ахматову. Много знал стихов молодых поэтов.
-Вы, Рюрик Ивнев? Сергей Есенин!- Есенин протянул руку молодому поэту и долго тряс ее с улыбкой.
-Вас , Сергей все так хорошо принимают, только вот Сологуб…
-Знаю,- Еснени встал в позу и довольно –таки похоже изобразил Сологуба:
-Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен такой легкий успех этого юноши!
Литература не знала еще такого стремительного и легкого взлета. Всеобщее признание обрушилось на Есенина в какие-то несколько недель. Молодежь готова была на руках его носить и даже «метры» были покорены и очарованы златокудрым парнем.
Есенин стал часто заходить к Ивневу, они сдружились. Ивнев решил организовать что-то вроде творческого вечера поэта и попросил хозяев большой квартиры на Литейном, которые занимали целый этаж, предоставить комнату для этого вечера. На что хозяева с удовольствием согласились и даже выделили для этого большую библиотеку. По почте были разосланы приглашения. В назначенный час публика стала съезжаться на Литейный. Есенин пришел пораньше , чтобы помочь встречать гостей. Когда все собрались, Есенин , взобравшись на огромную библиотечную лестницу , начал читать. Он читал так вдохновенно и искренне, что сидящие в библиотеке вели себя действительно соответствуя этому заведению. Люди боялись лишний раз скрипнуть стулом, кашлянуть. Только бы не помешать этому гениальному пареньку. Есенин читал все более распаляясь и заводясь, он уже не стеснялся , как раньше, помогал себе руками, что нисколько не мешало, наоборот , лучше давало схватывать ритм стиха , проникать в его смысл. Ивнев постарался и , чтобы не травмировать молодое дарование , намеренно не пригласил «завистников» известных, хотя и незаурядных поэтов Иванова и Адамовича. Но без курьеза все равно не обошлось. Выйдя на звонок встречать опоздавшего гостя , Ивнев услышал вдруг свист и смех. Потом , встретившись с Есениным глазами , все понял сразу : пока он встречал правнука Баратынского, поэта уговорили спеть частушки. Что он тут же гениально и удало – залихватски с присвистом исполнил. Поймав , правда, укоризненный взгляд Ивнева- хозяевам было обещано, что все будет в рамках правил-, Есенин поднял руки, признав свою ошибку:
-Все понял, больше не буду.
-Друзья , разрешите представить вам правнука великого поэта Баратынского,
Есенин тут же подскочил к нему, схватил за руку, долго вглядывался в глаза, потом обнял и расцеловал. Он мог себе это позволить. Потом наизусть прочел несколько стихов поэта.
Ивнев понял позже , что Есенину необходимо передохнуть , и объявил перерыв. Хозяйка тут же начала всех потчевать чаем и бубликами, сама , впрочем, как и обещала, не показываясь, дабы молодежи не мешать, а через помощников и помощниц передавая чашки и тарелки с пряниками и бубликами. Потом началась как бы вторая часть творческого вечера. Есенин еще много читал, ему задавали вопросы , он остроумно и по делу отвечал. Потом были другие вечера, например , в подвале «Лампа Аладдина», где звучали новые стихотворения поэта . Люди , приходившие его слушать, забывали обо всем , слушая буквально «раскрыв рот». Многие поэты забывали про свои стихи, услышав такое, даже совсем переставали писать. Ивнев же , напротив, под впечатлением от Есенинских стихов, посвятил ему свои, на что поэт чуть позже ответил стихотворением «Я одену тебя побирушкой». Стоит ли говорить после этого, что их дружба еще больше окрепла. Когда Есенину что-то нравилось, он высказывал свое одобрение не только словами:
-Ну ты, дружок, удивил! Вот за это хвалю!
Надо было видеть при этом его глаза, они первыми реагировали и начинали блестеть и лучиться, загорались только ему свойственными искорками, затем появлялась его улыбка, несущая радость и только потом уже слова.
-Рюрик, чертяка! Что ж ты этого сегодня публике –то не прочел!?
-Понимаешь, Сережа, не доработано еще, потом твое мнение хотел услышать,
-Мое мнение говоришь!? Так слушай- это лучшее из твоего , что я слышал!
Есенин от природы был балагур и выдумщик. Он мог серьезную беседу, когда ему это было нужно , перевести на рельсы юмора и наоборот. Самое интересное- качество беседы от этого не страдало, разговор принимал естественный и законченный характер, все вокруг оставались довольны его процессом и итогом. Есенин очень тонко чувствовал нить беседы. Знающие его недавно сразу не могли понять шутит он или говорит всерьез. Это тоже было его своеобразным ходом , проверкой человека , с которым ему предстояло беседу вести. Он любил тасовать карты разговора, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, хитро улыбаясь при этом. Ему как-то сказали про хитринку в его глазах. Он засмеялся. Зажмурился, потом открыл другие уже совсем повеселевшие и лучистые глаза:
-Вы находите, что глаза мои с хитринкой? Выходит и я человек хитрожопый!?
-Пойми, Сергей, хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался,- пробовал Ивнев утешить расстроившегося друга.- А , если хитрость сама вылезает наружу, в глазах сияет и как бы довольна, что ее замечают, какая же это хитрость?
-Эх, Рюрик- Рюрикович, все-то ты умеешь объяснить, все стараешься загладить. А я, может быть, еще сам не знаю какой я на самом деле ? Что у меня внутри?- Есенин задержал за руку проходящую мимо девушку, миловидную и куда-то спешащую.- Вот вы девушка, красавица, каких мало на этой грешной земле, скажите мне прямо в глаза , что вы обо мне думаете? Скажите, не смущайтесь…
Девушка покраснела , потом легонько высвободила руку и , глядя большущими глазами на поэта , сказала:
-Вы , задавака какой-то.- И побежала своей дорогой.
-Вот видишь,- Есенин опустил голову.
- Сергей, проснись! Тебя все обожают вокруг, если бы это с девушкой я себе позволил, то минимум получил бы по физиономии…А она так на тебя смотрела…Придет сейчас и все подружкам про тебя расскажет…
-Да, я про другое совсем. Ну ее, девушку эту. Я про хитрость тебе толкую. Как глаза могут быть хитрыми, если сам человек прост и открыт, не хитрован совсем?
-Ну, хорошо, согласен. Человек выразился неправильно, не точно- глаза просто кажутся хитрыми…
-Как ты можешь решать за другого , что он хотел сказать?
-Хочешь, я найду того , кто это сказал?
-Нет, зачем. Я вот смотрю на тебя. Ты ведь тоже хитришь со мной. Сначала так , потом отбой бьешь…
-Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость, как за высшую добродетель.
-Ты мне ответь, я хитрый , да?
-Нет, ты совсем не хитрый, хочешь только таковым показаться.
-- Значит, я все же хитрый, раз хочу быть хитрым.
-- Самый хитрый человек -- это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитер тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?
Есенин слушал Ивнева внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:
-- Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь.
Прошло две недели после февральской революции. Валил снег и было ветрено очень. На окраине города в распахнутых пальто шли четверо веселых гуляк, издали смахивающих на деревенских парней. Они шли вразвалочку, в каком-то особенно возбужденном состоянии и размахивали руками. Это были Николай Клюев, Петр Орешин , Сергей Клычков и Есенин.
-Теперь наше время пришло, довольно!- Клюев кому-то погрозил кулаком в снежную даль.- Нам теперь с дворянчиками не по пути , у нас своя жизнь теперь будет.
-Да, это точно сказано, долой дворян, да здравствует крестьянин! Ура!- Дурашливо вторил ему Клычков.
-Ура!- Гоготал Орешин. –Ур-ра!
Только Есенин хмурился, хотя и был навеселе вместе со всеми.
Позже Есенин в беседе с Ивневым расскажет об этом эпизоде. Клюев, видите ли, возомнил себя Пугачевым крестьянской поэзии, а Орешин с Клычковым под пьяную лавочку дурака валяли , да и поддакивали ему.
-Ну , а как тебе , что ты на всех афишах рядом с ними?
-Афиши, что афиши?.. Ты представь, Рюрик, это как будто тебя вдруг стало в несколько раз больше. Ты один, а афиш- сто, значит и тебя сто уже! Или триста! Вот в чем дело. А «маскарад» этот весь Клюевский – пустое дело. Ты не бойся, дружище,- Есенин посмотрел Ивневу в глаза, задержал взгляд свой и притянул его голову к своей. – Нас лбами сталкивают, а мы умнее становимся от этого- хитрее…
-Да испугался –то я только за тебя.
-Ишь, как дело поворачивается. Клюеву не по пути , видишь ли , с городскими поэтами, он их дворянчиками называет. Пугачевым себя мнит. Да , ладно, пустое это все…
-А у меня такая досада, отворачиваются от меня друзья и близкие, говорят , что на погибель свою иду за большевиками.
-Кто говорит?- Есенин взял Ивнева за плечи и отвел его в сторону.
-Гордин- редактор журнала «Вершина», другие тоже. Редактор мне прямо так и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, погибнете ведь!»
-Да плюнь ты на него. Тебе с ним детей крестить что ли!? Я сам бы пошел к ним , лекции почитал, да не умею. Стихи – пожалуйста, лекции – не могу…
-Да ты не пробовал ,Сереж…
-Нет, - Есенин ответил с неприкрытой досадой,- у меня все равно не получится ничего, людей насмешу да и только. А вот стихи читать перед народом буду.
Он громко рассмеялся, прижав кулак к носу, согнулся и смотрел снизу вверх на собеседника:
-Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне , что народ его не понимает. Сам- де я из народа, а народ меня не понимает. Ну, не хочет его народ понимать!- Есенин продолжал смеяться, ухахатывался просто.- Он свои стихи по церковным салоном затаскал , так они ладаном –то и пропахли у него насквозь!
-Ты так ему и сказал? А он?
-У, обозлился на меня со страшной силой. Знать , говорит , тебя после всего этого не хочу. Ну и я ему того же пожелал…Ба, совсем чуть не забыл! Подходит ко мне недавно Иванов, взгляд злобный, и картаво так начинает меня прощупывать: «Здравствуйте , Сергей, а вы знаете , что дружок ваш в большевики записался?» Я ему- это какой – такой дружок, у меня их много? «Это-то и плохо ,»- говорит, -«Не разборчив вы ,Есенин, в друзьях. Я про Ивнева вам толкую, батенька… Что же, смена знамен- вчера футурист, сегодня- коммунист. И рифма получается, правда плохая, но все же..» Язвит , бесится. А я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов! Упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери!» И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул ему: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все за чистую монету принял и отскочил от меня, как кот ошпаренный…
В 1918 году Есенин оказался в Москве, где и познакомился с Мариенгофом.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Квартира в Козицком переулке в доме , в котором на всю улицу только было отопление привлекла Есенина сразу. Во- первых , на улице стоял трескучий мороз, а отопление- вещь великая. Потом комнат было много и туда помещались все гости, которые после ночного бдения с чтением стихов и спорами о поэзии и безмерном при этом возлиянии, оставались ночевать. Есенин хотел поработать по-настоящему, засесть за что-то стоящее. Но от этой постоянной сутолоки и прибывающего постоянно народа, было не до этого совсем.
-Поэта бы Рукавишникова разместить, - Есенин растолкал спящего Ивнева, - А ну , пойдем ко мне, ляжешь на мою койку. А этот охломон пусть здесь дрыхнет.
Есенин скинул какого-то пьяного гостя со своей кровати:
-Ложись , Рюрикович, наслаждайся моей добротой и богом сна Морфеем! А утром ,ты разбуди меня только, мы с тобой на пару напишем что- нибудь грандиозное! Спи.
Утром Ивнев проводил проснувшихся гостей и принялся будить Есенина.
-Он только лег, не трогай ты его !- Гусев- Оренбургский тихонько пил себе чай.
-Да? Ну ладно, пусть еще поспит тогда.- Ивнев пошел от спящего Есенина.
-Куда? Стоять! Сейчас досматриваю последний сон, и мы с тобой садимся писать акростихи. Минуту…- Есенин засопел и перевернулся на другой бок.
-Садись, чай горячий , не остыл еще…А он пусть спит…
-Устроили балаган из этой пятикомнатной квартиры, проходной двор какой-то. Есенин ведь не работает ни черта, пьет только с первыми встречными. Он так загубит себя и талант свой гигантский…
-Кто это у нас здесь гигантский? И кого он загубить вздумал, а ?- Есенин стоял с таким видом , как будто минуту назад не он сладко посапывал в кровати. Сна не было ни в одном глазу.
-Сейчас рожу ополосну только…Чай не надо , найди, будь другом, может осталось , что от вчерашнего…
Есенин ушел, Гусев- Оренбургский поскреб по сусекам:
-Нет ничего, все вылакали за ночь. – И принялся собираться.
-Ты куда?
-В лабаз.
-Деньги –то хоть есть у тебя?- Ивневу было жаль поэта. но идти вместо него в мороз лютый не улыбалось.
-Есть, - поэт улыбнулся. – Сережа дал на продукты.
-Ты куда это , Гусенок лапчатый? – Есенин улыбался , как ясно солнышко. Показалось даже , что в комнате светлее стало.- И огручиков с капусткой захвати, мил друг! Давай , Рюрик, пиши. Ты- мне, я – тебе…
Через пять минут у Есенина было готово , но он не доволен был стихом , потом махнул рукой. Ивнев тоже справился к этому времени , они читали друг другу написанное.
Ивнев:
-Сурова жизнь- и все ж она
Елейно иногда нежна.
Рад навсегда уйти от зла
Гори, но не сгорай дотла.
Есть столько радостей на свете
Юнее будь душой , чем дети
Едва ли это не судьба,-
Сегодня мы с тобою вместе,
Еще день, два , но с новой вестью
Нам станет тесною изба.
Игра страстей любви и чести
Несет нам муки , может быть,-
Умей же все переносить.
-Молодца, Рюрикович! Ладно скроил! Мои послушай теперь…- Есенин встал в привычную позу:
-Радость, как плотвица быстрая
Юрко светит и в воде.
Руки могут церковь выстроить
И кувшинке и звезде.
Кайся- нивам и черемухам-
У живущих нет грехов.
Из удачи зыбы промаха
Воют только на коров.
Не зови себя разбойником,
Если ж чист, то падай в грязь
Верь- теленку из подойника
Улыбается карась…
-Сергей, это просто песня какая-то, как хорошо, как чисто все и прозрачно!- У Ивнева не находилось слов, чтобы выразить чувство , охватившее его во время и после прочтения. У него на глазах стояли слезы. У Есенина тоже:
-Люблю я свою деревню, съездить надо обязательно, помочь. Эх, ты бы знал , какая там вода- вот , где чистота и кристальность!
А вот еще послушай:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Ну, что тут скажешь? Они обнялись и расплакались оба на плече друг друга, за этим их и застал прибывший с мороза Гусев- Оренбургский. Даже в комнате от него валил пар , как от лошади загнанной. Есенин и его обнял:
-Что бы мы делали без тебя, спаситель душ ты наших!?- Он смотрел, как быстро раздевшись , поэт выкладывает покупки на стол:
-И селедочку захватил, умница ты ,Гусеныш ! Вот все говорят обо мне, что я пьяница, баламут , скандалист и евреев не люблю… Да не люблю, но не всех, конечно, есть разные люди и среди русских такая погань попадается! Наливай…А пьяным я за стихи никогда не садился- мысль куда-то в сторону, выкручивает- не то совсем. ясности нет, пробовал , каюсь, но теперь- шабаш , все , хватит! Наливай!
Все выпили, закусили.
-А , что хорошо же, прояснилось сразу в голове! Просветлело…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В 1920 году Есенин перебрался из писательской коммуны в Козицком переулке в дом рядом у театра Корша. На третьем этаже с Мариенгофом они занимали две комнаты. Вечером к ним на огонек зашел Ивнев.
-Проходи , чертяка! Где шлялся столько времени, почему пропал!?- Есенин был искренне рад другу.
-Я , Сережа , где только не был- рассказывать- дня и ночи не хватит, книгу приключенческую писать можно.
-Так пиши!- Мариенгоф поддерживал веселый настрой Есенина.
-Да будет время, займусь. Вы- то как ?
-А у нас свой магазин книжный! -Сверкнул глазами Есенин.- Давай, Мариенгош, что-нибудь вкусненького к столу сообрази. Ну, не обижайся ты, как девица красная, давай-давай!.. И издательство у нас свое теперь- вот, - Есенин посмотрел на уходящего Мариенгофа,- он всем заведует, я, брат , в этом деле ничегошеньки не понимаю!
-Да и не надо это тебе, не твое это.
-Да, боюсь, разбираться все же придется. – Глаза Есенина опять потухли как-то, - понимаешь , нутром своим крестьянским чую, что не то как –то , не по правилам, а докопаться до истины не могу…
Магазин был двух этажный, на следующий день они втроем поехали туда. На первом этаже несколько отделов поэзии: старой дореволюционной и современной, имажинисты представлены больше всего. В магазине несколько служащих, иногда и Мариенгоф с Есениным вставали к прилавкам, но редко. Посетителей было не очень много в этот день. На втором этаже была еще комната, обставленная . как салон: большой круглый стол, диван, мягкая мебель. Друзья называли ее «кабинетом дирекции».
Когда все расселись в креслах, Есенин вскочил и сказал:
-Рюрик, слушай новое мое стихотворение. «Песнь о хлебе»
Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.
Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.
На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.
А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.
Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть.
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть.
И из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.
Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.
И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.
Разумеется , читал после и Мариенгоф и Ивнев, потом снова Есенин. Любовь к поэзии у Есенина была взаимной и он это понимал. Он необычайно тонко чувствовал, когда стих идет от души, когда все внутри него настоящее, а не надуманное и просто четко зарифмованное. Есенин великий поэт был еще и великим художником, хотя рисовал плохо, но художником в высоком понятии этого слова, композитором, хотя играл только на гармошке. Он чувствовал музыкальную фальш стиха, и уделял музыкальности звучания строчек много времени, поэтому столько мелодики в его стихотворениях. Никакая техника , какой бы отточенной она не была, не спрячет неискреннего, не от души идущего.Поэтому он не просто читал стихи, но пел их, и вся поэзия его была песенной в самом высоком смысле этого слова.
…Надо пояснить тем, кто не знаком с эпохой 20-х годов. Все магазины были в то время государственными, и исключение было сделано только для двух писательских магазинов, в которых шла частная торговля. Государственное издательство еще не успело наладить массовое издание художественной литературы, а издательство имажинистов выпускало одну книгу за другой.
… Пальцы быстро бегающие по клавиатуре компьютера , вдруг начинают тяжелеть и спотыкаться на ровном месте. Ощущение грусти и нелепости истории, случившейся не только в отношениях Есенина и Пастернака, но Маяковского все с тем же Пастернаком- непонятное столкновение талантливейших, но совершенно разных поэтов. А если любишь и ценишь всех из участников этих стычек, то всегда больно за них, теряющих душевное равновесие. Кому, как ни им ,самим поэтам, не знать , что любое столкновение выбивает надолго из колеи, заставляет отвлекаться на распри и оскорбления , сказанные сгоряча, в порыве гнева. Но эта их мальчишеская горячность, с которой они бросаются друг на друга , абсурдность ситуации, где гении, казалось бы, должны пожать друг другу руки и мирно разойтись, а вот, поди ж ты, не получается…
Столкновение Есенина и Пастернака произошло в кафе поэтов «Домино» на Тверской улице.
Два столика находились далеко друг от друга, но по мере того, как опустошались бутылки с алкоголем, сменяющиеся на этих столиках регулярно, резкие взгляды , смешки , а то и громкие выкрики в адрес соседей доносились с разных сторон с пугающим постоянством.
Повод для ссоры был , как всегда пустяковым. Пастернаку не понравился наряд Есенина и его окружение, а Есенин прошелся по длинным -«обезьяньим» рукам и смуглому лицу поэта. Оба поэта были возбуждены, но держались корректно, по всей видимости , не желая «раздувать пожара», но пожар разгорался уже в независимости от их воли. «Собутыльники» по доброте душевной передавали «сводки» из «вражеского лагеря», при этом, как все телеграфисты и телефонисты, перевирая и переиначивая в сторону увеличения сказанное с той стороны.
-Боря, он тебя обезьяной назвал и арабским пони.
-Так это он пони и есть, что ж он в зеркало –то не посмотрит, господи!
-Сергун,- этот дылда – мулат, все твои ботинки новые разглядывает, завидует , наверное.
-Так спросите у него размер , я ему подарю их, мне не жалко, у меня еще есть. Хотя,- Сергей примерился взглядом на противоположный дальний стол.- У него лапища больше моей будет. Скажите ему: «Пусть молча завидует!»
Лицо Есенина при этом было вовсе не так беззаботно, как слова, фигура тоже как-то сжалась и собралась, будто готовясь к резкому прыжку. А глаза Пастернака уже начали метать молнии, хотя сам он был больше растерян, чем готов к противостоянию.
Есенин встал из-за стола и , дождавшись тишины, выкрикнул в направлении Пастернака и компании:
-Ваши стихи косноязычны, их никто не понимает. Народ вас не признает никогда!
Пастернак встал и с утрированной вежливостью, оттеняющей язвительность, ответил:
-Если бы вы были немного более образованы, то вы знали бы о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором вы , быть может , и не слышали… Ему тоже казалось, что он знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?
-Не волнуйтесь, пожалуйста, так за меня,- Есенин все еще сдерживал себя.- О Кукольнике я знаю не меньше , чем вы. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву знаем и любим очень… Семейство зонтичные, овощная культура… Его варят и в духовке запекают… С кислинкой такой, совсем , как вы…»
-Не ожидал , честное слово, что вы настолько глупы! Хотя , может быть , это воздействие вина и не ваша совсем вина.- Пастернак принял позу оскорбленного в своих чувствах человека.
- И рифмы –то у вас дрянненькие какие-то. Не рифмы, а жмых коровий!
Вокруг Есенина и Пастернака стала собираться публика. Одна из дам, видимо, не имеющая понятия о поэзии, предложила ссорящимся выйти на улицу и там продолжить состязание, но на нее так посмотрели, что она сразу же уткнулась в свою тарелочку и замолчала.
-Есенин вы и к жизни своей также , как сейчас к словам своим относитесь поверхностно и без должного интереса. Как Иван- Царевич скачете на своем сером волке и жар- птиц за хвосты хватаете. Стихи ваши, как сказки, как карточный пасьянс из слов.- Пастернак готов уже был к примирению, ему не нравилось такое внимание публики.
-Я не скрою, сказки люблю народные: и про серого волка и жар-птицу, ловлю иногда птицу счастья за хвост, так не вам же ,Пастернак, мне уподобляться. Вас ведь куры да гуси только и щиплют. Так вот Пастернаком и проживешь!
Пастернак , наконец, не выдержал и подскочил к столу есенинской компании, но не один, как всегда, а с поддержкой.
- Хорошо бы дать тебе в глаз , Есенин, но ведь не в прок пойдет. Да и ,как ты с «фонарем» стихи свои будешь на вечерах декламировать?
Есенин , не поворачиваясь к Пастернаку:
-Прискакал скакун арабский. Ты гривой –то не тряси, а то всю еду нам перхотью своей забросаешь… И опять, посмотрите вы на этого храбреца, он не один…Трус! Трухлявый поэтишка! Ты дегтярное мыло попробуй, помогает говорят.
Пастернак схватил Есенина за волосы, как женщина:
-Я твои хваленые кудри сейчас прорежу!
-А еще врал всем, что боксом занимался, баба плаксивая!- Есенин старался достать до Пастернака, но тот держал его на расстоянии своих длинных рук. Ни руки , ни ноги Есенина не доставали цели, как он не старался, но и Пастернак, как ни целился не мог попасть в лицо поэту. Больше всего и тому и другому доставалось от компании поддержки, причем, иногда по ошибке и от своих тоже.
На Есенине треснула рубашка, посыпались пуговицы с пиджака пастернаковского, только тогда силами дежуривших поэтов и угрозами вызвать милицию дерущихся угомонили, Они долго еще выкрикивали в адрес друг друга угрозы и оскорбления. Первым ушел Пастернак со своей компанией.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
…Сейчас многие вспоминают , а были ли у Есенина проходные стихи, стихи которые он мог бы и не писать? Конечно , были и они по мастерству уступали тем, рождающимся «на небесах», когда поэт, схватившись за невидимую ниточку, только успевает за кем-то записывать и за короткое, а , может быть, и не очень время без помарок и исправлений заканчивает гениальное стихотворение. И он мог бы не писать те , «механические», но на то было много разных причин. Ключи от тайны обаяния и успеха его поэзии находятся не в шкатулке формул, а в единстве дыхания поэта с его Музой, с дыханием народа.
Как-то Есенин предложил Ивневу:
-А давай и твою книгу стихов издадим!?
Свидетельство о публикации №115091003206