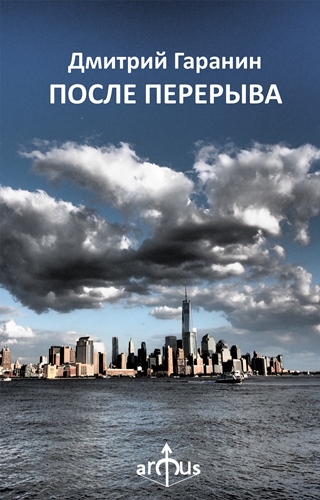Введение к книге стихов После Перерыва
За барьером финансовым
Схоронил от людей
Груз стихов безобразных
Откровенно разнузданных
Социально незрелых
Где сношения с музами
Повседневное дело
В интернете ни шагу
Сочинениям этим
То что стерпит бумага
То не выдержат сети
Шутка! Как Вы понимаете, прошёл ровно год со времени выпуска моей первой книги стихов Обратный Отсчёт (2013), и вот уже готова вторая большая книга, представляемая вниманию читателя. В то время как первая книга содержит стихи 1978-82 и 1988-89 годов, настоящая книга в основном писалась с осени 2012 по конец 2014 года. В её начале включены несколько более ранних стихотворений. Сочинение новых стихов было стимулировано работой по изданию первой книги, извлечённой из долгого ящика.
Оказалось, что, несмотря на почти 25-летний перерыв, поэтические ключи во мне не пересохли. Этому, видимо, способствовала работа физика, включающая написание статей, которых набралось больше ста двадцати. Кроме того, положение с работой стабилизировалось, я стал полным профессором с постоянной позицией в Нью-Йорке и почётным членом Американского Физического Общества. Многолетнее напряжение на временных работах, в основном, в Германии, спало. Так что стало возможным пописать ещё стихов.
Как известно, природа поэта женская и поэт перерабатывает в стихи впечатления жизни. Двигателем первой книги послужили впечатления застойного "развитого социализма" а затем “перестройки” (вернее, краха тоталитарной системы) в бывшем Советском Союзе. Личность автора в первой книге выходит на первый план нечасто. Настоящая книга имеет более личный характер, хотя в ней и находят отражение обострившиеся в этот период конфликты в мире, в частности, война России против Украины.
Жизнь а Америке подарила мне знакомство с новыми людьми, которые вдохновляли меня на творчество. В целом, жизнь здесь представляется мне более динамичной, чем в несколько снулой Германии. Тут больше неразрешённых проблем, больше конфликтов. Начало моего нового стихописательства совпало с движением против социального неравенства "Оккупай", встряхнувшим страну, но затем пошедшим на спад. Впечатления от этого, а также от научной работы и разных американских заморочек типа политкорректности, в основном перелились в стихи на английском, которые я собираюсь издать отдельной книгой.
В то время как Обратный Отсчёт писался почти в абсолютном вакууме, в текущем тысячелетии страх перед властями полностью испарился и я стал, наоборот, стремиться к наибольшей открытости, распространяя стихи в интернете и социальных сетях. На Фейсбуке я сделался виртуальным другом многих литераторов, что избавило меня от всяческой необходимости посылать мои опусы в журналы. Действительно, многие из этих людей являются членами редколлегий печатных изданий. Стихи, которые я публикую на Фейсбуке, они, в принципе, видят. Если им стихи понравятся, они меня пригласят к себе печататься или порекомендуют своим друзьям. А нет, я сам себя напечатаю, вот эту самую книжку и напечатаю! Хоть меня печататься пока никто не пригласил, за исключением публикации одного стихотворения в альманахе НашКрым (спасибо Геннадию Кацову) общение с литераторами дало мне неоценимый жизненный опыт и сильный творческий заряд. Некоторое количество стихов в этой книге посвящено как раз вопросам литературной жизни и моего незаметного места в ней:
Я неотличимый от стенки дух
Перед невидящими глазами
В стихе сизифовом смысл потух
Понимаете сами
Да и что тут поди понимать
Днём с огнём пелена невпросвет
Статусу нулевому под стать
Будет духовный след
Более того, кроме собственных двух книг, я также напечатал книги стихов Льва Халифа (Песня нищих, прикарманивших пустоту) и Бориса Херсонского (Запретный город) в собственном издательстве Arcus NY Publishing. Планируется издание книг других поэтов и создание интернет-портала издательства.
В отношении моего творческого метода или процесса скажу, что скорее иду за словом, чем за смыслом. Слова или целые строчки выскакивают откуда-то, цепляются друг за друга. Иногда, даже дописав до середины стихотворения, всё ещё не понимаю, о чём оно и куда его надо вести. Анализируя то, что имеется на данный момент, обычно нахожу смысл и соответствующе завершаю. Писать стихов ни о чём я пока не научился. Это – высший класс, восхищающий меня у сильных поэтов, многие из которых моложе меня. Примерно таким же был способ написания стихов в моей первой книге, но тогда моя поэтическая техника только развивалась и дело шло медленнее, я чаще застревал. После перерыва я стал писать гораздо быстрее и застреваю редко. В большинстве случаев написание стихотворения занимает не более получаса.
Я почти никогда не переделываю написанных стихов, вношу лишь маленькие поправки. Моя теория говорит, что стихотворение уже где-то существует (в подсознании?) и моя задача – найти его и вытащить на свет божий:
Я в подсознании пожал
Стихов огромный ворох
Таких, что хоть на пьедестал
За каждый из которых!
Нарвал охапку я стихов,
Что сочинит не каждый..
На пьедестал без лишних слов,
В какой стране – неважно!
Стихов пылающий букет,
Что зрит в неувяданье,
Я смело вытащил на свет,
Достал из подсознанья!
Этот в каком-то смысле живой организм нехорошо крутить так и сяк. В Обратном Отсчете есть небольшое количество стихов, где я застрял и дорабатывал с усилием на протяжении многих лет с перерывами. В этой книге таких стихов практически нет, всё писалось сходу.
В русскоязычной поэзии всё ещё доминирует силлабо-тоническая система. Многие поэты следуют этой системе буквально, подбирая слова под размер. Результат для моего уха звучит монотонно, разные стихотворения получаются похожими. С другой стороны, в стихах самых лучших поэтов можно найти массу отклонений от базовой силлабо-тоники: спондеи, пиррихии, и так далее. Всё это делает стихи индивидуальными и неповторимыми. Так происходит потому, что лучшие поэты идут за словом, а не за размером. Лично я никогда не выбираю размер заранее. Следуя за словом, я могу прыгать с одного размера на другой и даже смешивать силлабо-тонический стих с акцентным стихом:
Молочный свет, рассеянный в тумане
Тьма по краям светящейся дыры
Излучается состраданье
Ко всем летящим в тартарары
Позабывшим о притяженье
Под связей рвущихся лязг
Участникам коловращенья
Массу теряющих масс
Нет никогда навеки не услышат
Людской упрёк страдальчески-земной
Освобождённые как нувориши
За невесомой пеленой
От стрептококковых пожаров
Скрипучей ржавчины сердец
Их последних ударов
Пересекая конец
В начале нового мира
Написав некоторое количество верлибров, я осознал их коренное отличие от рифмованной поэзии. При написании верлибра поэт (по крайней мере лично я) идёт за смыслом, как в прозе, а не за словом, как в поэзии. В голове рождается чувство или мысль, которая выражается подходящими словами. А в поэзии наоборот – слово рождает мысль. Хотя, конечно, мне встречались верлибры, в которых я не находил никакой мысли, или идеи, или действия (в основном, в западной поэзии). Такие стихи под мою теорию не подходят.
Считается, что для поэта желательно иметь собственный поэтический голос и свой выработанный поэтический стиль. Конечно, то и другое способствуют узнаваемости поэта среди огромного количества собратьев и помогает занять своё место в литературе. На это же работает определённый круг тем. В отношении поэтов первого-второго рядов эти соображения в основном оправдываются и большинство имеет свою собственную комбинацию голос-стиль-тема.
Однако лично у меня есть определённое недоверие к чисто литературной ценности этого, оставляя в стороне несомненно важный вопрос о литературной идентификации. Поэт со своим неизменным поэтическим голосом как бы поёт одну и ту же песню во множестве вариаций, дудит в одну дуду. Настроение всё время или ироническое, или трагическое, или философское и т.д. В ту же сторону работает и стиль. Например, у Тютчева почти всё написано ямбом, везде философская подкладка. У Пушкина везде пушкинская лёгкость и прозрачность. У Бродского длинная пяти-шести-акцентная строка, несущая умудрённо-скептическое настроение. Самосужение в угоду голосу и стилю ведёт к тиражированию одних и тех же настроений и форм. Особенно если поэт рано созрел и не развивается. Со временем может накопиться огромное количество излишних стихов, которые некуда девать. Эта проблема частично решалась за счёт короткой жизни многих поэтов. Артюр Рэмбо написал около ста стихотворений и с ними вошёл в историю литературы. Джон Китс вообще успел написать около двадцати пяти произведений. Но что же делать теперь, когда продолжительность жизни сильно возросла? Делать перерывы на десятилетия, как я и многие другие? Профессиональные литераторы могут, конечно, надолго переходить на другие виды литературы или литературной деятельности, как Алексей Цветков. Но и это во многих случаях не решает проблему, и ненужных стихов получается слишком много.
Я пишу стихи в разных стилях и с различными настроениями, избегая лишь жалостливо-тоскливо-серьёзного. Это получается само собой, но такова и моя сознательная позиция. Пусть меня упрекнут в отсутствии голоса и стиля, но мне более важно не повторяться. При желании мои опусы можно разделить на группы, объединённые общими чертами. Если в каждой группе наберётся достаточное количество стихов, можно будет говорить о множественности голосов или стилей. А который из них мой настоящий – какая разница?
Как я писал в предисловии к Обратному Отсчёту, к стихосложению меня пробудил Мандельштам, а затем большое влияние оказали Верлен и Рэмбо, которых я читал по-французски. В моих стихах кое-где можно найти влияние Пушкина. Другие поэты заметного влияния не оказали, даже если они мне очень нравились, как, например, Пастернак и Бродский.
В последние годы я по-новому открыл для себя Тютчева, его философскую напряжённость и дуальный метод стихосложения (природа – человек, море – утёс). Я кое-где позаимствовал это у него и посвятил Тютчеву несколько стихов.
Наконец, следует отметить вклад двух друзей. Мой школьный друг Андрей Захаров, 12 замечательных стихотворений которого включены в Обратный Отсчёт, говаривал, что в жизни уже так много негативного, что не следует это приумножать своим искусством. Слова Андрея врезались в моё сознание, и я стараюсь следовать этому принципу всю жизнь, избегая жалостливо-тоскливое. Вот короткое стихотворение Андрея Захарова, 1979 года:
На столе молоко и сирень.
Поползла розоватая тень.
Голубая осталась лежать.
Паутинка сверкнула в углу.
В белых травах внизу – ни гу-гу.
Что ли нет никого в городу?
Оторвался сирени цветок,
И в щели, в звоне старых досок,
Разбудил горемыку-пчелу.
В период составления этой книги на меня произвели глубокое впечатление стихи Александра Локшина, написанные в 90-е годы в Москве и до сих пор по каким-то причинам не изданные. Сын гениального композитора Александра Лазаревича Локшина, сам он математик, защитивший докторскую диссертацию очень рано. В стихах Александра на меня огромное впечатление произвёл их лаконизм, отсутствие всякой избыточности, сопровождаемое музыкальностью и прозрачностью фактуры, а также балансом композиции. У меня и до этого не было охоты перегружать стихи излишним материалом, но сейчас я стремлюсь к этому сознательно. Только что удалось уговорить Александра Локшина разрешить публикацию его стихов в Arcus NY Publishing. Это будет наш следующий проект. Вот его самое короткое стихотворение из тех, что я знаю, примерно 2001 года:
Наша смерть не будет страшной,
Как рисунок карандашный,
Нас сотрет с лица Земли...
В заключение хочу выразить благодарность за понимание и постоянную поддержку моей жене Елене Кушнеровой.
Дмитрий Гаранин New York, 30 октября 2014
Свидетельство о публикации №114103108272