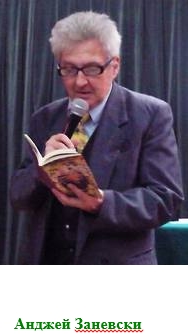Анджей Заневски. Речь по случаю вернисажа
по случаю
Вернисажа и Выставки живописи маслом и графики тушью Яна Михала Стухли
в музее Освальда Малюри в Обердиссене - Мюнхен
с 20.10.2013 по 17.11.2013
Анджей Заневски
Души одиноких деревьев
«В детстве
Бабушка рассказывала… сказки.
Всегда с моралью и счастливым концом…
О чудесном и прекрасном ... будущем…
Ребенок доверчиво затаив дыхание... слушал
Нарисовав ОДИНОЧЕСТВО
Ныне я уже знаю
Ей нельзя было... говорить правду!...
ОДИНОЧЕСТВО - Ян Михал Стухли
Мир живописи и графики, созданный Яном Михалом Стухли, прочно связан с его поэзией, однако, можно наблюдать и оценивать его независимо, поскольку это отдельное, оригинальное, автономное собрание работ талантливого художника. Живопись и поэзия всегда были близки друг другу, ведь они следуют из одной и той же потребности – из противостояния быстротечности, однако, они принадлежат к различным областям искусств и хотя мы может их сопоставлять и сравнивать, необходимо помнить, что литературу составляют слова и понятия, а живопись – композиция, цвета и линии. Это разделение несет также отчетливые последствия в реальности зрителя или читателя.
Живопись Яна Михала Стухли это искусство продуманной гармонии, синкретичное, лаконичное в выразительных средствах, высказывающееся с помощью цветных плоскостей, проникающие друг в друга и сталкивающиеся, совпадающие или же контрастирующие, вызывающие заранее запрограммированные эмоции, главным образом, с глубокой фактурой, показывающей движение кисти или мазка и работу рук художника, создающего свой собственный субъективный мир. Этот мир, преображающийся, соответствующий творческому плану, в который вписана также возможность импровизации и определенная доля непредсказуемости – случайности – становится также и нашим миром, если мы внимательно сумеем его прочесть. Создаются картины, полные экспрессии и скрытых смыслов, суггестивные, волнующие своей формой и содержанием. Причем заголовок, название, понятие, цитата, фраза, строка – порой символически предназначенные создателем к определенному холсту, следуют напрямую из желания обратить внимание зрителя на важную идею, ситуацию, творение – реальное или философское. Так зритель поддается воле художника, добровольно подвергается психологической процедуре подчинения, признавая, что благодаря этому день легче понять и принять, а композицию красок, фактур и линий – расшифровать и пережить.
Многие из этих работ – например, «Одинокое дерево при дороге в поле», «Одинокий дерево под порывами ветра», «Две датчанки, ждущие возвращения мужей с моря» имеют силу воздействия, приближенную к «Крику» Эдварда Мунка, а по силе внутреннего напряжения – приближаются к известным работам мирового экспрессионизма.
Благодаря использованию оригинальной цветовой гаммы, подчеркиванию выразительной фактуры, отражающей его работу – художник обнажает чистый процесс рождения картины и демонстрирует творческие возможности его живописной техники. Он перерабатывает чувства мысли в цвет, линии, текстуру, композицию, заставляя нас восхищаться, удивляться и помнить, поскольку образы этих произведений на долгое время остаются в нашем воображении.
Ян Михал Стухли жаждет, чтобы процесс творчества был замечен, чтобы зритель помнил о том, что имеет дело с переработанной действительностью, а именно с мощным видением, с миром глубокого синтеза, который сам по себе является символом этой мечты, или яви, окружающей нас.
На самом деле каждая из представленных здесь работ Яна Михала Стухли требует отдельной интерпретации не столько тематической, сколько технической, учитывающей, например, значение фактуры наносимых слоев краски или направления их расположения в картине, часто совпадающего с лучами солнца, светом луны, космическим сиянием, проступающим сквозь тучи, с порывами ветра – что касается, главным образом, пейзажей, а следовательно – знаменитых «одиноких деревьев», развалин, часовен, некоторых портретов, или... «Черной тени» – прекрасного шедевра, написанного акрилом. А также неоднократно написанных груш, темы, к которой Ян Михал Стухли часто возвращается, видя в них не только психоаналитические ассоциации со зрелостью женщин и красотой виолончели, но и восхищаясь изысканными цветами, линиями, формами. Появляются семьи груш, трагедии одиноких фруктов, своеобразие, вызванное различием цвета, и все эти мутации – разновидности – взгляды свидетельствуют об исключительной впечатлительности и богатом воображении художника.
Меня очаровал «Вечный мир» динамическая композиция красочных пластов лесов, полей, холмов, разрезанная холодной синевой реки, со смутным очертанием лодки. Это подлинная, вневременная выдающаяся живопись, а в то же время изящный анекдот, допускающий непринужденную игру воображения. У истоков этой и не только этой работы, можно найти влияние философии экзистенциализма – полифонической философии, позволяющей, однако, человеку стать «кузнецом своего счастья», а в этом трудном разговоре с Судьбой - то есть с Жизнью, неразлучным, тихим, но постоянно присутствующим партнером остается Смерть. Прошу прощения! Я слишком далеко ухожу от темы в сферы философии, метафизики и, кажется, поэзии...
Среди поэтов-художников и художников, склоняющихся над листком бумаги и пишущих заметки, выражающие их мысли, назову здесь Ханса Арпа, Пауля Клее, Василия Кандинского, а из ныне здравствующих – Гюнтера Грасса, чей феноменальный альбом-поэма «Калькутта» глубоко врезался мне в память. Среди польских мастеров упомяну Станислава Выспяньского, Циприана Камила Норвида и Станислава Пшибышевского.
А вот Уильям Блейк — великий художник-мистик – оставил след своей необычайной индивидуальностью как в истории мировой живописи, так и в истории мировой литературы.
В рисунках – а это работы, создающиеся постоянно, в свободные минуты – белое пространство наполняется необычными мотивами, часто музыкальные, близкие представлениям дадаистов и сюрреалистов.
Переработанные, превращающиеся скрипки, виолончели, может, и балалайки и гитары, элементы нотного стана, ноты – оживают и становятся птицами или птице-драконами с гротескными, тревожащими формами.
В инструментах возникают отверстия, а в них – пейзажи, обнаженная натура, часы или ... пустота.
Некоторые становятся похожими на груши – любимый мотив полотен – здесь же являющийся символом «выгоревшего пыла человека».
Туннели, дома, деревья, развалины – это как бы мини-эскизы к картинам, однако здесь они существуют самостоятельно, волнуют, восхищают, возбуждают любопытство.
Появляется грустное, хотя красивое лицо женщины и знаковые дома, похожие на шагаловские, а мне напоминающие город Сейны, расположенный рядом с границей с Литвой.
Меня заинтриговали «Беженцы» – темные, покрытые путаницей линий инструменты, передвигающиеся над превращающимся телом то ли виолончели, то ли скрипки...
Отовсюду выходят тонкие, длинные птичьи клювы...в «Безумном танце» же инструменты превращаются в страшилища...
В пост-шопеновском, исконно польском пейзаже дьявольских – мазовецких - ив мы находим вытянутую под их корнями форму виолончелей /? / и вытянутые силуэты сказочных птиц.
Есть также рисунки явно иронические...Название «Ключ бытия» покровительствует деформированной гитаре, держащей блюдо с тремя копчеными рыбинами - макрелью? а чуть выше запись – запись как из комиксов: БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Сразу же вспоминается известная картина Миколаса Констатаса Чюрлениса «Сотворение мира» с расположенной в центре польской надписью «Стань!»
Литовский художник и композитор, создатель знаменитых симфонических поэм, часто брался за музыкальные темы, считая, что формы и цвета могут стать отражением звуков.
Может быть у мастера миниатюры из Рачибож это преднамеренная аллюзия?
Каждый рисунок Яна Михала Стухли, конечно, имеет свои собственные истоки – генезис и анекдот, которые мог бы наверняка раскрыть сам автор. Нам остаются домыслы, интуиция, намеки...
Пожалуй, стоит при выдающихся работах, тщательно проработанных и многозначных остановиться дольше, пытаясь разгадать скрытые в них подтексты.
Содержание этих выразительных миниатюр следует из диалога между заключенными в них представлениями о предметах и деталями, из которых каждая выполняет определенную роль.
Наряду с уже упомянутыми ранее инструментами есть и другие – лютня, банджо, лира, контрабас, торбан.
На небольшом пространстве мы видим также оборотней, улиток, песочные часы, часы, гнезда африканских ткачей (птиц), разнообразные пейзажи, банка с циклоном В (подобную я нашел в 1964 году в руинах крематория в Биркенау).
Есть также одинокие деревья и часовни, всегда близкие всем одиноким людям.
Появляется там также тонкий набросок силуэта девушки- Анны Франтишки Стухли – вписанный в форму, приближенную к музыкальной – здесь эта фигура – универсальный лирический герой.
Указанные предметы – детали – существа – часто рождаются из хитросплетений линий, как среди извилин мозга или в зарослях джунглей, что позволяет сделать техника рисунка пером, в которой Ян Михал Стухли достиг очевидного мастерства.
Я думаю, что при создании этих необычных форм важную функцию выполняет импровизация – психологически обусловленная необходимость сделать быстрый выбор соответствующей формы или линии, а следовательно – вдохновенного высказывания – открытия блестящего видения.
Не является ли это порой графическим безумием, где формальное мастерство связывается с потребностью в крике или шепоте, предназначенных для посвященных?
В Старой пинакотеке в Мюнхене, в «Алтаре Паумгартнеров» - великом произведении Альбрехта Дюрера, по левой стороне, рядом с фигурой Святого Георгия – наверняка портрета Стефана Паумгартнера – я нашел небольшую фигуру дракона – чудовища, так напоминающего некоторые из гротескных мини-воплощений из действующих на воображение рисунков Яна Михала Стухли .
Конечно, рыцарь, сжимающий горло побежденного полуживого дракона, жаждет убедить зрителей в триумфе добра над злом, однако филигранные, очаровательные персонажи из анекдотов, создаваемых пером, представляются добрыми для зрителей и друг для друга.
И тем не менее, близость воображения обоих художников, разделенных цензурой в 510 лет – кажется бесспорной
Достаточно взглянуть на черты лица, посмотреть в глаза вымышленных существ - и прежде всего, вчувствоваться в атмосферу деталей, чтобы оценить сходство.
У Дюрера, правда, отсутствует музыкальный контекст – а инструментами – орудиями превосходства являются меч и крест.
У мастера из Рачибожа преобладают скрипки, виолончели, мандолины, которые в сочетании с плодами груши и сказочными птицами можно считать символами нашего интереса к жизни, красоте природы, урожаю – а следовательно, они не создают атмосферы опасности, хотя временами могут нас тревожить.
В хранилищах Старой Пинакотеки можно найти несколько подобных мест…
И так в «Земле лени» Питера Брейгеля Старшего мы находим птиц – правда, на тарелке, а также в виде уже выеденного яйца на утиных лапках – но созданных с аналогичным чувством юмора.
О связи с различными фантазиями Иеронима Босха здесь уже писать не стоит, поскольку они кажутся очевидными.
Я думаю, что Ян Михал Стухли в своих живописных и графических концепциях создает собственную индивидуальную школу современных – актуальных художественных идей, что напоминает нам об универсальных значениях – гармонии, красоты, ясности и прозрачности высказывания во всех областях искусства.
А в беседе со СМЕРТЬЮ, в написании строки: «ждет меня экзамен смерти», он неустанно трудится мыслью и рукой, стараясь, чтобы каждый день его жизни становился произведением искусства.
Я рад, что встретил такого выдающегося поэта и художника, поскольку с этой встречи каждое одинокое дерево и каждая птица, взмывающая в бесконечность стали мне ближе и помогают идти дальше.
/ Анджей Заневски /
Свидетельство о публикации №113071303920