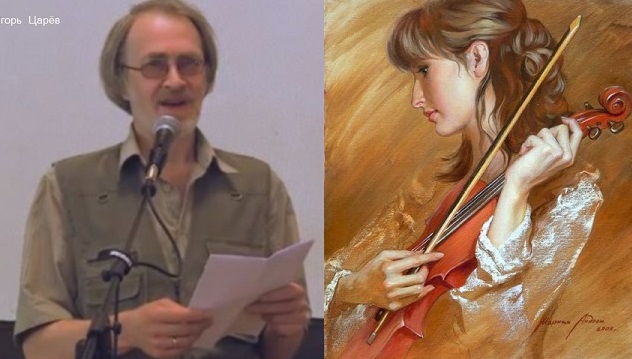Музыка, дарившая бессмертье Вечность И. Царева-17
http://www.youtube.com/watch?v=8ycQVGnnXrk - стихотворение "Город",
http://www.youtube.com/watch?v=bQCw5c1rfsE - "Тобол"
http://www.youtube.com/watch?v=IMS6YhQ-Rdk
- еще три стихотворения Игоря Царева
Музыка живет в нашем мире изначально, были времена, когда из всех искусств существовала только музыка, она слышалась в шуме прилива и отлива, в криках птиц и вое диких зверей, в шорохе дождя…
Человек сначала слышал музыку, и она проникала прямо в душу, не требуя особых навыков понимания, просто царила в этом мире.
Не потому ли и современный человек, а уж тем более поэт, внезапно слышит ее реальную или звучащую только в душе и сознании. Самобытная музыка всегда есть и в ткани стихотворения настоящего поэта.
Только музыкальность, неповторимая мелодия стиха позволяет нам отличать одного поэта от другого. Музыка – это та энергетика стиха, которая воздействует на наши души в первую очередь, а потом уже мы пытаемся понять и осмыслить текст стихотворения.
Неслучайно, это так завораживало в поэзии Блока и Бальмонта, и узнавший их тайну И.Северянин, пел свои стихи на особый манер, приводя в экстаз своих многочисленных слушателей. Но сам он прекрасно понимал некую искусственность и дополнительный бонус, который дает ему манера исполнения. Не потому ли, осознавая все происходящее, он восклицал:
Тусклые ваши сиятельства, во времена Северянина
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок и Бальмонт.
Когда мы слышим тихий голос и безэмоциональное практически чтение стихотворений А.Блока, то понимаем, почему И.Северянин так сказал: кому-то совсем не нужно прилагать таких усилий, чтобы добиться большего эффекта, сильнейшего воздействия.
Внешняя музыкальность – это прекрасно, это заводит толпу, но невозможно изменить музыку внутреннюю, которая творит из стихотворения поэзию.
Как она появляется в душе поэта и в стихотворении? Наверное из того многовекового опыта постижения музыки, который остается в генах, и передается по наследству.
Думаю, чтобы осмыслить роль музыки в жизни творца, надо обратиться к знаменитому стихотворению Б.Пастернака «Музыка»
Борис Пастернак
Музыка
Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.
Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.
И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Bнизу остался под ногами.
Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.
Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.
Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.
Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.
Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.
Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.
Никто не мог сказать точнее о силе воздействия музыки на все другие жанры и виды творчества. Ее суть, ее природу мог так описать только поэт, слышавший ее с детства – его мать была пианисткой, и что самое важное – это была живая музыка, царившая в доме. И сам он учился музыке и многое постиг, пока не понял, что пианиста из него не получится. Но ведь это не мешало тому, чтобы музыка царила всегда в его мире, и в поэзии в том числе
Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.
Наверное, страшно быть музыкантом, когда в мире уже есть Шопен и Чайковский, и самому не достигнуть их уровня мастерства. Но ведь это не значит, что нужно отказаться от музыки совсем, ее можно переплавить в какой-то иной жанр, вид творчества, и в поэзии Б.Пастернаку это прекрасно удалось.
А еще творец слышит музыку сфер, в которой сначала с трудом, а потом все яснее различает слова. И эти рифмы, эти ритмы владеют его душой. Наверное, самое интересное, понять, почувствовать музыку другого поэта, чтобы была понятна со временем его поэтика.
Вот потому я с особым трепетом открывала стихотворения Игоря Царева, в которых царила самая разная музыка, понимая, что там обязательно будет и безбрежное море Пастернаковских тем, таинственные ритмы Блоковских творений, напоминающих заговоры и заклинания, и нельзя забывать о мощных ритмах царившего в нашем мире Владимира Высоцкого. Это с ним мы росли и развивались. В жизни каждого поэта Высоцкий оставил свой неизгладимый след.
И все-таки для начала хотелось бы посмотреть на то, как живет музыка в реальном мире, что цепляет и волнует самого поэта там.
Если для Пастернака в первую очередь, это родной дом или консерваторский зал, мир камерный, закрытый,
Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески
то для Игоря Царева – это все-таки мир внешний, к которому в любых проявлениях поэт был очень внимателен, относился бережно и трепетно. И конечно, там царила музыка. И не только музыка сфер, но и реальная музыка.
У Игоря Царева с музыкой особенные отношения- в молодости он активно участвовал в движении КСП, говорят, был знаменит. И в одной из рецензий он вспоминает об этом:
Узнаю дух КСП :) На ночной сцене лесного слета, скажем Разгуляя, под парашютным куполом фонят колонки, и одинокая гитара роняет в темноту горячие аккорды и честные слова... интеллектуальная публика собиралась именно в лесах. А сейчас, насколько я знаю, по настоящему умные люди (из тех, кто мне знаком) вообще ни в леса, ни на концерты не ходят - слушать то особенно нечего :)), из известных мне мой
Игорь Царев 05.06.2003 14:18
Может быть поэтому так пронзительно звучит его стихотворение «Скрипачка», потрясшее, вероятно всех, кто знает этот текст, кто читал его, слышал в исполнении автора ( у нас есть такая возможность сегодня)
Скрипачка
Игорь Царев
Две чашки кофе, булка с джемом —
За целый вечер весь навар,
Но в состоянии блаженном
У входа на Цветной бульвар,
Повидлом губы перепачкав
И не смущенная ничуть,
Зеленоглазая скрипачка
Склонила голову к плечу.
Потертый гриф не от Гварнери,
Но так хозяйка хороша,
Что и в мосторговской фанере
Вдруг просыпается душа,
И огоньком ее прелюдий
Так освещается житье,
Что не толпа уже, а люди
Стоят и слушают её...
Хиппушка, рыжая пацанка,
Еще незрелая лоза,
Но эта гордая осанка,
Но эти чертики в глазах!
Куриный бог на тонкой нитке
У сердца отбивает такт
И музыка Альфреда Шнитке
Пугающе бездонна так...
Ситуация жизненная – обозначено место действия – Цветной бульвар. Четко рисуется картинка происходящего, это не старинная усадьба или зал консерватории, а обычная уличная сценка, чем-то очень похожая на сцену в вагоне, где встречаются бродяга, читающий Бродского, и поэт, вот так и здесь, каждый из нас припомнит сотни таких столкновений, может что-то и как-то о них написать. Но остается вот этот текст Игоря Царева, а не наша писанина, сразу возникает вопрос: почему?
Потому что он видит детали, которые ускользают от взора: повидло на губах, зеленый цвет глаз, дерзость – все это при подобном столкновении вряд ли заметно обычному человеку
Повидлом губы перепачкав
И не смущенная ничуть,
Зеленоглазая скрипачка
Склонила голову к плечу.
Все видели, и только один разглядел, кстати, это взгляд даже не поэта, а художника, который готов написать портрет – не в этом ли тайна, если в поэте нет задатков художника, особого видения мира, то он ничего такого и не напишет.
Чтобы душа проснулась в «мосторговской фанере», для этого и музыкант должен быть от бога, и тот, кто слушает его тоже Моцартом по меньшей мере, кстати сразу вспоминается сценка, где Моцарт с восторгом приводит к Сальери послушать бродячего скрипача, приводя того в ярость.
Вне всякого сомнения, Игорь Царев и в жизни оставался Моцартом, особенно если это касалось других талантливых людей, именно Моцарт в вагоне электрички взирает на бродягу, читающего наизусть Бродского, Моцарт смотрит и слушает дерзкую юную скрипачку
И огоньком ее прелюдий
Так освещается житье,
Что не толпа уже, а люди
Стоят и слушают её...
Конечно, и сама скрипачка хороша, кто с этим спорит, но ведь это надо услышать и почувствовать, и оценить, иначе все напрасно для музыканта, для творца. И в стихотворении важен не сам портрет, не это торжество юности и музыки, а то, что на этот раз оказался гениальный слушатель и ценитель искусства. Немного запоздало возник вопрос, а что же исполняла скрипачка - так сумел поэт отвлечь нас от главного, и в финале он нам открывает и эту тайну, потому что, не зная этого, мы все же не можем до конца понять и почувствовать все происходящее:
Куриный бог на тонкой нитке
У сердца отбивает такт
И музыка Альфреда Шнитке
Пугающе бездонна так...
И вот к финалу стихотворения пространство заполняется музыкой А.Шнитке, что тоже само по себе неожиданно, обычно уличные музыканты выбирают более простые и понятные народу мелодии. Но в том-то и секрет, что эта девушка, поразившая воображение поэта, не идет легким путем даже в выборе репертуара – музыка «пугающе бездонна».
Только при встрече двух Моцартов, двух гениев, может возникнуть подобное стихотворение и звучать такая музыка. Но это мы чувствуем при глубоком погружении в текст. А если просто взглянуть на него, то перед нами рядовая сцена на Цветном бульваре, с какой-то дивной тайной в контексте сюжета.
А вот свидетельство И.Царева, как было все в реальности:
Кстати, писал с реальной картинки. Недавно наблюдал. Подземный переход. Скрипачка. Рядом семейная пара. Не москвичи. Жена дергает мужа за рукав: «Коль, а Коль, у нас же поезд уходит!». А Коля застыл, как соляной столб. Чемоданы в огромных кулаках. Рот приоткрыт. И слезы в глазах. Будто никогда ничего не слышал кроме «дыц-дыц-дыц» по телевизору...
Игорь Царев 03.02.2011
А еще вспомнилось: какой-то знаменитый американский скрипач на чьи концерты давятся, хотя билеты стоят под тыщу долларов, решил отойти от театра и сыграть на своем Страдивари у метро. За час игры заработал доллар с мелочью. И делает вывод, мол публика больше на бренд идет, а плохую игру от хорошей отличить не может.
Но это у них. А у нас, вишь, все по-другому совсем :))
Игорь Царев 03.02.2011
Я уже говорила о музыке Шнитке, которую редко выбирают для исполнения уличные музыканты. Вот и один из рецензентов мне вторит:
- От себя добавлю про главную нелепицу: играя на улице Шнитке, на две чашки кофе не заработаешь.
На что Игорь отвечает нам обоим сразу:
:)Мало вы знаете Шнитке. Это хоть и незаслуженно полузабытый гений, но писал и музыку к фильмам, и вполне уличные вещи. Один "Чарльстон" чего стоит. Жизнь вообще богаче фантазий - текст написан с натуры. И игрался именно Шнитке.
Игорь Царев 04.02.2011 13:38
В том, что жизнь богаче фантазий, никаких сомнений нет, иначе не появилось бы и другое стихотворение Игоря Царева о музыке реальной, живущей вовсе не в концертных залах. Но ведь не только там она существует, а в нашем мире всегда есть место музыке, и никто не знает, где столкнется с настоящим чудом.
Ресторанная певица
В Абакане на вокзале подавали чай, да пиццу,
А в довесок навязали ресторанную певицу...
Пассажир косится в ценник, понимая, что не даром
На забытой Богом сцене спорят скрипка и гитара.
Как простуженная птица, поднимая зябко плечи,
Ресторанная певица хриплый голос рюмкой лечит.
На перроне минус сорок, как в бутыли самогона,
И уже скрипит рессора уходящего вагона.
За окном снега по пояс. За щекою тает пицца.
Мчится к югу скорый поезд, почему же нам не спится?
Нарушая морок сонный, пополам с ночным циклоном,
Эхо грешного шансона бьется в темное стекло нам.
Этот миг не повторится: в дымке легкого шифона
Безымянная певица возле стойки микрофона
Обжигает странной болью, хриплой нотой, жаром горна,
Незадавшейся любовью, песней, рвущейся из горла
http://www.poezia.ru/article.php?sid=69735
И здесь на первый взгляд все наивно и нелепо, люди не готовы воспринимать искусство, они не верят в то, что тут может быть что-то стоящее. И даже наш герой видит сначала нечто жалкое и странное:
Как простуженная птица, поднимая зябко плечи,
Ресторанная певица хриплый голос рюмкой лечит.
Но во всем этом есть что-то Блоковское, это тогда слагались легенды, о том, как поэт общался с публичными женщинами, и в его стихотворении о таком доме звучит:
Разве дом этот дом в самом деле,
Разве так повелось меж людьми
(Униженье)
Остальные собратья по перу относились к изнанке жизни проще и скорее считали его странным, М.Цветаева отметила эту его странность «Думали человек, и умереть заставили», она его называет мертвым ангелом, вот что-то подобное повторяется и здесь, и пассажиры и певица живут в реальном мире, а поэт?
За окном снега по пояс. За щекою тает пицца.
Мчится к югу скорый поезд, почему же нам не спится?
Нарушая морок сонный, пополам с ночным циклоном,
Эхо грешного шансона бьется в темное стекло нам.
При всей своей нелепости и неуместности, на первый взгляд, встреча оказалась очень запоминающейся, потому не спится, потому не могут забыть песню, хотя они уже очень далеко от той остановки. В финальной строфе стихотворения перед нами уже Эдит Пиаф, (кстати, многие в рецензиях именно о ней и вспоминали), так потрясшая души случайных слушателей
Этот миг не повторится: в дымке легкого шифона
Безымянная певица возле стойки микрофона
Обжигает странной болью, хриплой нотой, жаром горна,
Незадавшейся любовью, песней, рвущейся из горла
И опять же, как в «Скрипачке» певицу слушали сотни и тысячи человек в Абакане, но нашелся только один из тех, кто смог ее увековечить, понять, услышать, почувствовать. А самое главное, это стихотворение должно вдохновить таких певиц, на то, что и у них тоже есть шанс остаться надолго в таком шедевре, а ради этого стоит жить и петь.
Бродяга, ресторанная певица, скрипачка - сколько их встретилось на пути поэта, и потрясли и его и нас всех до глубины души. Может быть, эти строки заставят и других повнимательнее смотреть на тех, людей, которых мы случайно( а ничего случайного не бывает в жизни), встречаем на пути.
Девушка легкого поведения, однажды столкнувшись с А.Блоком на Невском , не помнившая ,вероятно никого из своих клиентов, навсегда запомнила его, потому что, увидев, как она замерзла, он отвел ее в ту самую комнату, заплатил за ночь, чтобы она смогла отдохнуть и согреться, и ушел. Часто ли такое случается? Крайне редко, и потом она расспрашивала К. Чуковского, с которым встретила поэта позднее, кто он такой и рассказала ему эту историю. Над ней в своих воспоминаниях потешается К,Бальмонт, ему не очень понятно, зачем все это было нужно А.Блоку, почему он ушел?. А вот перечитывая тексты Игоря Царева, я лично лучше начала понимать и А.Блока, потому что « так повелось меж ЛЮДЬМИ» . И любой человек заслуживает и сострадания ( как в случае с А.Блоком) и по-настоящему заинтересованного внимания.
Но от уличных сценок переходим к музыке, которая звучит на Колыме, к той трагедии, которая там свершалась постоянно в лагерях для политзаключенных, и к истории, которая потрясла воображение поэта.
Колыма
Игорь Царев
…И не птица, а любит парить по утрам,
Поддаваясь для вида крамольным ветрам,
С горьким именем, въевшимся крепче клейма,
Через годы и судьбы течет Колыма.
И служивый хозяин тугих портупей,
И упрямый репей из Ногайских степей
Навсегда принимали ее непокой,
Рассыпаясь по берегу костной мукой.
Но сегодня чужая беда ни при чем,
Я приехал сюда со своим палачом,
Ощутить неподъемную тяжесть сумы
Под надежным конвоем самой Колымы,
И вдохнуть леденящий колымский парок,
И по капле безумный ее говорок
Принимать, как настойку на ста языках
Из последних молитв и проклятий зека...
В этом яростном космосе языковом
Страшно даже подумать: «А я за кого?»
Можно только смотреть, как течет Колыма
И, трезвея, сходить вместе с нею с ума.
http://stihi.ru/2011/04/13/9651
Объездивший весь мир, поэт, с детства видел не менее суровые края, чем Колыма, но с той лишь разницей, что на Дальнем Востоке нет такого количества лагерей, а значит и не сосредоточилось такой страшной людской беды, витавшей даже в воздухе. Невинно осужденные, погибавшие здесь от страшных условий существования, голода и холода, не могли не отложить отпечаток в этом суровом мире. Если даже одна неуспокоенная душа приносит нам столько тревог и волнений, то, что же должно твориться здесь.
И вдохнуть леденящий колымский парок,
И по капле безумный ее говорок
Принимать, как настойку на ста языках
Из последних молитв и проклятий зека...
Страдания, последние молитвы людей, погибающих в неволе, от насильственной смерти, их здесь столько, что «всех крестов не сочтешь, не увидишь» – может ли в мире быть что-то страшнее и трагичнее? Чтобы показать весь ужас происходящего на Колыме, поэт напоминает нам только одну судьбу музыканта, в другом варианте стихотворение так и называется «Последняя молитва»
Смерть музыканта
Колыма - и конец, и начало,
Всех крестов не сочтешь, не увидишь.
Столько всякого тут прозвучало
И на русском, тебе, и на идиш...
Тени призрачны, полупрозрачны,
Силуэты неявны и зыбки,
Под чахоточный кашель барачный
Хмурый ветер играет на скрипке
И конвойным ознобом по коже
Пробирает до дрожи, до боли...
В эту ночь помолиться бы, Боже,
Да молитвы не помнятся боле,
Хоть глаза закрывай – бесполезно!
Пляшут в памяти желтые вспышки…
Или это сквозь морок болезный
Злой прожектор мерцает на вышке?
А во рту третьи сутки ни крошки...
Заполярной метели бельканто...
Но синкопы шагов за окошком
Не пугают уже музыканта:
Смертный пульс камертоном ударил,
Громыхнул барабаном нагана,
И буржуйка в органном угаре
Заиграла концерт Иоганна,
И заухали ангелы в трубы,
И врата в небеса отворили...
А его помертвевшие губы
Шевельнулись вдруг: Аве Мария!
http://stihi.ru/2011/04/13/9651
Атмосфера совершенно жуткая, кажется уже столько было рассказано и показано, но вот мы снова переносимся туда, где тоже звучит скрипка, как в первом стихотворение, только и время, и настроение у поэта совсем другое:
Тени призрачны, полупрозрачны,
Силуэты неявны и зыбки,
Под чахоточный кашель барачный
Хмурый ветер играет на скрипке.
Даже на миг заглянуть в эти места на день, на час жутко, а здесь надо было выживать годами. Вероятно, многих могла как-то утешить молитва, только как молиться в такой обстановке, если для этого требуется уединение и покой, чего нет, и не может быть в лагере.
И конвойным ознобом по коже
Пробирает до дрожи, до боли...
В эту ночь помолиться бы, Боже,
Да молитвы не помнятся боле,
И в такой атмосфере, в этом кошмаре жили среди прочих и люди творческие, но если поэтам все-таки не так проблематично было сочинять стихи, хотя чаще всего их было некуда записывать, то каково музыкантам. Они не то, что не могли каждое утро упражняться на инструменте, но просто слышать музыку. А что значит для пианиста не видеть инструмента?
История о том, как упражнялись на нарисованной клавиатуре, без надежды когда-то исполнить музыкальное произведение, это еще страшнее всех пыток холодом, голодом, неволей.
А во рту третьи сутки ни крошки...
Заполярной метели бельканто...
Но синкопы шагов за окошком
Не пугают уже музыканта:
Смертный пульс камертоном ударил,
Громыхнул барабаном нагана,
И буржуйка в органном угаре
Заиграла концерт Иоганна,
Иоганн Себастьян Бах звучащий как последняя молитва над Колымой – это и пугающая бездна, и дивная высота, все здесь в одном порыве. Остается дивиться только тому, что и в таких диких условиях ( а условия всегда были не слишком комфортны у героев Игоря Царева), музыка выживала и царила. Та первозданная и вечная, она все время витает очень высоко в небесах. Для нее нет подходящего места, время страшное, но она живет скорее вопреки всему, как в первобытном мире, когда еще неотделима от самой природы…
И заухали ангелы в трубы,
И врата в небеса отворили...
А его помертвевшие губы
Шевельнулись вдруг: Аве Мария!
Вот что говорит сам поэт в комментарии в «Последней молитве» и сама история, которая легла в основу этого стихотворения
В Магадане мне рассказывали о Маглаге и легендарном Эдди Рознере, который там сидел и играл в лагерном оркестре. А еще мне рассказывали об аккомпаниаторе Ойстраха (фамилия Топилин, специально сейчас по блокноту проверил). Он вроде даже у Солженицина где-то упоминается. Так вот, Топилину (он под Салихардом сидел) более пяти лет не давали играть, но он на доске нарисовал клавиатуру и тренировался. А когда его все же допустили к пианино, как мне рассказали, он своими изуродованными пальцами сыграл так виртуозно, что зал зарыдал... И мне подумалось - а скольким замечательным музыкантам, попавшим в лагеря, вообще не довелось больше сыграть.... Так и родился стих
Игорь Царев 18.04.2011 22:05
Есть другой вариант этого стихотворения, более жесткий и беспощадный, где яснее прорисовываются все внешние лагерные атрибуты, там и ссудные трубы каркают в финале, словно вороны, и молитва, как внезапное примирение с реальностью. И немой вопрос небесам, не героя, а автора «Что ж вы божьи сыны натворили!», и все происходящее, скорее похоже на распятие еще одного вечного мученика.
ПОСЛЕДНЯЯ МОЛИТВА Игорь Царев
Тени призрачны, полупрозрачны.
Силуэты неявны и зыбки.
Стылый вечер за стенкой барачной
Концертино играет на скрипке.
Фальшь морозом гуляет по коже,
Пробирает до дрожи и боли.
Он хотел помолиться бы, Боже,
Да молитвы не помнятся боле.
Хоть глаза закрывай – бесполезно!
Пляшут в памяти мутные вспышки.
Или это сквозь морок болезни
Злой прожектор мерцает на вышке?
А во рту третьи сутки ни крошки,
Заполярной метели бельканто,
Но синкопы шагов за окошком
Не пугают уже музыканта.
Смертный пульс камертоном ударил,
Как боек по патрону нагана,
И буржуйка в органном угаре
Завершает концерт Иогана.
И прокаркали судные трубы:
Что ж вы божьи сыны натворили!
А его помертвевшие губы
Прошептали лишь: «Аве Мария…»
Вот на этой трагической ноте обрывается музыка на этот раз, но она будет звучать снова и снова в других стихотворениях, потому что музыка вечна. Она царила до нашего появления в этом мире, она останется и после нашего ухода.
Моцарт уходит рано, слишком рано, но в мире остается его музыка, в мире остается поэзия, щедро подаренная нам Игорем Царевым.
Свидетельство о публикации №113052403449