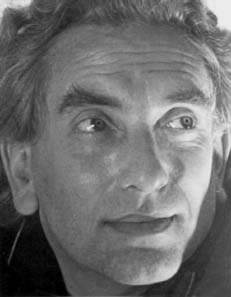А-р Воловик
(1931- 2003)
Жене и Музе
(Рина Левинзон)
1949г.
"Мне повезло однажды, слава Богу!
Я выстрадал или пришла пора –
Я сделал точный выбор на дорогу
И выиграл в любовь.
Такая есть игра…
Молю, Господь, моей жене прелестной,
Чей нежный дар небесного верней,
Дай доли и удачи. Нам ли вместе,
А если по отдельности, то ей.
А если сердце биться перестанет,
Что тяжба душ, что перевес в борьбе!?..
Дай счастья ей, когда меня не станет.
Пока я здесь, я помогу Тебе! –"
ИЗ ИНТЕРНЕТА
http://mishpoha.org/nomer14/a4.php
ЖУРНАЛ "МИШПОХА"* №14 2004год
*семья(иврит)
НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ РИНЫ ЛЕВИНЗОН
НО Я ЖИВУ. Я – ВЕЧЕН!
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВОЛОВИКА
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло…
Осип Мандельштам
Когда умирает поэт, пронзительнее вглядываешься в его стихи и со щемящей остротой ощущаешь биенье его обнаженного сердца, обращенного к тебе - живому и еще, с Божьей помощью, живущему. Да, как и все смертные, поэты, увы, в определенный срок уходят из жизни. Но в отличие от прочих смертных, душа поэта, как мне кажется, не улетает в небеса, а запечатленная в слове, в его стихах, остается с нами навсегда. В этом - горькое, выстраданное, но и счастливое преимущество поэтов перед остальными людьми. И хотя душа стихотворца всегда устремлена в объятия собеседника, слушателя, читателя, пишет поэт все-таки, прежде всего о себе и для себя.
Как говорил Пушкин: «В других землях пишут или для толпы, или для малого числа… должно писать для самого себя…».
Вот и в стихах ушедшего из жизни пять лет назад Александра Воловика предстает перед нами душевная и духовная исповедь большого поэта, который однажды сказал о себе с предельной, я бы сказал, интимной доверительностью (а по-другому настоящий поэт и не может):
Я – из довоенного теста,
Из тех незабвенных расей…
И плачу над глупостью текста,
А, может, над жизнью своей.
В другой раз – в стихотворении – «Стоило» - Воловик, поддавшись минутному творческому сомнению, мучительно размышлял:
Стоило ли распахивать
Тяжкой земли пласты?
Стоило ли распахивать
Руки – когда пусты?
Сколько себя ни обхватывай,
Этим объятьям не греть.
Стоило ли после Ахматовой,
Рядом с великими – петь?
.....
И не совсем уверенно заключал:
… Стоило? Может, не стоило…
Стоило, говорят.
И он еще спрашивал! Безусловно, стоило. В этом лишний раз убеждает вечер, посвященный памяти замечательного поэта и человека, вечер, который уже в пятый раз проводит вдова поэта и сама замечательная поэтесса Рина Левинзон. Вечер, прошедший недавно в Иерусалимском общинном доме, как всегда, собрал поклонников творчества Рины и Александра, их друзей и просто любителей поэзии.
.....
На вечере звучали стихи из последней, увы, предсмертной книги Александра Воловика, названной просто и конкретно – «200 стихотворений». Стихи эти и есть лучшее свидетельство того, что распахнутые руки поэта были отнюдь не пусты, и объятия его грели, греют и еще долго будут согревать многие поколения читателей.
Много лет назад поэт сказал о себе: Пророчествам не подлежу,/ Суду мне подобных не внемлю./Я просто мой путь прохожу / В обетованную землю.
Этот путь, физически начатый Воловиком почти тридцать лет назад, а метафизически, естественно, - намного раньше, он прошел достойно, без шума и суеты, без ложного пафоса и фальшивых сантиментов. Таков же его подход и к поэтическому делу:
Это ремесло сурово,
И возвысит нас всегда
Не возвышенное слово,
А простое – из гнезда.
Потому-то к поднебесью
На единственном крыле
Нас вздымает только песня,
Что сложили на земле.
Да, Александр Воловик – поэт земной, природный, естественный, а потому – возвышенный и вечный. Помните, у Мандельштама: «Не многие для вечности живут…»? Так вот, Воловик один из этих немногих. Есть у него в книге «Судьба и Воля» небольшое, может быть, чуть ироничное стихотворение, которое заканчивается так: «Кому земля принадлежит? Тому, кто в ней не зря лежит». Не о себе, конечно, говорил поэт. Но сегодня, когда, к невыносимой горечи нашей, он сам уже лежит в земле, мы понимаем, что он был прав, когда утверждал, что тому «принадлежит земля», кто с ней прожил не зря.
Вообще, Воловик часто обращался к этой вечной и непостижимой теме - жизни и смерти, подведению итогов, неизбежному уходу в небытие. И его отношение к этой теме – мудрое, философское, без паники и истерии, но и без панибратства и эпатажа.
И мы когда-нибудь сгорим,
Оставив теплый след.
И мы когда-нибудь поймем,
Что этот срок ничей.
И мы когда-нибудь уйдем
В мерцании свечей.
Но не надо бояться этого, поскольку:
Нет ни бессмертия, ни смерти.
Есть жизнь. И миг, где жизни нет.
И только в стихотворении «Мои тысячелетья», где поэт отождествляет себя с еврейством, он позволил себе воскликнуть, правда, не без горького оптимизма:
… Вокруг костры горят.
Но я иду. Но я живу. Я – вечен!
И я оставлю правнукам седым –
лишь только бы их возраст прерван не был! –
огонь и память, красоту и дым,
который – даже он! – ведет нас в небо.
Свидетельство о публикации №112120809447