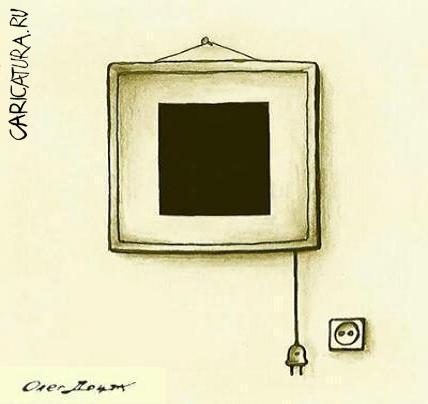Чёрный квадрат Города змей
(в сокращении)
Однажды, лет двадцать тому назад,
надувшись пива,
я прогуливался по широким питерским эспланадам
и в поисках отхожего места
нечаянно забрел в Русский музей
тогда ещё города-героя Ленинграда,
где, забыв, зачем пришёл сюда,
долго плутал среди анфилад,
пока не наткнулся на длинную очередь.
Что дают? – поинтересовался по привычке насмешливо я,
но никто из явно озадаченной толпы мне не ответил.
Одна старуха, судя по возрасту, блокадница
смотрела туда, где коридор заканчивался глухой
свежевыбеленной стенкой, в театральный бинокль.
Вежливо попросив её одолжить мне на минутку
оптический прибор, столь неуместный
в картинной галерее, я стал вглядываться вдаль
и увидел на белом поле несущей конструкции
черноту, чем-то напомнившую мне провалы
в моей памяти после обильных возлияний:
жизнь явно кренилась в сторону демократии,
а перестройка вот-вот грозила перерасти в перестрелку...
В этот день в Русском музее, как и во все
предыдущие месяцы и годы перемен –
не дай господь, кому-то из потомков наших
быть их очевидцами и свидетелями, –
давали Чёрный квадрат Казимира Малевича,
и слегка зомбированная этим обстоятельством публика –
горожане и гости Северной столицы -
ежедневно приходила сюда,
чтобы поглазеть на шедевр.
С криками: пропустите, я не местный! –
я стал нагло, как это только может позволить себе
заезжий пьяница, оказавшийся
в чужом городе транзитом, –
продираться сквозь живой частокол –
толпа, понятное дело, приняла меня за своего,
мол, нашего полку прибыло,
и нехотя расступалась, выдавливая меня
из себя, как из тюбика, поближе к
чёрной квадратуре, окончательно
затмившей тогда общественное сознание.
И вот я, не любящий авангард во всех его проявлениях,
оказался один на один с авангардистским полотном,
и испытал при этом лёгкую неловкость,
поскольку ничего в таком искусстве
не понимал и не понимаю.
Другая старушка, судя по возрасту,
помнящая ещё мятеж генерала Корнилова,
заметив мою растерянность, присоветовала,
обращаясь ко мне интеллигентно на вы:
вы вглядитесь в этот чудо, – сказала она, –
и увидите в этой пугающей черноте
бездну бесконечности, – а потом пояснила:
это отличает оригинал от подделок,
которые сделать легко,
но наполнить потайным смыслом,
вложенным в картину художником,
доселе не удавалось ещё никому из копиистов,
даже самому выдающемуся.
Шедевр находился под стеклом, предохранявшим
его от порчи и покушения вандалов,
я приблизил к нему свой взгляд настолько,
насколько это было возможно,
пока не уткнулся своим красным носом
в гладкую, скользящую поверхность,
но ничего кроме отражения в ней
своей рожи так и не разглядел,
и по привычке громко произнес свое любимое
слово из числа нейтральных ругательств,
допускаемых к употреблению в воспитательных
целях даже в дошкольных учреждениях: срамота!
Что тут сталось с духовно возвышенными окаменевшими
от соприкосновения с прекрасным питерцами;
их будто подменили: людская масса зашевелилась,
как клубок змей, лица людей превратились
в перекошенные физиономии –
на моих глазах их шеи вытянулись
от возмущения и вогнулись,
расправившись, как капюшоны,
угрожающе украшающие головы кобр,
и отовсюду я услышал жуткое шипение,
которое и по сей день подчас меня оглушает,
превращая в неврастеника и даже безумца.
Особенно усердствовали две мои новые знакомые –
корниловка и жертва блокады –
вот уж воистину две эстетствующие змеи,
забрызгавшие меня своей слюной...
Расталкивая зевак, кричащих мне вслед:
понаехали тут из деревень,
мешают эстетическому восприятию искусства! –
я бежал прочь от Чёрного квадрата Казимира Малевича,
не оглядываясь из страха увидеть, что непроглядный мрак
его бездны гонится за мной, чтобы поглотить
вместе со всем этим сонмищем уродов и уродок.
И это была не иллюзия и не бред,
а самая что ни на есть осознаваемая реальность:
если бы всё это мне только пригрезилось,
то я бы обязательно поместил это неувядаемое и по сей день
в моей памяти зрелище в свои иррациональные сны,
но это была пугающая и тиранящая разум явь.
Я бежал стремглав, не чувствуя
пинков и плевков, по коридору,
как безумный Германн,
прикупивший три туза на мизере,
как Арбенин, сошедший с ума
после того, как отравил свою благоверную,
как злосчастный Акакий Акакиевич Башмачкин,
с которого вместе с кожей, под которой
скрывалась ранимая душа, содрали новую
партикулярную шинель.
Я бежал и думал о том, что
в этом городе рано или поздно все
становятся сумасшедшими, заболевая
его каким-то особым заразным духом,
впитавшим в себя все добродетели
и пороки минувших и грядущих эпох.
Мгновение задержало меня в зале,
где стены украшали Взятие снежного городка
Сурикова и Девятый вал Айвазовского,
здесь можно было бы отдохнуть душой
и успокоиться, но настойчивый шип
по-прежнему гнал меня прочь,
на улицу, где средь равнодушно
дефилирующих людей можно было бы
избавиться от навязчивых слуховых галлюцинаций.
Снаружи серые тучи затянули небосвод,
слегка накрапывающий поначалу дождь постепенно
усилился, и я, спасаясь от него, сиганул в
в первую попавшуюся на Невском проспекте
распахнутую дверь, снова очутившись в замкнутом пространстве…
…Здесь размещалась гильдия неформальных художников –
авангардистов, модернистов et caetera, –
на стенах висели картины,
и со мною чуть было не приключилось дежавю.
Как здорово, что вы пришли к нам! –
мне навстречу бросилась какая-то толстая тётка,
как я узнал впоследствии, администратор
этого высококультурного заведения. –
сегодня вы у нас первый посетитель, –
и расплылась в дежурной улыбке.
Если бы не дождь, – хотел сказать ей я, –
только бы вы меня здесь и видели, –
да не успел: она задавила меня свои напором.
Рассудите, пожалуйста, нас, –
попросила администраторша. –
вот перед вами стоит свободный,
с позволения сказать, художник,
которому вчера немец, интурист,
почтенный человек, участник,
между прочим, блокады Ленинграда,
правда, с той стороны, предложил продать эту картину
за пятьдесят тысяч дойчемарок,
и просит взамен самую малость – сменить
тривиальное название Рожденные революцией на
Тофель, что в переводе с немецкого означает всего лишь Чёрт,
а этот балбес упирается.
Здоровенный детина в окладистой бороде
и грязном, со следами масляной краски
и былых трапез свитере стоял, понурив голову,
и молчал, а та всё не унималась:
дурак ты, Сидоров, рожденный ты не революцией,
в подзаборье идиот,
ну, скажи, на кой чёрт, скажи, тебе далась эта революция,
когда тебе предлагают такие деньги.
Впрочем, фамилия художника могла быть не Сидоров,
а совсем даже наоборот – Цукерблат,
мне сейчас этого и не вспомнить,
поэтому оговариваюсь на всякий случай по Фрейду:
дурак ты, Цукерблат!
Я бросил взгляд на предмет
меркантильно-эстетического спора:
на полотне была изображена безликая серая масса
граждан разного возраста и пола,
над которой простёр свои щупальца какой-то
мутант, чёрт – не чёрт, а скорее, осьминог,
он змеился над головами людей,
как бы покровительствуя им.
От одного такого вида у меня вновь
развились слуховые галлюцинации –
надсадное змеиное шипение, и чтобы
избавиться от них я предпочел спешно ретироваться.
И опять, сломя голову, как лишенный рассудка Евгений,
за которым гонится Медный всадник,
я бежал прочь, по мосту через Неву,
к уродливым ростральным колоннам,
считающихся одним из символов этого города –
самого странного места на земле.
Чёрный квадрат мерещился мне теперь во всём –
в габаритах унылых строений Васильевского острова,
в нависших над их громадами свинцовыми облаками
грядущего, неизбежного ненастья,
в непроницаемой бездонной Неве,
даже ростральные колонны
вдруг стали чёрными и квадратными.
Финский залив грозно гнал обратно в устье реки
чёрные квадраты волн – признак предстоящего
вселенского потопа.
Город был мрачен, и над ним выпростал
свои щупальца-змеи неотвратимый Тофель.
Так в прошлом бывало не раз:
разгневанная природа, которую потревожили
на этих пустынных берегах за три столетия
до случившегося со мной странного происшествия,
нет-нет да и напомнит о себе,
погружая город в пучину
его же сомнений и предрассудков.
Потоки чёрных, помноженных на миллионы
квадратов Малевича, валов
захлестывают его - град Петров
ревёт всеми своими сиренами и фабричными гудками,
как гибнущий над бездной Левиафан,
но потом вода вдруг отступает…
…и тогда рокот стихии вновь сменяет,
наполняя собой всё пространство, шипение змей…
…А так, - городишко неплох…
Свидетельство о публикации №112072500928