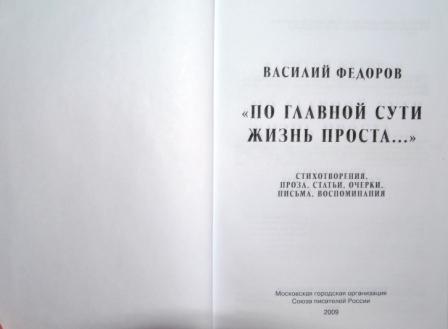Борис Леонов. Памятная встреча
В конце лета 1971 года требовательно позвал телефон. В трубке знакомый голос Василия Фёдорова:
- Борис! В три часа жду тебя в ЦДЛХ. Явка обязательна!..
И пока я еду по зову Василия Дмитриевича, есть возможность вспомнить о нашем знакомстве, об услышанных от Василия Дмитриевича суждениях о творчестве, об историях, связанных с его именем.
Познакомил нас писатель Иван Григорьевич Падерин. То ли в Доме литераторов, то ли в Правлении Союза писателей увидел я Ивана Григорьевича, беседовавшего с человеком, привлекшим к себе внимание седой гривой волос. Падерин позвал меня.
- Вы знакомы? Это Василий Фёдоров.
Пояснения были не нужны.
После нашего рукопожатия Иван Григорьевич сообщил:
- А мы с Василием Дмитриевичем только что вернулись из родной Сибири, где проводили семинар молодых литераторов. И привезли в столицу немало интересных работ, которые хотим предложить нашим издателям...
Потом я не раз встречал Василия Дмитриевича в стенах Дома литераторов, где он нередко проводил вечера за игрой в бильярд. А в ЦДЛ, как известно, о брате-писателе можно узнать много интересного, нередко обретшего уже форму фольклорного жанра байки. Знал я несколько баек и о Фёдорове.
Одна из них повествовала о том, как он, сидя с Владимиром Солоухиным за ресторанным столиком, восхищался стихотворением Михаила Светлова «Итальянец», что было написано во время Сталинградской битвы. Видимо, Солоухин не разделял фёдоровского восторга, потому как в результате Василий Дмитриевич якобы произнёс:
- Да за «Итальянца» я всего Блока отдам.
На что Солоухин заметил:
- Вася, побойся Блока!
Но Фёдоров уже был неостановим:
- А, собственно говоря, что ты написал? Что?
- Ну если так, то я отказываюсь разговаривать с тобой дальше...
Помню, как однажды на юбилее Ольги Константиновны Кожуховой в ответ
на упрёк одного из приглашённых в адрес соседа, что тот-де увлёкся спиртным и потому может не доехать до дому, Василий Дмитриевич включился в ход диалога между соседями, спокойно сказал:
- Не переживайте, доедет. Человек, судя по всему, добрый, а доброта всегда понимаема людьми. Расскажу вам о сцене, которую я наблюдал однажды на стоянке такси. Время было позднее. Народу на стоянке было предостаточно. И тут к ожидавшим такси пассажирам подошёл изрядно выпивший человек. Встреча, прямо скажем, не из приятных. От него попятились некоторые. Но тот встал пред людьми, раскинул руки и произнёс: «Я пьян, но я вас всех люблю».
И что же?! Подошла машина, и люди, не сговариваясь, предложили любящему их человеку вне очереди воспользоваться транспортом...
Жизнь подарила мне возможность общаться с Василием Дмитриевичем, слушать его выступления в различных аудиториях, включая и совещания молодых. Знал бы, что буду писать воспоминания о нём, конечно, многие его выступления конспектировал бы. А так приходится с трудом вспоминать то, что осталось в памяти. В частности, его беседу с молодыми поэтами в Доме творчества в Дубултах.
В беседе Василий Дмитриевич вспомнил, как он в юности занимался в новосибирском аэроклубе. В клубе, говорил Фёдоров, был заведён такой порядок: после возвращения из полёта, проходившего с инструктором, молодой учлёт выходил на крыло самолёта и отдавал рапорт, в котором он оценивал то, как он провёл свой полёт. Если что-то он делал хорошо, об этом тоже следовало сообщать в рапорте, как и говорить о допущенных ошибках.
Занимаясь поэзией, продолжал Василий Дмитриевич, он часто вспоминал о правиле рапортовать на крыле. Каждый из поэтов должен в какие-то творческие моменты выходить на крыло своего Пегаса и давать отчёт Музе - что и как сделано им. При этом быть предельно искренним перед собой. Между прочим, многие большие поэты обладали способностью такого объективного самоанализа. И тогда, скажем, Пушкин, написав своего «Бориса Годунова», без ложной скромности мог воскликнуть: «Ай да Пушкин!», а Блок, закончив «Двенадцать», записать в дневнике: «Сегодня я гений!» А Николай Алексеевич Некрасов? Это ведь самокритично честно он оценивал себя в поэзии: «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом». А если говорить о Есенине, то, кажется, он всю свою короткую жизнь стоял «на крыле» и исповедовался, нередко наговаривая на себя много лишнего.
И возвращаясь к аэроклубу, Фёдоров вспомнил, как неверно осуществил посадку, падая на землю плюхом. Это, говорил Федоров, болезнь начинающих пилотов. Называется она «потерей земли»: пилоту кажется, что земля - вот она, близко, и он начинает выравнивать самолёт, чтобы посадить его на три точки. На самом же деле до земли ещё метров пять. И, теряя скорость, самолёт плюхается на землю. Нечто подобное происходит и с молодыми поэтами. Вроде бы летит, летит, а потом, глядишь, и плюхнется. От этой болезни есть одно вернейшее лекарство - чаше выходить «на крыло»...
Шагая от метро к Дому литераторов, я всё-таки понял, что приглашение Фёдорова - не случайно. Дело в том, что 22 июня 1971 года в «Правде» была напечатана моя рецензия на его двухтомник, вышедший годом раньше в издательстве «Художественная литература». Называлась рецензия «Биография поколения ровесников революции» и начиналась так:
«Каждая встреча с избранными произведениями большого поэта по-особому интересна. И прежде всего потому, что открывает всё лучшее в его поэзии не частями, с которыми мы знакомились па протяжении многих лет, а сразу. Поэтому избранное - это словно единым дыханием воспроизведённый особый поэтический мир, обусловленной особой человеческой судьбой...»
Василий Дмитриевич встретил меня у входа Дома литераторов, прижал к себе и поблагодарил за добрые слова о его двухтомнике. В дубовом зале он заказал столик, куда мы тут же и присели.
Но прежде чем приступить к пиршеству, как выразился Фёдоров, он просто обязан мне рассказать эпизод своего знакомства с «Правдой» от 22 июня...
Очередное лето он проводил в своём родном селе Марьевке, что в Кемеровской области. И вот рано утром, когда он завтракал, под окном раздался знакомый голос:
- Василь Митрич, с тебя причитается.
Выглянув в окно, увидел почтальона дядю Колю с газетой в руках.
- «Правда» тебе хвалу воздала.
Дядя Коля развернул газету и, указав на то место, где помещена статья, медленно прочитал название. Свернув газету, заключил:
- Так что причитается. Уже, почитай, вся Марьевка знает.
- И пришлось мне всё-таки угощать земляков по случаю выхода твоей статьи. Для них ты устроил праздник.
Василий Дмитриевич улыбнулся и добавил:
- За мой счёт... Ну, а теперь с благодарностью хочу выпить за твоё здоровье и за доброе твоё сердце, биение которого я услышал в твоих словах обо мне грешном...
Он с удовольствием вспоминал о своей семье, о своей заводской жизни, об учебе в Литературном институте, о поддержке его творчества Александром Твардовским и Николаем Асеевым...
Завершилась эта памятная встреча с Василием Дмитриевичем у него на квартире. Тут он показывал мне снимки из семейного альбома, на которых запечатлены его родители, братья и сёстры, товарищи по учёбе в техникуме и в Литинституте.
Перед моим уходом он снял с полки свой двухтомник в голубой обложке и начертал такие дарственные слова:
Дорогой Борис Леонов!
Не плодил я эпигонов,
Не блистал в огнях неонов,
Сам светил как мог!..
И позже не раз пересекались наши пути с Василием Дмитриевичем, но такой продолжительной, откровенной и тёплой встречи, какой была та, больше не случалась.
БОРИС ЛЕОНОВ.
Свидетельство о публикации №112050307388