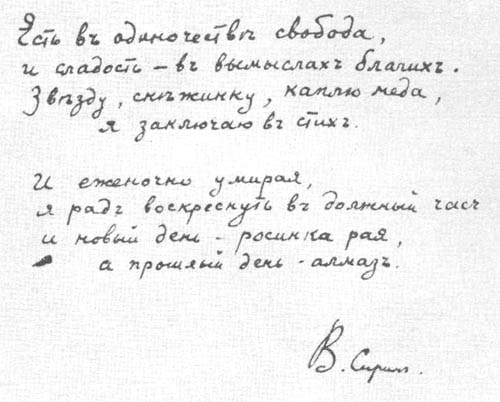Несколько строк из классика
Владимир Набоков (В. Сиринъ, Василий Шишков), поэт лучший, чем прозаик, однако стилист в прозе - изощрённейший, поэтичнейший. Чтобы вернуться к родному языку, вынужден был покинуть родную страну, и даже дальше.
НЕРОДИВШЕМУСЯ ЧИТАТЕЛЮ
Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
И будешь ты, как шут, одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время - раковина муз.
Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.
1930
МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ
Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я, и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной.
Если вдуматься, это как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полугоночном.
Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы, а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.
1938, Париж
"Путеводитель по Берлину" (отрывки)
"Конка исчезла, исчезнет и трамвай,-- и какой-нибудь
берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого
века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой
техники столетний трамвайный вагон, желтый, аляповатый, с
сидениями, выгнутыми по-старинному, и в музее былых одежд
отыщет черный, с блестящими пуговицами, кондукторский мундир,--
и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда
все будет ценно и полновесно,-- всякая мелочь: и кошель
кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная тряска,
которую наши правнуки, быть может, вообразят; все будет
облагорожено и оправдано стариной.
Мне думается, что в этом смысл писательского творчества:
изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых
зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную
нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни,
когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе
прекрасной и праздничной,-- в те дни, когда человек, надевший
самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для
изысканного маскарада."
"-- Это очень плохой путеводитель,-- мрачно говорит мой
постоянный собутыльник.-- Кому интересно знать, как вы сели в
трамвай, как поехали в берлинский Аквариум?
Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух
помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит
посредине биллиард, по углам -- несколько столиков, против
входной двери -- стойка, и за ней бутылки на полках. В
простенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на
коротких древках. В глубине -- широкий проход, и там видна
тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены, под зеркалом, из
которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой
клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната
относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его,
полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка.
-- Неинтересно,-- утверждает с унылым зевком мой
приятель.-- Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и
вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в
нем дорого...
Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в
глубине, в проходе,-- диван, зеркало, стол. Хозяйка убирает со
стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно
разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку.
-- Что вы там увидели,-- спрашивает мой собутыльник и
медленно, со вздохом, оборачивается, тяжко скрипя стулом.
Там, в глубине, ребенок остался на диване один. Ему оттуда
видно зальце пивной, где мы сидим,-- бархатный островок
биллиарда, костяной белый шар, который нельзя трогать,
металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним
столиком и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно
привык, его не смущает эта близость наша,-- но я знаю одно: что
бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину,
которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили
супом -- запомнит и биллиард, и вечернего посетителя без
пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по
шару,-- и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой,
наливавшего из крана кружку пива.
-- Не понимаю, что вы там увидели,-- говорит мой приятель,
снова поворачиваясь ко мне.
И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее
воспоминание?"
(Возвращение Чорба: Рассказы и
стихи. Берлин: Слово, 1930)
"Василий Шишков" (отрывок)
"(Признаюсь, неожиданная и непрошеная характеристика моей
литературной деятельности показалась мне куда бесцеремоннее,
чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради
конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее
конкретных денег, и, хотя этот второй пункт должен
подразумевать так или иначе существование потребителя, однако,
чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои
книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и
незначительнее мне представляются их случайные приключения, и
уж на так называемом читательском суде я чувствую себя не
обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из
наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется
странной фамильярностью, а хула -- праздным ударом по призраку.
Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору
Шишков так вываливает свое искреннее мнение или только со мной
не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что, как
фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но
несомненной, жаждой правды, так и его суждение обо мне
диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной
откровенности.)"
(Весна в Фиальте и другие рассказы.
Нью-Йорк: издательство им. Чехова, 1956)
Иллюстрация - автограф стихотворения В. Сирина "Есть в одиночестве свобода..."
Есть в одиночестве свобода,
и сладость -- в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю меда
я заключаю в стих.
И, еженочно умирая,
я рад воскреснуть в должный час,
и новый день -- росинка рая,
а прошлый день -- алмаз.
Из блеска в тень и в блеск из тени
с лазурных скал ручьи текли,
в бреду извилистых растений
овраги вешние цвели.
И в утро мира это было:
дикарь, еще полунемой,
с душой прозревшей, но бескрылой,-
косматый, легкий и прямой,--
заметил, взмахивая луком,
при взлете горного орла,
с каким густым и сладким звуком
освобождается стрела.
Забыв и шелесты оленьи,
и тигра бархат огневой,--
он шел, в блаженном удивленье
играя звучной тетивой.
Ее притягивал он резко
и с восклицаньем отпускал.
Из тени в блеск и в тень из блеска
ручьи текли с лазурных скал.
Янтарной жилы звон упругий
напоминал его душе
призывный смех чужой подруги
в чужом далеком шалаше.
Свидетельство о публикации №110102609736