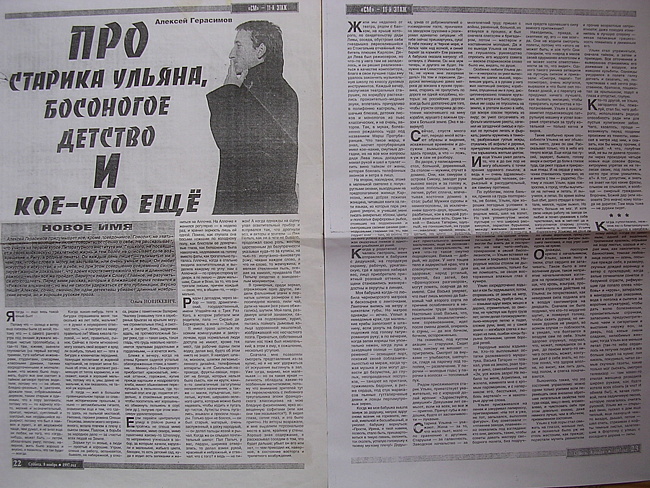мой первый рассказ
История создания рассказа такова. В 1995 году я увидел в рижской газете "СМ" (бывшая "Советская молодежь") объявление: в "русскую секцию семинара молодых авторов" при Союзе писателей Латвии приглашаются участники. (Была такая "русская секция" в то время, сейчас не знаю, я далек от СП). Чтобы стать участником семинара необходимо было пройти конкурс: прислать в СП определенный объем стихов или прозы, и ждать решения старших коллег.
И я очень захотел попасть на этот семинар.
Ситуация моя была такова: в 1990-ом году я демобилизовался из Советской Армии и сразу пошел работать, так как содержать меня было некому.
А куда мог пойти работать молодой парень без профессии и образования, чтобы сразу же начать нормально зарабатывать? Не знаю, может, есть другие вариант, но я пошел на стройку. И застрял там на несколько лет. Во-первых, деньги хорошие, во-вторых.... попробуйте после изнуряющей работы на стройплощадке заняться чем-нибудь еще - к экзаменам, например, поготовиться или на курсы какие-нибудь походить! Нет, может быть, есть такие, которые могут, но я был не из таких - до железного сверхдровосека мне еще было тогда далеко.
Я никогда не относился свысока к "простому народу" и с представителями любых социальных слоев всегда умел найти общий язык. Но за годы работы на стройках мне все эти пролетарии, мои коллеги, порядком остоебенели!!!!!!! Поймите меня правильно.... Все-таки Максим Горький и Джек Лондон - из самой гущи народной выросли. А у меня же только дедушки и бабушки были из рабоче-крестьянской среды, а папа с мамой уже принадлежали к так называемой творческой интеллигенции. Я не кичусь этим нисколько, просто это факт! У меня все детство прошло за кулисами драмтеатра и в актерском общежитии. Меня народные артисты на коленках качали, а примадонны позволяли играть своми бигудями. А юность у меня прошла в библиотеках, я "книжным" мальчиком был!
Нет, мне не было скучно с моими коллегами - пивка попить, по девкам пошляться и т. п. Но их общество со временем стало меня тяготить. И я очень резко порвал с этой средой. Уволился из строительной фирмы, пошел работать сторожем, стал сочинять немножко....
Но общаться мне в то время было практически не с кем. Я оказался в полном одиночестве, в своего рода "вакууме". Со старыми приятелями разошелся, а новых еще не нашел. Я просто охуевал иногда от одиночества - на стенку лез!
И меня тянуло к "художественной среде", но никаких связей с этой средой у меня тогда не было. Вообще никаких - абсолютно! И как обрести эти связи, я не знал. Это сейчас у меня никаких иллюзий насчет этой "среды" нет, а тогда - были! Я думал, там все как-то необыкновенно, чудесно, сказочно.
И нужна все-таки "среда", во всяком случае, первое время, очень нужна! Чтобы развиваться, небходимо регулярно общаться с коллегами.
И, увидев объявление, я сел сочинять для семинара рассказ, так как моих миниатюр было недостаточно. Я стал писать о своем детстве, это нормально - многие молодые авторы пишут сначала о детсве: другого-то материала пока нет!
Рассказ писался "ассоциативно", то есть, одна мысль цеплялась за другую - что приходило в голову, то я и записывал. Сюжета у меня не было. Я считаю, что это недостаток, но придумать сюжет и выстроить композицию, это самое сложное для меня. А словеса плести безо всякого сюжета - это очень просто. По десять страниц в день могу фигачить хоть левой ногой, да, вот, только зачем?!
Я отправил текст в Союз писателей. И прошел конкурсный отбор. Меня пригласили принять участие в семинаре молодых авторов. Более того, мой рассказ произвел на всех большое впечатление. Помню, говорили так: "Мы привыкли ругать молодых авторов, а тут мы в растерянности, потому что как бы и не за что особо ругать... Но попытаемся найти, за что бы поругать! Например, летающий человек - это литературный штамп, уже много раз такое было! И рассказ как бы делится на две разные части, в одной - театр, в другой - рабочая окраина... Вторая часть вроде бы послабее, ну, да... А вообще - очень живая проза, кинематографичная, все очень зримо, пластично..." Одна, правда, девушка, молодая поэтесса, выдала очень смешную рецензию, я смешнее ничего с тех пор не слышал, девушка сказала: "Я думала, что будет хуже!"
Еще помню отзывы о рассказе: "это постмодернизм", "это стеб над соцреализмом", "это в традициях русской литературы", "это насмешка над русской литературой".
В 1996-ом я поехал поступать во ВГИК. Но прежде нужно было послать в институт какие-то свои работы - для предварительного отбора. Я послал несколько прозаических вещей и меня вызвали, и вроде бы именно рассказ "Про старика Ульяна...." понравился больше прочих.
Провалившись во ВГИК, я на следующий год подал документы в Литинститут, на заочный. И поступил только благодаря "Ульяну..."! Дело в том, что все общеобразовательные предметы я сдал на "три" (по пятибальной системе). То есть, сильно не добрал баллов. В московский вуз даже с одной "четверкой" поступить сложно, а с несколькими "тройками" - невозможно. Но на собеседовании ректор Сергей Есин меня спросил: "Вы можете дать обещание, что станете гениальным прозаиком?" Я подумал: "Нет!", но ответил "Да!". И тогда я был зачислен в институт "особым решением приемной комиссии". Потом мне рассказали, что именно от "Ульяна...." приемная комиссия пришла в дикий восторг и решила, что именно я - Надежда Русской Литературы! (Елки, не оправдал-с, пока что надежды, извините....)
Вернувшись в 1997-ом в Ригу, я узнал, что рассказ принят к публикации в альманахе "Рижский вестник", который издавала Ирина Цыгальская, одна из организаторов Семинара молодых авторов. На этом выпуске альманах прекратил свое существование - я успел в последний вагон. Более того, я получил гонорар - и на мне гонорарный фонд закончился.... Вот, какой я, значит, удачник!
В это же время я стал сотрудничать с газетой "СМ", и одна из журналисток, покойная Ольга Новикевич, узнав, что я - первокурсник Литинститута, попросила дать что-нибудь почитать. Я принес рукописи (тогда была еще очень тонкая пачка, это сейчас у меня - два чемодана, наверное, если все распечатать). Рукопись лежала у Ольги на столе, вошла зам. главного редактора Наталия Севидова и ей попался на глаза "Ульян...", она стала читать его, потом подняла округлившиеся глаза и говорит: "Это чье?!" Я скромно потупился: "Мое..." Замредактора воскликнула: "Это надо срочно печатать! В ближайшем номере!" Я объяснил, что рассказ уже взяли в "Рижском вестнике". Замредактора позвонила Ирине Цыгальской и получила разрешение на публикацию в "СМ". Более того, "СМ" в мне тоже заплатили гонорар. Мне удалось продать один текст сразу двум изданиям! Не пошевелив даже пальцем. То есть, я вложил усилие только в написание текста, как такового, но никакой "пиар-компании" для его продвижения не предпринимал! Вывод: надо писать такие тексты, которые сами себе дорогу пробивают!!!!!!!! И с тех пор я именно такие тексты и пишу... Извините, конечно, за нескромность!
Решив опубликовать свой первый рассказ в Сети (автор газетного фотоснимка - Дмитрий Дубинский), я еле-еле удержался от соблазна хорошенько его отредактировать. Я сейчас уже не пишу так многословно, так "орнаментально", и "сказовая" интонация мне сейчас совершенно несвойственна. Некоторые абзацы "Ульяна..." меня даже коробят, мне их неприятно перечитывать. Но я решил, что надо оставить все, как есть! Отредактировать этот текст уже нельзя: недостатки его я вижу, но они так тесно переплетаются с его достоинствами, что отделить одно от другого невозможно. Рассказ надо принимать таким, какой он есть, или не принимать вообще. Как девушку, у которой, допустим, попа красивая, а уши - лопухами! Но вы же закрываете глаза на эти уши, если хотите трогать девушку за попу....
Итак,
ПРО СТАРИКА УЛЬЯНА, БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ
Я тогда – еще весь такой юный был!
Потому что – солнце и ветер еще ласковы были со мной; потому что – с самого раннего утра под окнами жужжали молодые чистые троллейбусы, а где-то там, южнее, звенели глуповатые (на первый взгляд) трамваи, туго набитые инженерами, студентами, слесарями, классными дамами, такими сосредоточенными и молчаливыми, что можно было подумать, будто все они состоят в тайном заговоре против водителя; потому что – на обоях, бледно-розовых, в цветочек, дрожали тени, отбрасываемые деревом, таким старым и одиноким, что впору заплакать; потому что – по карнизу кто-то, мелкий и незначительный, прыгал, чирикал, суетливый и шустрый, как неудавшийся карьерист; потому что был я наивен и прост, и ел мороженое чаще, чем думал, и не знал еще ни любви, ни того, что когда-нибудь, может быть – летом, обязательно умру; потому, наверное, жить было хорошо и вкусно, и казалось, что так будет – всегда.
Когда какая-нибудь тетя в бигудях спрашивала меня: так сколько же лет тебе, мальчик? – я думал и неуверенно отвечал: пять, - и смотрел на маму: правильно ли? Мама кивала головой, - мол, правильно, сынок. Сейчас я почти мгновенно могу назвать свой возраст и вряд ли ошибусь, только вот – тетя в бигудях и клеенчатом переднике, пахнущая котлетами и жареной картошкой, не спросит меня об этом, и не достанет размякшую от тепла карамелю, и не скажет, какой я хороший мальчик, потому что я, увы, давно не мальчик, и, как оказалось, не такой уж хороший.
Я тогда – жил в большом провинциальном городе со славным историческим прошлым, а ныне – автомобильном гиганте, знаменитым еще и тем, что где-то здесь, на пыльной мостовой, Ниловна, героиня романа Олеши Пешкова, земели моего неприкаянного, встала плечом к плечу с сыном своим, Павлом, в борьбе за народное дело – за счастье всех людей на земле.
Зорьки тут – ясные, а люди – простые и хорошие. Утром, спеша на работу, остановятся, бывало, на набережной, у откоса, рядом с памятником Валерию Чкалову (знавшему толк в серебряных брызгах на крыльях могучих стремительных птиц), и смотрят, и смотрят, блин, задумчиво вдаль, на противоположный берег реки, где – такая ширь, такая гладь, что грудь невольно наполняется чувствами радостными и горделивыми, - и хочется жить.
Ближе к вечеру, когда на стены Кремля садятся усталые обескураженные птахи, а памятник Минину-без-Пожарского приобретает красноватый, мясной оттенок, горожане, купив прежде картошки и ноздреватого хлеба, имеют обыкновение перекусывать в пельменных, где томатный соус или др. подается отдельно, в стеклянных розетках, чтобы посетитель мог хорошенько обмакнуть пельмень в соус (или др.), получив при этом максимум удовлтворения.
Если перейти центральную улицу в районе трынка и пройтись не спеша мимо поликлиники, мимо сквера, мимо памятника какому-то Штеллеру, то непременно уткнешься в забор, за которым: качели, карусели и маленькие, жабьего цвета, беседки, то есть, детский сад, куда я ходил есть запеканки и жениться на Аллочке. На Аллочке я женился регулярно – в неделю раз, и хранил верность лишь ей одной. Помню, как ступала она босыми ножками по холодному полу, как блестели ее доверчивые глаза, как белоснежна была наволочка, надеваемая на голову вместо фаты, как трогательно пугалась Аллочка, когда в спальню входила воспитательницы и выделяла каждому по углу: нам с Аллочкой - по правую сторону от двери, а по левую – двум малышам, Саше и Вове, за то, что они трогали письки, причем каждый – свою, что, в общем-то, нормально.
Рядом с детсадом, через забор – театр, драматический, государственный, имени Угадайте-ка с Трех Раз Кого, в котором работали мои родители, папа – Сирано де Бержераком, а мама – Зайцем.
Я имел право шляться по всяким комнатушкам и закоулочкам, куда нормальные люди доступа не имеют, кроме тех мест, где рабочие сцены пили водку, делая вид, что об этом никто не знает. Я находил: шпаги, монокли, шляпки легкомысленного дизайна, телефонные аппараты а-ля Смольный-на-проводе, фрукты-овощи, поросят на блюде, которых нельзя было съесть, как ни крути, какие-то симпатичные загогулины непонятного назначения, а также – маски, пупырчатые, патлатые, жуткие, шершаво-зеленого цвета, которые можно было надевать, чтобы ходить и пугать артистов. Артисты очень пугались, хныкали и просили пощады. Только один не боялся, - он был старый, матерый, очень заслуженный, в доску народный, - он делал пальцы козой и рычал. Когда же он слышал почтительный шепот: Пал Палыч, у вас, пардон, ширинка отверзлась, то делал взмах рукой, красивый и небрежный, и отвечал: что с того? я ведь – не пижон! А когда однажды на сцену упал осветительный прибор и взоварлся так, что дрогнули все, и актеры и зрители, - Пал Палыч, как ни в чем ни бывало, продолжал свою роль, жестом царственным до безупречности указывая куда-то за кулисы, на чью-то испуганно-виноватую рожу, чеканя каждое слово, а что ни слово, то жемчужина; и мелкая-стеклянная пыль, оседая на камзол, придавала Пал Палычу сходство с заиндевелым монументом.
В гримерных, среди зеркал, отражавших одно другое, сидели фальшивые усачи в пернатых шляпах размером с велосипедное колесо, пили чай, дули на чашки (все равно обжигались), шутили. Мой папа, раздвинув шпагой занавески, садился на подоконник, курил, пытаясь поймать дымовые кольца здоровенной нашлепкой, изображавшей нос несчастного поэта. Хотя собственый папин нос тоже был немаленький; в этом я ему, к сожалению, несколько уступаю.
Сначала мне позволяли смотреть представления из-за кулис, но я не мог удержаться от искушения выглянуть в зал. Уже тогда, видимо, моя маленькая – но ох какая яркая! – личность обладала каким-то особенным магнетизмом, потому что что внимание зрителей тут же переключалось с любовного треугольника эпохи французского классицизма на мою бледную физиономию, ярко освещенную софитами. Я видел глаза, сотни глаз, и это было приятно. Но актеры возражали и мне выделили персональное место в зале, крайнее у стены. Хорошо зная содержание, я рассказывал соседям о том, что будет дальше: убьт он его или нет, - чем приводил их, наверное, в состояние восторга и трепетного возбуждения.
Жили мы недалеко от театра, рядом с банком, на крыше которого, по свидетельству дяди Левы, соседа, обустроил себе гнездышко переселившийся из Стокгольма отчаянный любитель плюшек Карлсон. Дядя Лева был режиссером, но что-то у него там не заладилось, и он решил реализоваться в качестве композитора, благо в свои лучшие годы ему удалось закончить музыкальную школу по классу духовых инструментов. Каждый вечер, пугая театральных старушек, по коридору растекались пронзительно-медные звуки, вплетаясь причудливо в полифонию дребезжащих кастрюль, кошачьих блюзов, , детских писков и монологов из пьес классических и не очень авторов. Так, в муках, болезненно, рождалось чудо под названием «Марш протуберанцев». Что такое марш, я знал, насчет протуберанцев имел кое-какие, смутные догадки, но на все мои вопросы дяд Лева лишь досадливо махал рукой и шел в туалет – пить вино, тайком от жены, которая болялась телефонных звонков и ветра в лицо.
На втором, последнем, этаже в маленькой светелке с полукруглыми окнами, выходящими на предполагаемое жилище Карлсона, жила добрая пожилая женщина, читавшая книги на пяти языках, из которых пара уже давно умерли, и учившая меня писать акварелью: яблоки, цветы и полосатых фарфоровых рыбок, стоявших на подоконнике и смотревших своими синими равнодушными глазами на то, как падает снег – там, за окном. Но особого успеха я достиг, изображая сказочных гномов с идиотскими улыбками до ушей.
Когда у родителей случалась гастроль, меня отправляли к бабушке с дедушкой, на городскую окраину, рабочую, уркаганскую, где я здорово набирал вес, лицо приобретало приятный розовый оттенок, а щеки становились жизнерадостны и округлы в линиях.
Моя бабушка когда-то любила черноморского матроса в бескозырке с ленточками. Ленточки вились на ветру и щекотали губы. Но матрос однажды – исчез. Уплыл в неведомые края, где маленькие крабы заползают в штанину, стоит только уснуть на берегу, подложив под голову татуированную руку; а по вечерам, когда запах корицы так упоительно нежен, когда луна и и заходящее солнце – одновременно! – освещают порт, похожий своей соблазнительностью на мираж, когда чужая музыка и ром могут довести до безумства, до глупых неоправданных поступков, - танцуют на пристани, прижимаясь бедрами, в ритме сердца, под стук маракасов пьяные гуттаперчевые девки и ловцы перламутровых зерен.
Когда же моя бабушка вышла замуж за дедушку, матрос вдруг снова возник на горизонте, лихой, хмельной и бесшабашный, и умолял бабушку вернуться: «Прости, Ирина, я твой навеки, позволь мне, стало быть, пришвартоваться в тихую гавань, склонить, так сказать, усталую головушку к твоему мягкому плечу!» Дедушка, узнав от доброжелателей о неожиданном госте, примчался на заводском грузовике и реагировал адекватно ситуации: «Я тебе сейчас пришвартуюсь, сука! Я Я тебе покажу: и Черное море, и белых чаек над волной, и синий бархат за кормой!». Еле разняли. А бабушка сказала матросу: «Я останусь с Иваном. Он мне муж теперь и другого не будет. Не нужна мне Севастопольская бухта, не нужна мне лазоревая даль!» На том и порешили. Дедушка великодушно довез матроса до вокзала в кузове грузовика, стараясь не пропустить по дороге ни одной колдобины, которых на российских дорогах всегда было достаточно для того, чтобы утрясти соперника до состояния наскочившего на мину корабля, шедшего с важным грузом к Большой земле, эка я завернул!
Сейчас, спустя много лет, передо мной встают образы и видения, искаженные временем и досужим вымыслом, и что здесь правда, а что – ложь, я уж и сам не разберу.
Во дворе, у палисадника – стол, большой, деревянный. За столом – мужики, стучат в домино. Они, как самураи с острова Сикоку, заводят руки высоко вверх и за голову, и, набрав побольше воздуха в легкие, рубят сплеча, впечатывая костяшки домино в стол: рыба! Мужики суровы и немногословны, за исключением одного-двух, ершистых, разбитных, кои в каждой русской компании есть. Один такой – Васька Татарин, шуплый, но гоношистый, на груди – наколка: кривой якорь с цепью, на цепи – русалка, прикованная за шею, - объект пристального внимания мальчишек, еще не осознавших свою сексуальность, но уже что-то такое смутно ощущающих. Васька – добрый, но дурак. У него тощее тело и задиристый нрав, что в совокупности опасно для здоровья: народ усталый, простой, без затей, без «французских разговоров», могут помять, осерчав да во хмелю. Сам Васька уверяет, что пьет лишь молоко да байховый чай второго сорта по причине ослабленного в непосильном труде здоровья. Настолько слаб Васька, что измотанный социалистическим соревнованием, идет после смены домой, опираясь о стены, да все бочком, бочком, осторожненько.
На скамейке, под кустом акации – старушки. Сидят тихо, никому не мешают – пригрелись. Смотрят за внуками – улыбаются; шепчутся, глядя на парочку под тополем, - развлечение. У парочки – молодые годы, у парочки в волосах – тополиный пух.
Рядом присаживается старик Ульян, приветствует уважительно, но с изрядной долей иронии: «Здравствуйте, девушки!» Девушкам лет семьсот, если на всех, но все ж – приятно. Прячут губы в ладошки, будто от застенчивости – лукавые.
Старика Ульяна – уважают. Жена – за то, что мало пьет, мало – по сравнению с другими. Старушки – за галантность. Заводское начальство – за многолетний труд: пришел с войны, раненный, больной, но втянулся в процесс, и был сначала слесарем и бригадиром, потом – мастером и наставником молодых. Да и по выходе Ульяна на пенсию не гнушалось руководство спросить его мудрого совета – веское стариковское слово было им, видать, по душе.
Особенно любили Ульяна дети – и неспроста: он умел вытаскивать из шапки мышей, норовивших удрать, а в рукаве у него жил настоящий скворец; бумажные корабли, спущенные им лужу, дисциплинированно плавали кругами, хотя ветра и не было; надуваемые им шары не опускались на землю, а улетали высоко в небо, где вскоре совсем терялись из виду; он умел сворачивать из фольги маленькие ракеты, начинял их секретной смесью и пускал по пустырю летать и фыркать; ракеты кружились в темноте, разбрасывая густые искры, стукались об асфальт и деревья, причудливо вытанцовывая, а потом взрывались желто-красными цветами.
И еще Ульян умел делать то, что я до сих пор не могу объяснить с точки зрения здравого смысла, а ведь я – очень здравомыслящий молодой человек, серьезный и рассудительный, аж самому противно.
По субботам, после баньки, приняв на грудь полтораста, не более, Ульян, при хороших погодных условиях и плотной концентрации народных масс, шел на взлет. На уже упомянутом мною пустыре – что широко раскинулся, зарастая бурьяном, между жилыми домами и парком культурного отдыха в тоскливом ожидании строительных бригад, которые могли бы взять да и построить на нем чего-нибудь, прекрасное в своей бесполезности, - Ульян вставал на холмик и закрывал глаза. Народные массы стояли не дыша, не шелыхаясь, только бы не помешать, не сводя восторженных влажных глах с кумира.
Ульян сосредоточенно вздыхал и как бы задумывался; потом, оторвавшись от земли на метр, облетал пустырь, пробуя силы, и – взмывал вдруг вверх, мощно и дерзко, стремительно, со свистом, не чувствуя как будто груза лет; затем делал головокружительно-изящную петлю и падал, сложив руки, вниз; но у самой земли – изгибался слегка и выходил из пике, сшибая концы бурьяна ботинками, цепляя бородой репей.
Народные массы вздыхали. Кто-то выплевывал остатки разжеванного мундштука. Васька Татарин – плакал, упав на землю, рвал траву и дико, самозабвенно выл: «Эх, уся жизнь за зря! Не любила ты меня, Агриппина, не жалела, изменяла мне с хромым паромщиком и с напарником его, бесстыжая, любовь вертела!...» - и некоторые другие слова.
Ульян присаживался на пенек и закуривал папироску, приговаривая: «Не тот я уже, не тот, запыхался, выполняя фигуры!» Ему советовали: «плавнее заходи, плавнее», - но осекались под взглядами: кто они, дескать, такие, чтобы советы давать мастеру свободного полета, без подручных средств одолевшего силу земного притяжения?
Находились, правда, и скептики: ну, это – как всегда. Они не ходили смотреть полеты, потому что «этого не может быть, и все тут!» Они говорили, что «народ в массе своей одурманен алкоголем и не может нести ответственности за то, что видит». Одного такого умника затащили на пустырь силком и приказали: «Смотри, падла!» Тот посмотрел, очень испугался, вырвался и что было сил побежал домой, и с перепугу не придумал ничего лучшего, как вызвать милицию, чтобы прекратить хулигантсва и поползновения. Ульяне с высоты заметил подъезжающую патрульную машину и успел вовремя спрятаться за трубу котельной – только кепка и видна!
Такие необычайно яркие способности Ульяна не мог объяснить никто, даже он сам. Рассказывал только только, что в небо его тянуло всегда. Еще когда пас гусей, задерет, бывало, голову вверх и смотрит до боли в глазах туда, где реют гордые и прекрасные птицы. И на сердце у мальчонки становилось тревожно, но и вместе с тем – радостно. Потому и пошел Ульян, едва повзрослев, в город, чтобы выучиться на летчика и летать. И выучился, и летал. Во время войны был сбит, долго страдал в госпитале, маялся, чудом выжил. Но летать больше не мог. И хотя свою новую работу на заводе он любил и почет-уважение к себе чувствовал, все ж нет-нет да и взгрустнется старому соколу, лейтенанту запаса Ульяну Федоровичу Уськову: не спал он ночами, ворочался, прокручивая в воображении фигуры высшего пилотажа, и под утро шел курить на кухню.
Однажды, поспорив крепко с начальником, Ульян, зажав пилу в тиски, стал сердито ее затачивать. Такое было в нем неприятие начальнических взглядов на производство и вообще, что кровь, взыграв, произвела странное действие на Ульяна: он почувствовал, как неведомая сила полняла его в воздух сантиметров на двадцать. Сначало он было подумал, что кто-то неудачно шутит, и повернул голову, чтобы охаять дурака; но никаких дураков не увидел, во всяком случае – поблизости, а увидел, что болтается в воздухе сам по себе. Ульян здорово струхнул, подумал, что, может, повредился он в уме, до пенсии всего-то ничего осталось, может, контузия дает о себе знать, но потом понял, что здоров вполне, но висит, висит, как пить дать, над полом и слегка покачивается.
Выяснилось также, что это состояние управляемо: можно одним только усилием воли перемещать свое внезапно обретшее летательные свойства тело туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево, и чувствовать себя при этом довольно сносно, даже немного лучше, чем в обычном приземленном состоянии.
Ульян с той поры стал свежеть на глазах, меньше пил, да и похмелье было уж не столь жестоким, как прежде; перестали мучить ревматизм и прочие возрастные неприятности; даже походка изменилась в лучшую сторону – некая пеликанья грациозность появилась в движениях его.
Ульян стал упражняться, сначала тайком, а затем и прилюдно. Все отточеннее и вывереннее становились его движения в воздухе, все изящнее кульбиты. Однажды изловчился в полете галку догнать и схватить, но, почувствовав к ней нечто родственное, братское, пощекотал за крылышками, подул в глаза и отпустил, глупую.
Кто-то другой не Ульян, загордился бы, пожалуй, стал бы, чего доброго, использовать редкую способность ради или для пустых хулигансикх забав. Чего, казалось, проще – возникнуть перед поздним прохожим из темноты, нависая в метре над ним, и сказать, как бы между прочим, с ехидцей: «А что, голубчик мой, не вы ли давеча пронесли через проходную четыре новых еще совсем фрезы, хитроумно упрятав их на телесах своих, под пальтом, и нагло при этом ухмыляясь, а?!. А тот, допустим, и знать не знает ни про какие фрезы, слыхом не слыхивал, и вообще – смирный гражданин.
Впрочем, Божий дар (или назовите Это иначе) кому попадя не дарится: Там ведь тоже – не дураки сидят!
Когда лупоглазое, нежное лето балгополучно подходило к неизбежному концу, когда по заветным, одной ей ведомым тропинкам кралась, обрывая на ходу листья, шурша и играя ими, как накопитель – банкнотами, томная любовница поэтов – осень, посылая прежде себя, в разведку, скучных дождей вереницу и ветер с прохладцей; когда вялые сочинители сонетов о безумной страсти, рифмующие где попало слова «любовь» и «кровь», запирались в мансардах (где сквозняки, вода с потолка и сыпется за воротник штукатурка), чтобы дать волю болезненным пронзительным строчкам, запасшись предусмотрительно чаем и сигаретами, и выставив наружу вон, за дверь, под косые ливни сладких, нелюбимых женщин; тогда Ульян все меньше летал (так-как небо сердилось на летучих людей) и все больше сидел на кухне: пил кисель, покуривал, читал самые скучные газеты, какие только мог сыскать, смотрел телевизор – там какая-то спелая женщина разводила широко руками, как будто хотела всех обнять (а что? и обняла бы!), и задумчиво, качая головой, пела старинную русскую песню; Ульян же открывал окно, пускал в дом еще теплый, еще пахнущий чем-то воздух, дышал, потом – шел спать, стряхивая с кофты темные листья, залетевшие в форточку с улицы, с соседнего дерева – липы.
Свидетельство о публикации №110032905028
:-)
С уважением, автор единственного рассказа
Сергей Б.
Известый тут под литпсевдонимом
Александр Белов 12.09.2011 15:28 • Заявить о нарушении