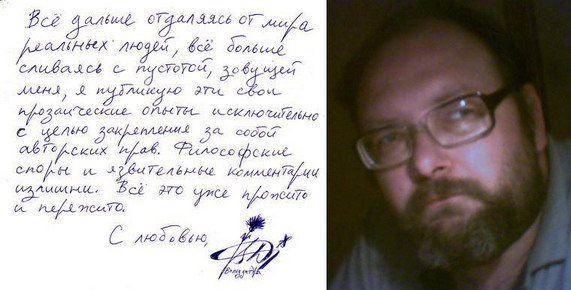Душа Вольда
Всякая история должна быть рано или поздно рассказана. И сейчас, когда я дошел до того, что даже ангелов посылаю ко всем чертям (как и они меня, впрочем; но я не о том, время этой истории еще не пришло), я почувствовал, что момент настал. Мне уже ничего не поможет, но может быть кому-то сгодиться то, что осталось от моей души…
..................«Chudo:
..................Бывают разные ситуевини и разный расклад,
..................пытаешься к человеку со всей душой, он к тебе задом…
..................Вольд:
..................Chudo, и не говори... Открываешь человеку всё
..................лучшее в душе, а он туда срёт... Как-то потом
..................этой душой и пользоваться-то неловко...»
..................http://forum.arock.ru/viewtopic.php?t=588
… Летом 1988 года я приехал в Ленинград и поступил в Политехнический институт. Отличник, золотой медалист (что, однако, не помешало мне сдать экзамен по математике на «4»), человек, однако, достаточно серый и скучный даже самому себе. Как жаль, что не сохранилось фото с первого моего паспорта – там на физиономии всё написано было. Конечно, уже тогда я интересовался поэзией и музыкой, до последних дней в Астрахани занимаясь в Клубе юных журналистов при Дворце Пионеров, но все попытки создать что-то самому терпели неудачу за неудачей. Даже не знаю, зачем я взял с собой гитару – играть я всё равно не умел толком и преподаватель, тщетно пытавшийся научить меня хотя бы азам игры, давно махнул на меня рукой и заявил, что слуха у меня нет и не будет.
Так или иначе, я начал учёбу и судьба свела меня со множеством интересных людей, среди которых был и Иван И. Это сейчас он известная личность в мире музыки, а в ту пору он тоже только еще начинал свой путь, терзая инструмент иногда почем зря и пытаясь найти новые созвучия среди известных звуков.
И вот зимой 1989 года мы направлялись к нему домой. Надо сказать, что в ту пору я жил в общежитии, он же в силу некоторых обстоятельств (среди которых музицирование занимало далеко не последнее место) предпочел снимать квартиру, точнее – комнату, у одной бабушки. Квартира эта располагалась не то чтобы сильно на отшибе, но добираться до неё было не самым увлекательным занятием на свете: на автобусе (кажется №19, но не ручаюсь) от Финляндского вокзала по мрачноватым улочкам мимо каких-то заводов. Долгая нудная дорога.
Цель, которую мы преследовали, естественно была связана с творчеством – попить коньяка (к которому он же меня и приучил) и попытаться сделать совместную песню: у него была наготове мелодия и набросок текста, который надо было довести до ума. Заранее скажу, что попытка в тот раз потерпела неудачу, лишь где-то в голове осталось рефреном:
«…но бешеный поезд несётся в пропасть.
Расслабьтесь, все мы – его пассажиры.
И даже паденье не сулит нам покоя».
(Никаких ссылок на «Темную Башню» - Стрелок в то время еще только извлёк своих друзей, и про существование Блейна Моно даже Кинг вряд ли еще подозревал. Тут ближе, наверное, «Желтая Стрела» Пелевина.)
Мне нравится общаться с ленинградцами, ныне – петербуржцами. Хотя не раз и не два говорил я фразу о том, что москвичи мне нравятся больше, что петербуржцы – люди самозамкнутые, но – есть в них какое-то очарование, недоступное жителям других городов, этакая утонченная интеллигентность, даже у бомжей. Может быть, сейчас это немного изменилось, но не думаю, что сильно.
Так вот. Мы, сев у Финляндского вокзала на заднюю площадку автобуса №19, двигались в сторону проспекта Энергетиков (боюсь ошибиться, но кажется – так), а толпа прижимала нас (разумеется, по-питерски интеллигентно) к заднему стеклу. И рядом с нами прижимала типичного питерского бомжа – одетого в какую-то рванину, с запахом перегара из черного рта, с грязной седой бородой и в невообразимой шапке набекрень. И вдруг, повернувшись к нам, и, очевидно, разглядев родственные души, он предложил: «А хотите, я стихи вам почитаю?» Дорога всё равно была скучной и мы с Иваном согласно кивнули. И бомж в переполненном автобусе, ползущем по серым зимним улицам, стал читать нам свои стихи:
«По улицам, по заснеженным,
Бредешь ты к себе домой,
Невозмутимо поверженный,
Боясь не сойти с кривой…»
Конечно, это не точно его стихи, но было там многое: и снег, и Питер, и философия – короче, всё то, что можно только в Питере услышать от бомжа, едущего с тобой в одном автобусе.
Не помню в какой момент бомж подмигнул мне и склонился ближе: «Хочешь писать так же?» Мне было всё равно, и я ответил – да. «Если хочешь, я могу тебе продать душу эту. Мне кажется, она подойдет тебе». «В смысле?» - я оглянулся по сторонам. Народ, казалось, застыл, и наш разговор никто не слышал. Но как-то всё равно неуютно ощущать себя в роли Мефистофеля. «Мне уже всё равно, я пропал – а ты сможешь писать хорошие стихи. Правда, в нагрузку придется тебе и часть моей судьбы испытать – лишения, скитания, безответную любовь, быть может… Заранее всегда трудно сказать. Я, когда мне эта душа досталась, тоже много не понимал.» «Так ты мне даже не свою душу предлагаешь?» «Конечно, нет. Это – бродячая душа поэта одного, уже позабытого всеми. Имя забыто, а душа – вот она, у меня внутри. Бери, недорого возьму?» - жестом профессионального продавца он схватил меня за рукав куртки, как будто так его слова звучали более убедительно. «Сумасшедший…» - мелькнуло в голове. И, чтобы отвязаться, я снова сказал – да, беру. «Мне рублика вполне хватит», - радостно потёр он руки. – «И тебе – душа поэтическая, и мне – на опохмел как раз!» Я, пошарив в кармане, протянул ему рубль, и тут Ваня, как будто очнувшись ото сна, воскликнул: «Быстрее! Это же наша остановка! Чуть не проехали в темноте этой!» Я почему-то сунул-таки мятый рубль в черную руку моего «продавца душ», и мы выкатились наружу.
Если вы спросите Ивана И. об этой истории, он, скорее всего, вспомнит и поездку ту, и бомжа, читающего нам стихи, а вот диалог тот вспомнит вряд ли. И я бы сомневался, наверное, если бы весной того же года, гуляя по Невскому, не подцепил лихорадку.
…Тому, кто читал историю Родиона Романовича, нет нужды, наверное, описывать, что представляет из себя петербургская лихорадка. И лучше, чем у Фёдора Михайловича, у меня вряд ли это получится. Идёшь по Невскому возле Гостиного Двора, спускаешься в переход послушать музыкантов, играющих там, и где-то между Майком и «Крематорием» чувствуешь – как-то нехорошо стало, надо бы домой поспешить, чтобы не упасть прямо здесь к радости зевак. Потом я не раз использовал описание этих симптомов, когда надо было продлить сессию – температуры нет, давление высокое, голова кружится, что со мной – не понимаю. И каждый раз срабатывало, правда писали всё равно «ОРЗ», хотя мне кажется, это какая-то петербургская разновидность гриппа или что-то около.
И вот ты садишься в вагон метро и проваливаешься в больную тревожную дрёму-сон. А открыв глаза, видишь, что вагон-то пуст. И стоит где-то в темном туннеле. Но пока ты постигаешь эту реальность, вагон снова приходит в движение. Однако ты продолжаешь в нем ехать в каком-то бреду: несмотря на остановки, вагон по-прежнему пуст. И вдруг ты понимаешь, что всё-таки люди где-то здесь – они отражаются в стеклах вагона. Пустого. Но у тебя даже нет сил запаниковать. А потом вдруг на сиденье напротив обнаруживаешь того самого, уже забытого тобою, бомжа, радостно улыбающегося тебе: «Ну вот! Я же говорил – ты подойдёшь! Всё уладилось! Теперь ты – настоящий поэт!» И снова проваливаешься в дрёму, осознав, что на следующей остановке люди, реальные люди, начинают заходить в вагон.
И ты, не помня как, оказываешься дома – на своей койке в общежитии. И три дня валяешься в окружении бреда, наполненного видениями и символами, понятными только тебе (в тот миг). А через три дня встаешь, ещё не понимая, что всё изменилось. В жизни. И в тебе.
…Спустя некоторое время я вновь прогуливался по Невскому проспекту – без определенной цели, просто так. И поэтому, когда возле касс «Аэрофлота» на меня налетела цыганка с намерением выпотрошить мои карманы, я заинтересованно остановился. Нет, я, конечно, понимал, что рискую остаться голышом среди улицы, но любопытство победило. Никогда еще не испытывал я этого жизненного опыта – общения с гадалкой. А она, видя перед собой стандартного лоха, поспешила отвести меня подальше от людских глаз, и начала извечную песню всех цыганок: «Ой, касатик, вижу, вижу горе твое! Дай мне нитку какую, я по ней тебе сейчас всё расскажу! Стоп-стоп! Только нитку просто так нельзя давать, надо в нее денежку какую-нибудь завернуть!» А мне что, у меня два рубля и те мелочью, грабь – не хочу. «Ой, вижу, касатик, не всю ты правду говоришь, есть у тебя где-то бумажечка заветная!» И за руку меня теребит. «Да нет, - говорю, - нет и нет». «Ой дай по руке гляну, сейчас я скажу даже, где она у тебя лежит…» - начала было гадалка и осеклась. Замолчала, потупилась, и даже как-то участливо на меня глянула. «Вон оно как. Есть, да не здесь, значит... И кому из вас двоих правду говорить – тоже дело темное. Да и надо ли оно, говорить…» «Ну уж коль начала – говори». Заулыбалась цыганка и понесла какую-то, как тогда показалось, ахинею: «Всё у тебя будет хорошо. Только трудно быть одновременно двумя. Но ничего, глядишь, и выдержишь. Много боли будет. И много хорошего. Но берегись – дар твой хрупкий, от зла, тобой сотворенного, может боком выйти. Терпи. И рубль свой мятый себе оставь – не по мне он, не по силам…» Зашуршали юбки, и цыганка скрылась в какой-то подворотне, оставив меня в остолбенении переваривать эту чушь. Храня в руке ощущение того самого мятого рубля, как будто минуту назад бывшего там…
И с тех пор пропал отличник, завертела меня судьба бродячей души безвестного поэта. Из Политехнического института меня той же весной отчислили, как не раз отчисляли или пытались отчислить потом из разных учебных заведений. Влюблялся я неизменно безо всякой взаимности, зато неистово и продолжительно. И, конечно же, писал стихи и песни – практически по любому поводу, не задумываясь. И радуясь, что с каждым разом они удаются всё лучше и лучше. И рассказ свой первый сознательный я написал именно около Финляндского вокзала, в сквере напротив той самой остановки, где сел морозным вечером 1989 года в автобус №19. Многие замечали случившиеся со мною перемены, но списывали это на влияние Питера и его атмосферы. И славили мою доброту, доходящую порой до полного альтруизма и идиотизма. И только я знал цену всему происходящему…
…Почему я решил рассказать об этом только сейчас? Всему наступает рано или поздно конец. Права была гадалка, права. Дар – он хрупкий, зла не терпит. А я – совершил зло. В результате событий прошлых месяцев я не сдержался и выплеснул из себя слова, которые не имел права говорить, и за которые мне нет и не будет никогда прощения. Я совершил зло, и теперь всё труднее удерживать в себе душу бродячего поэта. Она покидает меня, меня уже практически нет. И осталось лишь найти для нее новое достойное вместилище.
Посему, пользуясь возможностью, я объявляю АУКЦИОН для желающих приобрести себе эту душу вместе с её метаниями, сомнениями, склонностью к перемене мест и неустроенностью личной жизни. Заранее предупреждаю, что выбор будет сделан не мной – я потерял это право. И помните – вы покупаете не только дар поэта, но и его судьбу. И – вечный альтруизм как расплата. До тех пор пока вы не сможете больше его терпеть, и не совершите зла. Как я, затерявшийся на дорогах…
«…По улицам, по заснеженным,
Бреду я к себе домой,
Невозмутимо поверженный,
Боясь не сойти с кривой…
По улицам, по безбрежным
Дороги мне не найти,
Но, потеряв все надежды,
Я продолжаю идти…»
Где-то в Астрахани, 4-20 января 2007.
P.S. Прошло с тех пор уже почти три года... Никто так и не решился принять на себя моё бремя, только разве что на словах.... Так что АУКЦИОН продолжается, господа присяжные заседатели!
…А я? Я останусь просто человеком. Может быть, я по инерции еще некоторое время и буду писать стихи, песни, рассказы – но это будет уже не Вольд. Вольд умер. Вернее, умрет, как только душа его найдет себе новое место.
«Офелия, о нимфа, помяни меня в своих молитвах…»
Свидетельство о публикации №109122102550